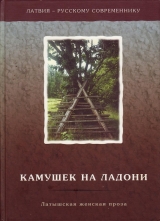
Текст книги "Камушек на ладони. Латышская женская проза"
Автор книги: Илзе Индране
Соавторы: Инга Абеле,Гундега Репше,Айя Лаце,Регина Эзера,Дагния Зигмонте,Андра Нейбурга,Лайма Муктупавела,Визма Белшевица,Нора Икстена
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Коротка Янова ночь. К утру, когда упала прохладная роса и вокруг бродили серые тени, Вилюм почувствовал усталость. Парни из именья еще звали его куда-то, – то ли озоровать, то ли пиво пить, но Вилюму не хотелось ни того, ни другого, он тяжело зашагал в свою каморку. На шкафчик чья-то рука положила ночные фиалки, к утру у них тоже иссякли силы источать аромат, но всю ночь они пахли, и комната была наполнена самым летним, самым пьянящим запахом. Когда Вилюм проснулся, голова у него была совсем дурная.
Поскольку Янов день выпал на середину недели, через два дня было воскресенье, и священник – вот так счастье! – выздоровел. Хозяйка, узнав, что Вилюм пойдет к причастью, наказала девкам постирать и привести в порядок его одежду. Это сделала Юленька, Вилюм пошел в церковь в белой, как лебедь, рубашке, да, рубашка сверкала так ослепительно, что даже отбрасывала голубоватые блики.
Вместе с другими прихожанами Вилюм опустился на колени перед алтарем, а в середине стоял священник с большой серебряной чашей и блюдом облаток. Вместе с Вилюмом была и Юленька, она старалась держаться во храме как подобает и не смотреть на Вилюма, но глаза ее то и дело метали взгляд наискосок, и тогда она видела, как изыскан и благороден Вилюм – ни дать ни взять настоящий лесник. Такой мог бы держать несколько коров и возить масло в город. Лесник в волости большой вес имеет, перед ним даже те, что старше, хозяева, шапки снимают, чтобы благорасположения добиться. Мы будем как сыр в масле кататься, замечтавшись, думала Юленька и вздрогнула, когда к ней приблизился священник, лицо его над крахмальным воротничком выглядело таким суровым. Может, он умеет читать мирские мысли своих прихожан? Юленька быстро проглотила облатку и выпила несколько капель красного вина, сухая облатка долго сидела в горле и не хотела спускаться вниз, и Юленька с завистью глянула на Вилюма, как быстро и легко он справился.
Потом, светлые и обновленные, они вышли из церкви. И колокола на башне пожелали им успеха своими металлическими голосами.
Юленьке очень хотелось спросить, не возьмет ли Вилюм ее с собой посмотреть Каршкалны, но не смогла собраться с духом.
У ворот церкви они расстались сами того не желая, навстречу шла знакомая девушка и поздоровалась, а Вилюм тем временем был уже далеко. Слабыми еще были связи, соединявшие их.
По пути Вилюм встретил кузнеца.
– Ну, был у причастия? – спросил тот, и Вилюм кивнул.
– Хотел тебе сказать, – продолжал кузнец, – то, о чем мы с тобой тогда в кузне говорили…
– О чем? – спросил Вилюм с таким равнодушным видом, что кузнец не стал продолжать. Чтоб не обрывать разговор на полуслове, они обсудили виды на сенокос, дни стояли – лучше не придумаешь, а по весне долго держался холод и было сухо, конюх считал, что на взгорках с косой еще делать нечего.
– Своей-то буренке я по горстке наберу, – говорил кузнец, и в голосе его звучала уверенность, что уж больше будет, чем по горстке. Вилюма, казалось, не очень заботили виды на сенокос. Он выглядел занятым.
Да, Вилюм был занят. Ровным шагом он поспешил в именье, где было спрятано Янкино ружье. Резво взбежал на второй этаж к каморкам холостых батраков. По пути никто не встретился, это хорошо. Ничего запретного и тайного Вилюм не сделает, но и свидетелей он тоже не жаждал. Когда станет ходить с ружьем на плече и это будет его обязанностью, тогда дело другое. Разум Вилюма словно подменили после той встречи в кузне. Теперь препятствия ему создавали собственная нерасторопность и недостаток уверенности.
На шкафчике больше не было ночных фиалок. У летних цветов короткая жизнь, потому они так и хороши.
Солнце на небе поднялось в самый зенит, и с синих высот лился зной. Барин, должно быть, сокрушается, что не может в воскресенье заставить людей работать. Самое время для сенокоса, все, что сегодня скосишь, завтра можно в сарай складывать. Когда Вилюм поселится в Каршкалнах, в такие дни он воскресенье соблюдать не станет. Священнику это не понравится, но разве священник станет зимой заботиться о скотине Вилюма? В такое время сено сохнет, как табак. А уж душистое… еще душистее, чем табак!
В этакий зной трудно было идти, и Вилюм с нетерпением всматривался в синюю кромку леса, а та все не хотела приближаться. Как доберется до нее, будут ему и тень, и прохлада.
В еще не скошенных лугах стрекотали кузнечики, к Янову дню они и появляются, будто ждут, когда трава настолько вырастет, что в минуту отдыха можно на нее и скрипку повесить. Но кратки радости в покосных лугах, скоро здесь будет голое место, и кузнечикам придется столкнуться со всякими опасностями. К осени они начнут забираться на деревья и кусты, чтобы их самые последние песни разнеслись далеко-далеко и на всю жизнь остались в памяти слушателей. Говорят: беззаботный как кузнечик. Да, возможно, этакому кузнечику и неплохо живется, что с того, что в конце концов придут зима и мороз, зато все лето он поет в свое удовольствие!
Наконец вот она тень, но ружье по-прежнему давило плечо. Вилюму хотелось поскорее сделать дело, ради которого он пришел сюда, но непреодолимое желание гнало его прежде завернуть в Каршкалны. Здесь он будет жить, здесь останется. Он миновал большой муравейник, где все замерло, видно, и муравьи чтили полуденный час. Невольно Вилюм помрачнел. Это же тот самый час, когда всяких духов, добрых и злых, выпускают на волю, и они стремятся делать свои дела, для которых и созданы.
Вилюм усмехнулся. Дело, которое он задумал, тоже было не из самых светлых, точно – нет. Но раз так, то чем скорее он его сделает, тем лучше. Пальцами, огрубевшими от работы, он ощупал карман, где лежало нечто, завернутое в носовой платок. Все было на месте.
Каршкалны находились в красивом месте. Вдоль сада тек безмолвный ручей. Вилюм вдруг ощутил жуткую жажду, нагнулся и с наслаждением попил из своего ручья, конечно, кому же еще он будет принадлежать? Старый лесник на том свете, он больше не придет сюда воду пить. А если и придет, то в ночь предков, и Вилюм не поскупится, накормит его. Он посмотрел на сарай – на крыше желтели драночные заплаты. Кажется, мастеровые из именья на славу постарались, и, когда во время долгих осенних дождей все стрехи протекут и начнут писать, в Каршкалнах сквозь крыши ни капельки не просочится. Как он, Вилюм, мог быть таким дураком и сознательно уклоняться от новой должности? Это вовсе и не должность, это вся дальнейшая жизнь, которую Вилюм теперь проведет в тени могучих лесов. Он обнимет жену, вероятнее всего, ту же Юленьку, и она родит ему маленького лесничонка. И Каршкалны навсегда достанутся роду Вилюма, так как скорее всего и за много лет не смогут вырубить леса настолько, что дом лесника останется на голом месте. Ведь с лесом точно так, как с травой на лугу: руби ты его, руби, а новые побеги будут вырастать на том же месте, пусть и медленнее…
Вилюм потрогал дверь дома. Она открылась легко, и из комнат, откуда пока не убрали опилки, повеяло приятным запахом леса. Пусто здесь было, словно выметено начисто, и Вилюму нелегко придется, пока все необходимое не будет стоять на своих местах. Он вошел в комнату. Здесь встанет кровать, а сюда он хотел бы шкаф, точь-в-точь такой, как видел у поместного столяра, из желтого ясеня, с резным верхом. В нем будет висеть свадебный костюм Вилюма, щедро присыпанный весенним багульником – весенний-то самый крепкий! – чтобы моль не съела. Свадебный костюм, это мужчине на всю жизнь, потом он сможет ходить в нем и в праздники. И еще там будет одежда лесника и его зеленая шляпа, и ружье он тоже станет держать в шкафу, не так, как Янис из именья, – тот просто его на стенку вешает. Конечно, – в шкафу, и под ключом, много ли надо, чтоб беда стряслась, детишки расшалятся, доберутся до него…
Ну, и еще, конечно, там повесят Юленькины платья. У них всего будет вдосталь, и мяса, и колбас, копченных в трубе, а в амбаре – хлеб в закромах, чтоб, когда придет на землю корыстная зима, не пришлось печалиться о пропитанье и сосать лапу, как медведь в холодной берлоге. И тепло им здесь будет, тепло, как у Христа за пазухой, Вилюм загодя напасет самых лучших дров, которые будут гореть в печи с гулом, сухие, как лучина. Птицы зимой будут кружить над Каршкалнами, холода настанут такие, что, может, и ручей замерзнет, а они будут в тепле и достатке. А если забредет сюда какой-нибудь волк, Вилюм его спокойно из своего ружья – хлоп! – и серый лежит лапами кверху! И в санях у него тогда появится волчья полость, не хуже, чем у барина в именье.
Ружье! Вилюм сразу пришел в себя от ярких снов наяву и провел ладонью по лбу.
Что он медлит? То, ради чего пришел сюда, еще не сделано!
Вилюм решился и вышел во двор, хотя глазам его жаль было расставаться с комнатой, которую он в своем воображении уже обустроил для долгой и счастливой жизни. Казалось, вот закроет он дверь, и останется без присмотра и застеленная белым постель, и шкаф с резным верхом, и комод, где хранятся самые ценные вещи, так как в шкафу не для всего места хватит. Вилюм опять был во дворе, в обыденном мире. И тот принял Вилюма словно пылкая жена, обняв горячими солнечными руками. В висках сразу застучала молоточками кровь, и ремень от ружья врезался в плечо. Вилюм глянул на окно дома, странно, что не стоит на нем мирта в широком горшке, в комнате он будто бы чувствовал ее запах. Это – Юленькина, на невестин венок. Ах, ерунда, Юленькина мирта растет в именье, а здесь со временем появится совсем другая, которая потом украсит фату дочерей Вилюма.
Э-э, все это еще в Божьей воле.
Вилюм подумал так, когда проходил мимо распахнутой двери хлева: внутри ничего видно не было, кроме прошлогодней соломы. Ни корова не замычала ему навстречу, ни курица не заквохтала, только что снеся теплое яйцо. Да, все пока в руках Божьих, потому и надо молиться, чтобы все обошлось. Вилюм опять вспомнил, что должен делать, и его снова охватила робость. Он вознамерился проскользнуть между двумя большими господами. Не с честными намерениями он шел сюда… но раз не было иного пути? Право же, не было! Вилюм обратил взор к небу, неизвестно что желая увидеть там, но сейчас же опять потупился.
Раз иного пути не было, что ж, а Каршкалны так ему по сердцу…
С тех пор, как увидел, что Каршкалны восстанавливают, так помимо воли и загорелся ими. И не все равно оказалось – думать об этом месте, об этом доме в чисто выбеленной батрацкой каморке, что в именье, или здесь, где словно белозубый рот смеялась яркими драночными заплатами крыша. Здесь было хорошее место, здесь будет хорошая жизнь, зачем же оставлять это другим? И вообще смел ли Вилюм гневить барина? Он, если обидится, так и в именье не оставит, и тогда бродить Вилюму по свету, в каждый Юрьев день подыскивая нового хозяина получше, да так и не находя. Нет, нет, здесь счастье само шло к Вилюму в руки, поэтому он и должен сделать то, что намеревался.
Пекло невыносимо. Хоть бы облачко нашлось в этой выцветшей небесной выси, откуда так и лил жар! Вилюм собирался зайти поглубже в лес, но, чтобы попасть туда, сперва надо было перейти вырубку, где цвел ярко-сиреневый иван-чай да там-сям торчало по стебельку лесной земляники с плотно присохшими ягодками. Здесь, видно, некому было их собирать. Ну, когда у Вилюма подрастут дети… В ягодную пору в Каршкалнах к обеду всякий раз будет земляника с молоком. Вилюм в походах по лесу найдет самые ягодные места и покажет их детям.
Солнце жарило затылок, пробивая старую шапку. Могло оно быть и лютым, точно рассердилось на путника, что разгуливает в самый полдень. Точно! Полдень, наверно, еще не миновал.
Ну, наконец-то он в лесу и с каждым шагом углублялся в него все больше. Теперь можно бы и остановиться, но Вилюм все шел и шел, отыскивая чащу. Дело, что ему предстояло, должно делаться без свидетелей.
Сосны росли одна к одной. Стройные, гладкие стволы тянулись высоко-высоко, и надо было запрокинуть голову, чтобы увидеть, где кончается их бег в небо. Шуршал высохший на солнце олений мох, и, когда становилось совсем тихо, можно было услышать, как с шорохом отшелушивается от сосновых стволов кора. Во мху, среди раскрывшихся шишек, проскользнуло, изгибаясь, что-то коричневое. Ящерица. Вилюм улыбнулся, глядя вслед ее поспешному петляющему бегу. И опять стало совсем тихо.
Прямо напротив Вилюма росла сосна, и ствол ее был толще, чем у других, и это было действительно так, а не просто показалось. Заметив такое, Вилюм изумился: он знал, что в господских лесах все содержится в строгом порядке и что ни одно дерево не проживет здесь дольше отведенного на его зрелость срока, потом оно должно пасть под топором и превратиться в чистоган, которым барин сможет позвенеть в своем кармане. Эта же сосна росла, очевидно, по другим законам, и для остальных деревьев была признанной королевой. Ее Вилюм и выбрал для своей цели.
С минуту он еще постоял неподвижно, вслушиваясь в тишину, пока не зазвенело в ушах, потом достал из кармана тщательно сложенный носовой платок и развернул. Вишь ты, в нем действительно что-то было – облатка, которую в церкви Вилюм не проглотил, а спрятал, как учил его кузнец в кузне. Верил ли кузнец тому, что наговорил… что бы он, силач, сказал сейчас, если б наблюдал за Вилюмом? Удивился бы? Испугался и перекрестился? Но Вилюму в тот миг ничуть не было страшно, он видел только драночную крышу Каршкалнов и комнату, где на окне будет расти мирта.
Это надо было сделать, немедля надо было сделать, иначе Вилюма любой мог обозвать трусом, да он и заслужил бы того.
Так Вилюм снова и снова убеждал себя, но, когда пошел к сосне, ноги у него чуть-чуть дрожали.
Вилюм осторожно засунул один уголок облатки за отлупившийся кусок сосновой коры. Будет держаться? Да, держится. Он, не оборачиваясь, отступил назад, может, чего-то боялся, опасался увидеть кого-то у себя за спиной? Вилюм попытался считать шаги, но сбился. Ну, невелика беда, в свое время, когда он учился у Яниса стрелять, они тоже считали лишь приблизительно. Здесь главное не количество шагов, здесь важно только попасть, и Вилюм чувствовал, что на сей раз, да, на сей раз попадет!
«И если человек выстрелит в облатку, добыча всю жизнь будет идти к нему на мушку, и он никогда не промахнется…»
На всех охотах барин станет его хвалить, и Вилюм сможет гордиться, возвращаясь к жене и детям!
Сняв ружье с плеча, Вилюм долго и тщательно целился, но в какой-то момент пришлось опустить ствол, – сердце так колотилось, что тот уходил вбок.
Волнение, кажется, улеглось. Вилюм прицелился опять, и – вот счастье! – рука на сей раз не дрожала.
Он уже хотел нажать курок, но тут увидел: как раз напротив мишени остановился человек в белых одеждах, таких ослепительно-белых, что даже самая лучшая прачка не смогла бы так чисто выстирать рубаху для барина. И человек сам тоже будто светился. И разогретый воздух вокруг него трепетал и переливался. Это продолжалось только миг, а может, всего лишь миг мига, такой короткий отрезок времени, что его даже разумом не постичь, но этот сверкающий человек стоял здесь, как раз напротив места, куда Вилюм прикрепил облатку, вишь, теперь он руки поднимает…
Ружье, так и не выстрелив, само выпало из рук Вилюма на землю. Он заслонил лицо руками, он не мог смотреть на это нездешнее сиянье.
Когда руки Вилюма, устав, наверное, опустились сами по себе, он посмотрел вперед в великом страхе, но белоснежно-сверкающего чужака больше не было, и едва различимое на рыжей коре пятнышко облатки тоже исчезло. Лишь теперь Вилюм почувствовал, как по всему его телу течет пот. Он тупо глянул на ружье, лежавшее на земле, и пихнул его ногой. С горьким прозрением Вилюм понял, что никогда не быть ему лесником ни в Каршкалнах, ни где-нибудь еще. Он должен пойти и сказать об этом барину.
– Ты не хочешь? – спросит барин.
– Я не могу. – Вилюм ответит сущую правду, но барин не поймет, как это можно, чтоб человек родился для всего, чего угодно, но только не для стрельбы.
А если барин прогонит Вилюма?
Тогда Вилюм уйдет, не может ведь остаться тот, кого прогнали. И куда же уйдет? Вилюм не мог этого знать, стоя здесь, в лесной духоте. Ах, никто не ведает своего будущего!
Не дай ему Бог когда-нибудь забрести нищим к зажиточному каршкалнскому леснику, у которого огромные окорока в трубе и пышная мирта на подоконнике.
Перевела В. Семенова
АЙЯ ЛАЦЕ

Об авторе
Частная и писательская биография АЙИ ЛАЦЕ (1947) начинается с того факта, что ее отец – Эвалд Вилкс, выдающийся латышский писатель драматической судьбы. А. Лаце работала заведующей отделом прозы журнала «Карогс», была редактором газеты «Литературас Авизе» и продолжающих ее изданий; в настоящее время она является редактором газеты «Литература ун Максла Латвия».
Творческий путь А. Лаце начинается с поэзии и переводов русской классической литературы. Сборник ее стихов был даже представлен в издательство, однако писательница не сожалеет о том, что он не вышел книгой. Для сборника рассказов «Рождение смерти» (1994) характерны внимание к нюансированным ощущениям, неспешность, мечты, иллюзии, сюжет также нередко развивается лишь в воображении героев и включает в себя другие сюжеты. Голос А. Лаце в общем звучании латышской прозы отмечен неторопливым повествованием, тщательно выписанными подробностями, серьезностью, которую случайный читатель может и не заметить, – настолько она естественна.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ГОРОДИЩА
– Иди, – сказал он. – Иди сюда! Подойди поближе, у меня голова кружится смотреть на тебя издали.
Она засмеялась, радостно, по-девичьи, отступила еще немного и, вытянув руки высоко над головой – словно желала достать кончиками пальцев до самого солнца, – запрокинула голову, позволив ветру развевать ее длинные волосы.
– Ну, иди же! Иди! – звал он уже шепотом, глядя на нее как на виденье, которое может растаять в этом немыслимом, будто в пустыне, зное. Вокруг женщины маревом трепетал перегретый воздух, и у него кружилась голова, когда он смотрел на нее издали.
Женщина была молода и красива, как солнечный день. Она не подходила ближе, она только смеялась – задорно и беззаботно – все громче и громче, еще и еще громче, потом поднялась на цыпочки и вихрем закружилась в пируэте, с каждым оборотом обвивая себя новой медной гирляндой волос.
Спустя мгновение он больше не видел женщины – стройный кипарис, дитя теплых стран, вырос на сером песке. Кипарис был медно-красный, и от его близости кружилась голова.
Он подошел к кипарису на шаг. Еще на шаг. Еще. Начал раскутывать ее. Поворачивал осторожно, чтобы самому не запутаться в скользящем шелку, которому не было ни конца ни края, крутил, крутил, – она только смеялась, вытянувшись на цыпочках, с высоко поднятыми руками. Смеялась свободно и вызывающе.
– Иди же! Где ты? – Он пытался заглянуть в глаза женщины.
Она выскользнула из его рук и со смехом, ловко скользнув, улеглась на песок, так ловко, что он и не заметил, как это случилось.
Смех улетел, она лежала, спокойная и недвижная, закинув руки за голову. Он слышал громкий стук своего сердца.
С минуту он стоял, не понимая, как перейти медно-красную реку, которая разлилась у его ног, потом раздвинул волны и упал на колени перед лежавшей.
– Иди же, иди! – едва слышно шептал он.
Она не отвечала, она даже не шевельнулась; в тишине громко стучало его сердце да песок жужжал и звенел голосами насекомых.
Он не смел к ней прикоснуться – рука сама по себе робко тянулась к ласке. Медленно и опасливо. Рука застыла на полпути, за ней, подбадривая, протянулась вторая, и он ласкал женщину, не прикасаясь. Он гладил еще и еще, пока руки не ощутили вещественное сгущение воздуха вокруг ее тела. Это напоминало оболочку невидимого саркофага, которую опять и опять вырисовывали его ладони.
Песок жужжал и звенел голосами насекомых. Глухо колотилось сердце.
Он собрался, задержал дыхание и дрожащими пальцами прикоснулся к женщине.
Живыми песчаными ручейками вдоль ее тела стекла грудь.
Лоб, в ответ на прикосновения, испещрился ямочками от кончиков его пальцев и в то же время стал плоским и чужим.
Под его пальцами растаяли виски. Нос распался сам – наверно, от ветра; он к нему не прикасался. У него закружилась голова.
Он сгорбился, скорчился, наклонился вперед и, потеряв равновесие или, возможно, из-за неритмичных перепадов в груди, навалился на нее, разворошив все то, что еще от нее оставалось.
Глухими и звонкими голосами гудел вокруг песок.
Солнце ничему уже не удивлялось. Людям приятно думать, что так было всегда – что солнце никогда ничему не удивлялось, но человеческая память гораздо короче, чем время неизумленного солнца, а о том, что было до зачатков человеческой памяти, – о том могли свидетельствовать только те, кто не имел речи. Однако с памятью, но без языка ничего особого не расскажешь.
Еще немного, и тем летом солнце превратило бы гору в гору стеклянную, люди, читающие умные книги, могли бы вычитать в них, что это происходит именно так. Ну, по крайней мере, очень похоже. Но стеклянной горы не было и в помине, и о ней тут вообще не должна была идти речь. Здесь, в этом рассказе о странном человеке. В рассказах о стеклянных горах действуют другие люди, совсем иные, и никогда – поодиночке. Наверно, потому, что одна пара глаз такого блеска не выдержит, нужно его поделить между несколькими парами глаз.
Песок слепил глаза…
Вообще-то – совсем бессмысленное, совсем не подходящее предложение. Ибо и оно не относится к этому рассказу.
Песок слепил глаза…
Глаза человека – а, кроме них, ничьих других здесь не было, – давно уже ничто не слепило. Глаза каждую весну заново сроднялись с ослепительными красками солнца, чтобы с закатом лета понемногу отдалиться от них и в следующем году начать все с начала. Болезненно и неизбежно.
Глаза стали мудрыми. Они, к примеру, хорошо различали каждую песчинку и с легкостью могли бы их пересчитать, если бы только это было предусмотрено здесь, в этом рассказе о странном человеке. Глаза мужчины различали непостижимое для других – угловатые кристаллы, рождающиеся здесь, в смеси нежного речного песка – его доставили сюда совсем немного – и искристого морского песка – его было еще меньше. Когда-то, очень давно, различие между ними определилось острыми, как их иглы, отражениями, которые кристаллы бросали в глаза, сейчас эти иглы затупились или, может быть, притупилось зрение, и о происхождении песчинок теперь говорил только их абсолютно несхожий вид. Так, совсем просто – вне зависимости от сияния или несияния солнца.
Погода имела огромное значение. Но – только как нечто прикладное, как помощник или помеха в работе.
…Только что настали жаркие дни. Липкий пот лил ливмя, потные, слипшиеся с песочной пылью волосы пекли, как шлем мотоциклиста. И питьевая вода подходила к концу – сегодня он израсходовал двойную дневную норму, и, хотя о ней нечего было беспокоиться, с утра вода опять должна появиться в обычном месте, разум все-таки был неспокоен – вода слишком важная вещь.
Песок звенел и гудел голосами насекомых. Самые низкие тона принадлежали добытым здесь, самые высокие – привезенным с далекого морского берега кристаллам. Все вместе сверлило уши привычным невыносимым звоном – более глухим, когда приходилось сгибаться, более звонким – когда разгибался. Царапающее многообразие четвертьтонов острыми кошачьими когтями старалось разорвать закаленный до бесчувствия мозг. Ни царапинки не оставалось – звуки источились, обломали когти и, поджав хвосты, вернулись назад, в кристаллы, чтобы вместе с новым гребком песка расцвести такой же роскошной мерзостью. Человек возненавидел бы этот скулеж, если бы еще только мог.
Он одеревенело разогнул спину, смахнул влагу со лба, пригнув голову, метнул языком по плечу, плечо было соленым и липким, – очевидно, соленым и липким было все залитое потом тело. На дне сосуда еще маслянисто поблескивала какая-то малость влаги – отвратительная слизистая бурда, пойло, которое в обычные времена ничего не вызвало бы, кроме дурноты. Дурнота подступила и сейчас, только имя у нее было другое – неизбежность. И еще второе, более удобоваримое для ощущений – привычка.
В один прием высосав штоф, последнюю каплю он еще погонял во рту, чтобы выбить песок из щелей между зубами, и выплюнул длинную, тягучую нить слюны, та, воткнувшись нижним концом в песок, хотела пришить к нему нижнюю губу. Покачав головой, он с интересом посмотрел на гибкую, мерцающую под солнцем иглу. По крайней мере это было красиво. Пальцы оторвали нить от губы и стряхнули, чтоб исчезла в песке. Все равно красиво.
Время отдыха закончилось, он опять взялся за работу. Смотреть вокруг не хотелось, смотреть вокруг было так же противно, как пить согревшуюся на солнце, зачерпнутую чужой грязной рукой воду. Он не фантазировал, он был уверен, что чужие руки были грязными. Показное все еще немного отвращало его, может быть, потому.
Ныла спина, тапки из прорезиненной ткани на наждачной подкладке стерли пальцы ног до мяса. «Это мне только кажется, это только кажется, – заставлял он себя думать. – На самом деле я не здесь, я совсем в другом месте, и нет ни песка, ни тошнотворного пойла… Мне хорошо, мне совсем прохладно, – ах, как прохладно и хорошо мне, – я лежу в высокой, лохматой, влажной траве в тени громадного дерева, и ступни мои щекочет ледяная ключевая вода…»
Повелев ключу журчать под вытянутыми ногами, он невольно облизал потрескавшиеся губы. Язык поймал соленые песчинки. Опять надо было напиться. Пойла. Горло давил жесткий, с зазубринами ком дурноты, он решил согнать его вниз, где тот застрял, свернулся под ложечкой, чтобы давить жесткой каменной болью.
К краю огромного песчаного карьера причалил большой, картинно-яркий автобус. Мягко шаркнув, раскрылись двери, потягиваясь и вихляясь, высыпала толпа оголенных по-летнему людей. Темные солнечные очки предохраняли их, но мешали смотреть в бинокли, впрочем, не было ни того, ни другого – они и не позволяли ослепить себя, и не приставляли дальнозоры к глазам, а поспешили в находившуюся рядом прохладную питейную, чтобы утолить жажду искусственно охлажденными напитками, которые тут заботливо готовили на любой вкус. Вскоре стаей пестрых экзотических птиц они уже более прытко выпорхнули наружу, живо дошуршали до края песчаного карьера, впереди, энергично размахивая руками, шел тот, кто, наверно, был самой главной пестрой птицей, он несколько раз глянул в сторону искусственной пустыни, остальные отцепили очки, заменили их на туннелики биноклей и, приставя к глазам, таращились, таращились, таращились, трясли головами, отняв бинокли от глаз, вытянув шеи, слушали, что говорит главный, который опять всезнающе разводил руками, еще раз потаращились в бинокли, все хором кивали, таращились опять, потом также хором вытирали лбы ослепительно-белыми платочками и один за другим всасывались, как в пылесос, в автобус.
Автобус забрюзжал, зафыркал, – ему тоже было жарко, – и попробовал сдвинуться, чтобы дать место следующему, который уже нетерпеливо переминался, не в состоянии дождаться, когда можно будет спуститься в ложбину асфальтированной площадки у края карьера.
Для двух автобусов места здесь не хватало – это было сугубо интимное мероприятие государственного масштаба, сюда не смели приходить громкими недружными толпами, одним словом – святое место.
…Толпы, толпы, толпы… толпы глупцов… толпы попугаев… Девяносто восемь шагов в одну сторону, девяносто восемь назад… Сколько было вчера? Вчера – чуть меньше. Вчера должно было быть меньше, нет, сегодня должно было быть больше, чем вчера… Таращилки, глазелки, дурилки, всякие разные илки, вилки, милки… Черт бы их побрал. Не станет он на них смотреть.
Он все-таки не удержался – но, возможно, просто отыскал ничтожную причину перевести дух, – и, обеими руками опершись на согнутые колени, с трудом поднял голову, чтобы обратить лицо к автобусному ворчанью, – это движение ломало шею чуть ли не пополам, – и украдкой зыркнул из-подо лба в сторону площадки, потом, словно получив по носу, потупил глаза и опять потащился по своему собственному улиточному следу вперед.
Сейчас ему было почти все равно, каким его видят там, вдали, глаза приехавших. Когда-то, правда, было иначе. И, Бог даст, придет время, и это «иначе» вернется, и опять захочется распрямиться и выше поднять голову. Но прежде придет полное равнодушие, и оно, право же, ничуть не хуже. Если появляется возможность сравнивать. Хороши оба конечных состояния, середина же всегда приносит различные неудобства.
Толпы, толпы, толпы глупцов… девяносто один, восемьдесят семь… Как туфли жмут, как жмут туфли, но наверх нельзя, когда опять окажется внизу, тогда и высыпет песок. Стащит и высыпет. Потом возьмет и влезет в пустые туфли. Помучается и влезет. Всегда влезал, влезет и теперь. Девяносто один, девяносто один… И он грустно улыбнулся тем, на другом берегу.
Я не понимаю причин, которые однажды побудили странного человека избрать столь – мягко говоря – странный образ жизни. Всегда есть какие-то самые главные причины, которые одновременно и самые труднопостижимые. Начатое человеком, право же, воспринималось серьезно – о Господи, сколько долгих лет он не отступал от этого! И все-таки не слышно было, чтоб кто-то называл его ненормальным. Уже одно это было подозрительным и бросало недобрую тень умолчания на всё предприятие, – люди задешево обвешивают других всяческими ярлыками, а печатью безумия отмечают и тех, кто заслуживает этого меньше всего. Близорукость людей была непонятна и необъяснима. Его никто не называл свернутым, совсем наоборот – им гордились. И судя по всему, что вокруг него происходило, можно было подумать – его уважали, им восхищались… Если только эти слова приложимы там, где не может быть и речи о желании поменяться местами.
Им гордились. Так рассказывала моя бабушка, так – моя мать, то же самое и я могла бы рассказать своим детям.
Почему гордились? Может быть – будучи не в состоянии проглотить то, чего нам никогда в жизни не понять, мы пытаемся прыгнуть выше границ своего разума? Может быть, пытаемся свое кажущееся понимание внушить другим? Но что представляют собой те случаи, когда ярлык «сумасшедший» навешивается с такой легкостью?
Есть некая закономерность: это те случаи, когда имеют дело с гораздо меньшей ненормальностью. Кажется – именно потому.
Зной убывал. Задул сперва совсем легкий ветерок, затем посильнее. Он креп, становился ветром, и человек чувствовал, как спину окатывает прохлада.
Бросив быстрый взгляд на небо, достаточно быстрый, чтобы в поле зрения не попало очередное стадо пестрых попугаев вместе с их транспортом, он успел приметить черные тучи, которые, толкаясь, переваливали от горизонта в его сторону.








