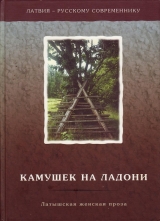
Текст книги "Камушек на ладони. Латышская женская проза"
Автор книги: Илзе Индране
Соавторы: Инга Абеле,Гундега Репше,Айя Лаце,Регина Эзера,Дагния Зигмонте,Андра Нейбурга,Лайма Муктупавела,Визма Белшевица,Нора Икстена
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
– Прости, детка… Он один у нас такой…
Дрожащей рукой Лайла поднесла ковшик, но солдат отвернулся. Другие тоже. Никому больше не хотелось пить. Шли мимо Лайлы, опустив глаза.
Вдали показались лошади и трубы солдатских кухонь, а Лайла взяла ведро, ковшик и пошла домой.
Войти в дом не было сил. Лайла опустилась на скамеечку возле дверей, прислонилась спиной к нагретой солнцем стене. В ведре еще оставалась вода. Лайла зачерпнула ковшик и впервые за этот день напилась сама. Налила в ладошку, смочила лоб, провела по щекам. Потом зачерпнула еще, полила голову и грудь. Вода текла по затылку и лбу, на ресницах застряли капли, и у гроздьев рябины на краю двора сразу выросли мерцающие красные лучи.
На дороге стучали подковами лошади, тянувшие тяжело груженные повозки, скрипели колеса, слышались голоса. Вроде бы надо набрать воды и вернуться на дорогу, ведь и обозники небось хотят пить. Лайла потянулась к ведру, но перед глазами возникло круглое, лунообразное лицо, будто что-то снова ткнулось в живот, и рука ее вдруг отяжелела, резко заломило спину, а дыхание опять стало тяжелым, прерывистым. Нет, не пойдет она. Не понесет. Пусть берут сами.
Лайла сидела и прислушивалась к своему дыханию. Когда умолкла дорога и дыхание стало неслышным и спокойным, ее проняла дрожь. Лайла глянула на солнце, оно уже почти касалось верхушек деревьев за лесной опушкой. Лайла поднялась. Из-за боли казалось, что до колодца добиралась целую вечность. Потом обратно. И через порог.
Умом Лайла понимала, что сегодня у нее ни крошки во рту не было, что надо бы поесть. Даже заставила себя войти в чулан. Глянула на каравай. Чтобы поесть, надо было поднять болевшие руки, отрезать от тяжелого каравая ломоть, жевать. Даже рот раскрыть ей казалось слишком трудным делом. Да и не хотелось. Нет, не станет она есть.
Несколько шагов от чулана до незапертых дверей казались непреодолимыми. Пусть. Все безразлично. Комната с кроватью ближе.
Не сняв и передника, Лайла, постанывая, забралась на кровать и натянула на себя край оставленной ей насовсем старенькой попоны. О том, чтобы помыть ноги, и думать было нечего. Спать. Спать.
А перед глазами сапоги дробят гравий большака, ковшик взлетает к потрескавшимся губам, в траве тьма переспевших яблок, то всплывает, то исчезает гнусный облик лунолицего. Казалось, что кровать раскачивается, и становилось дурно, вот-вот стошнит. Приходилось открывать глаза, это немного помогало, но глаза не хотели оставаться открытыми, закрывались, и снова сапоги, яблоки, круглолицый, тошнота.
Скрип наружной двери, и тяжелые шаги на кухне. Лайла сдавленно вскрикнула, села на кровати, опершись плечом о стену. В пустой комнате некуда убежать, негде спрятаться. Да и не успела бы.
Дверь, освещенную струившимся из окна закатным светом, на мгновение загородила огромная черная фигура солдата. Он шел прямиком к кровати, с каждым шагом становясь не таким уж черным и не таким большим, остановившийся взгляд устремлен на Лайду, он все ближе, ближе и – рухнул вниз.
Нет, не на нее, а рядом, повернулся на спину, а глаза уже закрыты. И Лайла вдруг поняла, что этот человек и не видел ее вовсе, он смотрел лишь на кровать, совсем как она некоторое время назад. От усталости. Он повалился со всей каской, с сапогами, по дыханию можно было догадаться, что жмут воротник и ремень.
Сердце Лайлы снова билось спокойно. Собралась с силами, через спящего выбралась из кровати, расстегнула воротник, сняла тяжелую каску. Он и не почувствовал, даже светлые ресницы не вздрогнули.
Одна нога свесилась с кровати. Онемеет. Лайла уложила ногу в кровать. Он и этого не почувствовал. Можно смело стащить тяжелые сапоги, разутые ноги лучше отдохнут.
Лайла умела это делать, приходилось разувать отца, когда он валился с ног и мать орала: – Я к этому скоту близко не подойду!
От отца тогда разило водкой. От солдата пахло только потом и дорожной пылью. Лайла стянула сапоги, аккуратно поставила рядом на пол и тут увидела, что руки у нее в крови. И попона под ногами спящего тоже в крови. Попоне ничего не сделается. Пестрая и грязная.
Кто это все время скулит, как Ролис, когда его переехал немецкий оппель? Это не солдат. Солдат теперь, когда воротник был расстегнут и ремень снят, дышал так тихо, что Лайла временами пугалась: умер! И Лайла поняла, что это ее жгучая боль в руках и ногах обернулась таким скулежом. Это она сама скулит. Лайла чуть не плакала, так сильно было себя жаль, но нельзя же остановиться на полдороге. Носки тоже надо бы снять, иначе присохнут к кровоточащим пяткам, а что будет завтра?
Как стащила носки, солдат опять не почувствовал. Грязные пятки – одна сплошная рана. Нужно промыть. А Лайле даже таза для умывания не оставили. Лайла побрела в чулан, выпростала из-под яиц покарябанную миску, из которой ел Ролис, когда еще был жив, и пошла к колодцу протереть ее песком, пока не станет чистой, чтобы в нее можно было набрать воды. И посуды нет, чтобы согреть. Все увезено. Придется мыть ледяной. Уж тогда проснется.
Лайла присела с мисочкой у кровати, о Боже, как громко скулил раздавленный колесами Ролис, и она долго не могла взять себя в руки. Собравшись с силами, она вдруг вспомнила: у нее нет даже самой ничтожной тряпочки. Не мыть же его старой тряпкой для горшков. Зря она шарила по пустым углам. Увезено все подчистую, так что совершенно ничего не осталось, даже ножниц нет, чтобы отрезать лоскуток, если б что нашлось.
Правда, ее собственные вещи висят на двух гвоздях в углу, под ними чемодан с разными книжками и бельем, а белье грязное, последний месяц ни минуты свободной не было, чтобы постирать. Опять же не было ни времени, ни подходящего случая надеть белую полушелковую блузку, ее выходной наряд. Она чистая.
Ролис совсем было заскулил, когда Лайла подняла руку, чтобы снять с гвоздя блузку, надрезала ее кухонным ножом и оторвала коротенький рукав.
Солдат не проснулся и тогда, когда мыла кровоточащие ноги ледяной водой. Не проснулся, когда Лайла, собрав листья подорожника, приложила их к ранам и перевязала, и, стоя с носками в руках, в первый раз по-настоящему посмотрела ему в лицо. Красивая, откинутая на плечо голова со светлой волнистой бородкой и закрытыми глазами, – этакий Иисус на кресте с картины, что над алтарем. И что теперь делать с его носками? Если постирать, до утра не высохнут. Но лучше мокрые, чем жесткие от запекшейся крови, они последнюю плоть с костей сдерут.
Стирал ли еще кто-нибудь когда-нибудь шерстяные носки в собачьей миске? Без мыла, потому что мыла Лайле не оставили ни кусочка. Выливала раз за разом темно-красную воду и набирала новую, пока вода не стала светлой. Лайла посмеялась бы, если б Ролис так громко не скулил над своей миской.
Где лучше высушить? На дворе или у печки? Печка холодная, а на дворе ночью выпадет роса. Лучше возле печки. И уж совсем хорошо, что хозяйка веревочку прихватить забыла. Прищепки-то взяла. Стиснув зубы, Лайла отжимала носки, и когда ни капли уже нельзя было выжать, повесила на веревку.
Вот, пожалуй, и все. Лайла, шатаясь, дотащилась до кухонного стола. Присесть – скули, Ролис, скули, не бойся, не подойдет офицер в до блеска начищенных сапогах, в фуражке с высокой тульей и не пошлет милосердную пулю в твое ухо, чтобы не мучился, – руки на стол, голову на руки и уснуть.
Скули не скули, а боль не проходит. Лайла вцепилась зубами в руку. Клин клином вышибают. Сон накатывался мутной волной, натыкался на боль, сам становился болью. Если б кто сказал, что засыпать может быть так больно, Лайла не поверила бы.
Сняв со стола руки, Лайла попыталась улечься на скамью. Если прямо, руки на груди, то сон брал свое, несмотря на боль. Но сон отпускал скрещенные руки, они резко падали вниз по обе стороны скамейки, приходилось опять просыпаться и, скуля, подымать их. Так случилось раз, другой, третий. Лайла уже не понимала, больно ей или нет. Сон прерывал дыхание, и дом вдруг жутко затихал. По ночам всегда что-то скребется, скрипит, пыхтит, ночами о себе дает знать неведомая жизнь, и временами в саду падают яблоки, а кажется, что это чьи-то тяжелые шаги. А теперь – ни звука.
Этот солдат все-таки умер? Лайла села, нелегко это ей далось, чуть не свалилась; держась за край стола, встала на ноги, ощупью впотьмах пробралась в комнату.
У кровати Лайла задержала дыхание и прислушалась. Живой он был. Привыкшие к темноте глаза разглядели повязки из лоскутов блузки. Как уложила Лайла ноги, так они и лежали. Даже не пошевелился.
Казалось, это сон распростерся в огромной постели и одуряюще притягивает к себе, так, когда смотришь на водопад, тебя влечет кинуться вниз.
«Он ничего не почувствует», – решила Лайла и, подавив стон, перелезла через неподвижные ноги, пробралась к стене, укрылась краем попоны и сразу заснула. Больше не было никаких сапог, ковшика, яблок, даже боли.
Когда Лайла с рассветом открыла глаза, он все так же спал, только волосы местами прилипли к вспотевшему лбу и шее, и лицо больше не было таким измученным, как у Иисуса на кресте. Голова по-прежнему лежала на плече. Ничего он не заметил и не заметит. Лайла вздохнула и совсем уже смело перелезла через его ноги.
Но тут солдат открыл глаза и уставился на Лайлу. Лайла, соскочив на пол, выдохнула: – Доброе утро! – и кинулась на кухню. Отсюда путь открыт во двор, а если понадобится, в погреб.
Ах нет, ведь погреб закрыт на замок, и ключ хозяйка взяла с собой. Вихрем захлестнула боль, о которой уже успела позабыть. В комнате заскрипела кровать, солдат встал, босиком вошел в кухню.
В дверях он остановился, посмотрел Лайле в глаза и смущенно улыбнулся.
– Ты очень мне помогла. Даже ноги уже не болят. Спасибо, и прости, что напугал тебя. Я не нарочно. Не бойся.
– А я не боюсь, – ответила Лайла. Страха совсем не было. Особенно когда смотрела на ноги солдата. На одной еще держалась вчерашняя повязка с подорожником, со второй слетела.
– Простите, что носки будут мокрые, – сказала Лайла, – но такими их нельзя было оставить. А ноги я вам перевяжу заново. Тогда будет полегче. Но сначала вам нужно поесть. Поджарю яичницу.
Сказать легко. Не так легко заткнуть рот Ролису, чтоб не скулил, потому что вчерашняя беспрестанная беготня с ведром отдавалась болью повсюду и все сильнее. Но Лайла взяла себя в руки. С ковшиком к колодцу, полила на ладони солдата. Опять пришлось извиняться, что нет мыла.
Хорошо, что не спросил, почему. С Лайды взяли слово, что никому не скажет, где хозяева.
А теперь жарить яичницу. Этого Лайла никогда прежде не делала, только видела, как это делают мать и хозяйка. Огонь в плите разожгла слишком большой, сало подгорело, и желток стал коричневым, с невкусной корочкой. И потом выяснилось, что нет ни тарелки, ни вилки. Дома оставлена лишь сковорода да нож. И под сковородку подложить нечего, чтобы на чистом столе не осталось копоти, которую потом не соскрести. Или все-таки можно? Придется как-нибудь, иначе хозяйка браниться станет…
– Простите, придется есть со сковороды. – Лайла покраснела чуть ли не до слез.
– Невелика беда. То ли бывает на войне? Была бы еда, – сказал солдат.
Лайла поставила на стол сковородку, принесла буханку хлеба и кувшин молока.
– Придется пить прямо из него. Или из ковшика, если хотите.
– Лучше из ковшика. Только до самого верха не лей.
Лайла отрезала ломоть от тяжелого каравая и, ох как было больно, налила в ковшик до половины молока и сделала вид, что ей надо пошуровать кочергой в плите.
– А ты сама?
Лайла проглотила слюну.
– Я по утрам никогда не ем. – И выскочила поискать свежего подорожника.
Когда солдат поел, Лайла подошла с блузкой, подорожником и влажными носками.
– Теперь я заново перевяжу.
– Может, не стоит? – Теперь он покраснел.
– Нужно обязательно! – Лайла полоснула ножом по спинке блузки, чтобы легче рвалась.
– Это твоя блузка?
– Я давно ее не ношу. Мала.
Когда это Лайле приходилось за одно короткое утро так много врать?
– Я и носки вам надену, чтобы повязка не съехала. Не очень-то я умею перевязывать.
– Совсем как ребенка малого, – посетовал солдат.
– Ничего. Сапоги обуть сможете сами. – Лайла вынесла из комнаты сапоги. Ее удивляло, что при нем не было ни ранца, ни оружия.
Обуваясь, солдат сказал:
– За то, что ты обо мне так заботилась и накормила, хватило бы и спасиба. Но мы с тобой ночь в одной постели провели. Значит, придется мне на тебе жениться.
– Нет, нет! Не надо! Вы мне ничего не сделали. – Лайла спрятала лицо в ладонях.
Солдат смеялся долго и от всей души. Лайла опять опростоволосилась.
– Я очень тебе не нравлюсь?
Лайла отняла от лица ладони и посмотрела. Уж такой красивый парень никогда не взял бы Лайлу в жены. Насмехается.
– Да и не могу я выйти замуж. Мне еще только тринадцать лет.
– Так сейчас и я не могу. На фронт надо. Но я подожду, пока ты вырастешь. Условились?
Лайла отвернулась и ничего не сказала. Не в первый раз над ней подшутили.
Солдат встал.
– Ну, мне пора, пташка! Как тебя зовут?
– Лайла.
– А я Эдмунд.
– Я провожу вас до дороги.
У замшелых ворот они остановились. Солдат посмотрел на табличку, что на углу дома.
– «Леястирели». Это слово и Лайлу я никогда не забуду.
Он взял Лайлу за плечи, повернул к себе, заглянул в глаза.
– Если я не приду, знай, что меня убили. Спасибо тебе за все.
Поцелуй в лоб был легким. Удаляющиеся шаги – тяжелыми.
Лайла приникла головой к воротам и смотрела, как он уходил, стараясь не хромать. Подтянутый и стройный, он все уменьшался и уменьшался, до самого поворота дороги вдали. И вот дорога пуста.
Теперь Ролис мог скулить. Даже выть. Надо было идти в дом и соскрести копоть со сковородки, чтоб хозяйка не бранилась. Если вернется.
Если вообще кто-нибудь вернется сюда.
Перевел М. Афремович
ДАГНИЯ ЗИГМОНТЕ

Об авторе
ДАГНИЯ ЗИГМОНТЕ (1932–1997) – рижанка, которая многие годы проводила лето в Микельбаке Таргальской волости Вентспилсского района, блестящий прозаик. Направленность ее творчества уже в самом начале была надломлена резкой идеологической критикой, вследствие чего Д. Зигмонте в своих произведениях долгие годы отказывалась от обращения к острым проблемам, отдавая предпочтение бытовой проблематике и влиянию повседневной жизни на мироощущение человека.
Д. Зигмонте окончила отделение немецкого языка факультета языка и литературы Рижского педагогического института, работала журналистом и переводчиком. Она – автор целого ряда популярных романов – «Дети и деревья тянутся к солнцу» (1959), «Морские ворота» (1960), «Дай руку утренней заре» (1967). Многие произведения были драматизированы и экранизированы. Творческий труд писательницы увенчался автобиографической трилогией «Адиени». Подлинно живая, искренняя проза Д. Зигмонте – это ее рассказы для детей и книга «Неуемный нож», в которой собраны литературные обработки легенд Северной Курземе (1988). Не получил должной оценки вклад Д. Зигмонте в юмористический жанр, хотя она долгие годы была весьма плодовитым автором юморесок.

КАРШКАЛНСКИЙ ЛЕСНИК
Вилюм не хотел в лесники, нет и нет. Чем плохо быть конюхом? Конь – умное и ласковое животное. Подходишь к нему, и он с тихим ржанием прижимается к тебе мордой, здоровается. Кладет голову на плечо, стоит и стоит так, не думая даже, что его тяжелую голову ох как трудно удержать. Если ты будешь добр к нему, к жеребенку, то потом и он будет добр к тебе. Все кони в именье были спокойные и послушные, и управляющий терпеть не мог – для него это было горше смерти, – когда барин велел покупать коней на стороне. Иной попадался с такими мерзкими капризами, такой своенравный, что никуда ты его не приспособишь – ни в плуг не впряжешь, ни в телегу, так что приходилось втихую опять продавать. «Ни одного чужого коня в моей конюшне», – закричал бы управляющий так, что по всей округе бы разнеслось, да только в делах у него не было и не могло быть решающего слова, не смел он перечить барину, и не родился еще такой смельчак в этом краю, чтоб перечил. Стоило возразить хоть слово, как на лбу у барина набухала большая толстая жила, он взглядывал, словно грозовое облако, и тогда… Ну, тогда такое начиналось…
Вилюма барин, похоже, жаловал. Тихий, послушный парень, дело свое делает с душой, не спустя рукава. Когда весной умер каршкалнский лесник, не оставив преемника, барин подумал о Вилюме. Барин очень заботился о своих лесах, нечестного человека и близко к ним не подпустил бы. А этот – парень порядочный, не спутается с лесными ворами, которые в последнее время расплодились повсюду. Старый лесник был не без греха, рассуждал барин, да только за руку никто ни разу его не поймал.
Когда барин сам сообщил Вилюму радостную весть, тот так и съежился и робко глянул на господина.
– Дивишься, конечно, что такую честь тебе оказали? – барин засмеялся, по его мнению, смех должен был звучать добродушно. Но Вилюм испугался. Любому человеку, и даже самому управляющему, Вилюм осмелился бы объяснить, что это место не для него. Вилюм не любил все, что стреляет, да и не умел обращаться с ружьями, и когда все-таки случалось пострелять вместе с другими парнями из именья, он хорошо если в дверь сарая попадал. Как такому неумехе в лесники идти? И еще бегать денно и нощно, лесных воров отлавливать или же опять когда господа надумают охоту устроить… Нет, нет. Пусть ищет другого, настоящего, который может все и будет рад этой должности.
Но барину он не мог все это высказать, тут и одного слова было бы слишком. Слишком оказалось и его молчания, и барин, забыв про свое добродушие, воскликнул коротко и резко:
– Ну, что уставился как сова на солнце?
У Вилюма, и правда, было отдаленное сходство с совенком: волосы торчком, уши открыты и глаза – большие и чуть выпуклые. Но вообще-то Вилюм был парень хоть куда, и многие молодые прачки на него заглядывались.
– Я, барин…
Вилюм поцеловал барский рукав, барин, довольный, принял это за благодарное согласие и потому сказал, растянув губы под рыжими усами:
– Ну, тогда собирайся вступить в должность.
Так вот просто. У Вилюма, у бедолаги, даже матери не было, чтоб выплакать у нее на груди свое горе, Вилюм был один как перст. Одна голова, одна забота. Неси свою голову и свою заботу в Каршкалны и живи там в полном одиночестве, хотя здесь, в именье, так привычно среди людей, как грошу среди монеток в кошельке.
Кто-то невыносимо царапал сердце, разрывая его изнутри. Так Вилюм и не возразил ни слова, да и мог ли… Отправился восвояси, нацепив на лицо подобострастно-боязливую улыбку.
Молодые прачки, узнав о решении барина, в один голос заговорили, что, мол, этому симпатяге Вилюму счастье привалило. А псарь Янис, который в друзьях у Вилюма ходил, сказал со смехом счастливчику:
– Подумай, что за лесник из тебя, ежели не можешь из ружья путно пальнуть!
Да, это была самая большая беда Вилюма. Но Янис хлопнул его по плечу, пусть только друг накопит денег на пухалку, уж он выучит Вилюма – настоящим егерем станет. В свободное время они уходили подальше в лес и стреляли так, что дым клубился, и указательный палец Вилюма становился совсем бесчувственным, но проку от того было – что мяса на цыплячьей ножке. Вилюм ну никак не мог попасть в цель. Немножко ближе попадал, но в цель – никогда.
– Что за лесник из тебя, – сказал однажды Янис с осуждением, а несчастный Вилюм спросил:
– А что мне делать? Ну, скажи, что мне делать!
– Черт его знает, – Янис вздохнул, и они уныло побрели домой. По дороге встретились им молодые прачки, и Юленька, которая всегда казалась ему самой пригожей, окликнула:
– Вилюм, принеси свою рубашку, я ее выстираю – белей снега будет!
А молочница, вперевалку выбираясь из погреба – все молочницы и скотницы должны быть толстыми, как утки, – они же лицо именья, – сказала:
– Ты, Юленька, до времени хочешь в лесничихи записаться!
И Вилюм подумал, что это было бы славно. Почему бы и нет? Там, в Каршкалнах, вдоль самого края сада течет чистый ручей, в нем и стирать было бы хорошо! Почему всегда со счастьем так – одной рукой оно тебе дает, другой – отнимает? В именье все, должно быть, думали, что Вилюм возгордился от этакой удачи, и на сей раз так, наверно, подумала и Юленька – Вилюм молча прошел мимо.
Вилюм – счастлив? Если это было действительно так, то свое счастье он нес как облако тьмы. И никто, абсолютно никто не мог помочь ему. Подойти теперь и попробовать сказать что-то барину – нет, на это у Вилюма не было и не будет сил, это испортило все бы окончательно. Обратиться к священнику? Говорят ведь, что Божье слово все невзгоды утишает… Но священник толком по-латышски не умел. Захочет ли он выслушать Вилюма, вникнуть в его заботы? Священник был холоден, как топор на морозе, и, когда он читал проповедь, казалось, что с кафедры сыплется мелкий град. Нет, от Господа и его слуги здесь, на земле, Вилюму нечего было ждать помощи, это понятно. Искать помощи у черта? Но как Вилюм узнает, где черт живет? Его передернуло уж от одного того, что такая мысль пришла в голову, и он тайком перекрестился. Нет, нет, упаси Господи!
Но однажды он пошел в Каршкалны, где мастеровые из именья подправляли постройки. Хотя и не гоже говорить о покойниках плохо, старый лесник к концу дней своих жил как настоящая скотина. Однако все теперь здесь будет устроено, заходи, живи и горя не знай. Ах, если б только можно было! Вилюм завидовал тому неизвестному леснику, который и вправду придет туда и станет жить, он чувствовал – эти блага не для него…
А хутор – что цветок… И барин уже сказал веское слово: человеку не пристало жить одному, кто ж тогда дом вести будет? Юленька побежала бы вприпрыжку, предложи ей только Вилюм… Ну почему леснику надо уметь стрелять?
Приближался Янов день, самый, наверно, радостный праздник в году. По утрам расцветали на лугу цветы, у них было слишком мало времени покрасоваться, сенокос стоял на пороге. Ночи сделались такими короткими, солнце по утрам всходило совсем алое – не успевало высушить пот ушедшего дня. Люди в именье летали как на крыльях, каждодневная работа была им не в тягость, все радовались грядущему празднику, барин разрешал праздновать Янов день честь-честью. Девки в прачечной заливались соловьями, настоящие-то устали, им надо было детей кормить и о гнезде хлопотать. Тем молодые девки и отличаются от птиц, что поют круглый год. Но птица принимается за свою песню с каждой новой весной, а девушки, как выйдут замуж, умолкают совсем – им надо детей кормить и дом свой обихаживать.
Вилюму сообщили, что управляющий его ищет. Ну, что там опять стряслось? Вот-вот стемнеет.
Оказалось, конь управляющего захромал, подкова отвалилась.
– Вилюм, отведи к кузнецу!
Слово молвить против Вилюм не умел. Сказал только: – Хорошо! – и стал собираться.
– С кузнецом я сам рассчитаюсь! – крикнул вслед ему управляющий.
Мог и не говорить, с досадой подумал Вилюм, вместо тебя кошелек доставать не стану. Двумя пальцами он пошевелил в кармане, где лежало несколько мелких монеток.
Досада понемногу прошла. Предвечерье было таким славным! Все источало аромат, да, действительно, все – словно большой сосуд запахов, земля дымилась невидимыми сладкими испарениями в честь великой радости жизни. И невероятным казалось, что пройдет время, и каждая травинка на лугу, каждый колосок ржи будут скошены и свезены в сараи, с края канавы робко станет поглядывать какой-нибудь одинокий цветок, за которым никто больше не захочет наклониться. Осень приходит потому, что ничего иного в тот момент не остается, должен ведь кто-то прийти и оплакать исчезнувшее богатство, сорвать последний лист, ибо негоже наряжаться на похороны природы. Да, и в конце должна еще явиться зима с ее равнодушными бледными саванами.
Кузнец жил недалеко, на холме за церковной корчмой. Завидев Вилюма, он особо не удивился, хотя из именья к нему редко заворачивали. Кузнец был черен как черт, как черту и пристало, и в церковь он ходил очень редко.
– Что, ваш кузнец еще болеет?
– Болен еще, – и Вилюм подвел господского жеребца. Конь повернулся боком и уставился на кузнеца злым глазом. Ах, не нравится тебе это дело, добродушно подумал Вилюм, ну, конечно, кто ж доктора не боится. Он помог придержать жеребца. Кузнец смеялся, показывая белые зубы.
– Слыхал, тебя хотят в Каршкалны лесником поставить?
Вилюм молча кивнул.
– То-то тебе радость. Жениться сможешь. Без жены и детей ни порядочным лесником, ни хозяином в доме не будешь, – сказал кузнец и кивком указал на раскрытую дверь – там виднелась его избушка, маленькая, как горшочек, но полная радостной жизни. – Да, будет свое добро… будет что детям оставить.
В горне горел огонь. Кузнец действовал без спешки, как всякий знаток своего дела. Эх, хорошо же это, знать свое ремесло!
– Тебе нравится кузнецом? – спросил наконец Вилюм.
Кузнец глянул на него.
– Кузнецом, говоришь?
– Ну да, – ответил Вилюм. – Я хотел спросить, ты никогда не хотел быть кем-нибудь другим?
Кузнец не засмеялся вопросу, казалось, он обдумывал что-то, и затем ответил:
– Нет, я с самого детства хотел работать с огнем и железом.
– И с подковами.
– И с подковами. Э-э-э, кажется, ты вовсе не хочешь в лесники? – поколебавшись, заметил кузнец.
Во тьме кузни Вилюм прямиком выложил все – так тяжело было у него на сердце. Рассказал, что охотно всю бы жизнь провел в конюшне, да, конечно!
– Знал бы ты, какие они умные, – с жаром сказал Вилюм, – они все-все понимают!
Его руки, казавшиеся столь же растерянными, как и их хозяин, в поисках спасения ухватились за потную шею коня и гладили его гриву. Правда, это был чужой конь, господский конь. Вилюм даже представить не мог, что когда-нибудь у него будет свой. Но он готов был тихой своей любовью объять их всех – каурых и гнедых, серых и в яблоках.
– Вишь как, – задумчиво сказал кузнец.
– Да к тому же я никак не могу научиться стрелять, – Вилюм открыл свою беду, что ж, раз так, значит так, из его души излились ручьи сожаления, как бывает в лесу после сильного ночного ливня, когда вся земля, кажется, рокочет, а это всего лишь бегут желанные воды.
Кузнец вовсе не был сердобольным, Вилюм – не нытик. Но случаются минуты, когда надо выговориться. Огонь в горне радостно загудел, что это он себе вообразил?
– Да, тогда плохи твои дела.
– Мне бы хотелось туда, в Каршкалны. Вот бы жизнь была! И Юленька из именья, я знаю, она пошла б за меня, предложи я ей. Но если я не могу! Все могут, а я не могу даже в дверь сарая толком попасть!
Он помолчал, а потом бросил с горечью и злобой:
– К самому хозяину преисподней пошел бы, если б знал, что он поможет.
– Разве ж не знаешь: что очень ищешь, чаще всего где-то рядом, – услышал он голос кузнеца. Голос шел словно из-под земли, но это было не так, нет, просто кузнец склонился над копытом коня, прилаживая подкову. И тогда наступило молчание.
– Могу дать тебе один совет, – в конце концов сказал кузнец, почувствовав, что Вилюм ждет – чего? помощи? слова? – Я знаю, но это очень опасно. Тот, кто так сделает, может душу свою потерять.
– А что такое душа? – спросил Вилюм. – Я вот все время думаю, что, верно, у меня нет души вовсе, я же не могу, как другие… Ты видел когда-нибудь старого конюха? Если барин и не прогонит меня, придется есть хлеб, что подают из милости, так и так… Ты видел их, этих стариков со слезящимися глазами, этих старух с клюкой?
Конь был подкован, но Вилюм не собирался уходить, и кузнец не усылал его, однако прошло немало времени, прежде чем Вилюм во тьме кузни опять не услышал его голос.
Вилюм слушал, затаив дыхание. А снаружи звучал светлый голос женщины – она звала домой сытых коров.
В кузне пылал огонь, и тут был словно маленький ад – вовсе не такой уж неприятный.
У господского коня все четыре ноги были в порядке, и он спокойно мог бы плясать, если бы в именье предстоял лошадиный бал. Управляющий похвалил Вилюма и сказал, что, когда тот займет новую должность, здесь, в именье, его будет сильно не хватать. Но рыба ищет где глубже, а человек – где лучше. Вилюм слушал, ему, как и любому, нравились похвалы, и на сей раз мысли у него были легкими: ничего, если все пойдет, как я задумал, тогда уж пусть другой парень скребет умных лошадок и расчесывает им гривы. У Вилюма у самого будет конь, леснику нельзя без коня, такие площади ему объезжать. По дороге домой он нежданно повстречал Юленьку и перемолвился с ней парой слов. Юленька и вправду была красивая девица, а в последних лучах солнца была так хороша – ну, просто бери и целуй! Но Вилюм целовать не стал, девки потом невесть что выдумают, – он сдвинул шапку на затылок и ушел, задорно бросив «всего доброго», и Юленька с пылающим сердцем и щеками так и осталась стоять, глядя на свои ноги – они были вымыты добела и сейчас, в алом блеске зари казались розовыми, как у какой-нибудь благородной барышни. С такими ногами не стыдно улечься спать и на самые тонкие простыни. У Юленьки есть пара таких простыней с прошвами и кружевами, для свадебной ночи.
Вилюм уже завернул за угол пивоварни. Юленька вздохнула и пошла, и закат был так щедр, что озарил всю ее фигурку, алую как цветок яблони, алую, как стыдливая невеста.
В воскресенье Вилюм надумал пойти в церковь, но оказалось, священник заболел, вот, черт, в самый разгар лета. Так и не пришлось пойти в церковь, и товарищи его подивились, как близко к сердцу Вилюм воспринял это. До сих пор он вовсе не был таким уж богомольным. Но досада Вилюма не могла тягаться с окружающим благолепием, и, когда после обеда парни позвали его на реку, он согласился. Река текла темная под ольшаником, но когда она попадала на простор, где вдоволь солнечного света, оставалось лишь подивиться – каким разным может быть даже характер реки.
Неожиданно на берегу появилось несколько девиц из именья. Они улыбались и смеялись, и грешно было оставить их вот так стоять, когда плывет по реке послушная лодка. Лодка пристала к большой коряге, черной, как скопище бед, и девушки со смехом попрыгали в нее. Юленька тоже была среди них, и, хотя она сидела не рядом с Вилюмом, взгляды их то и дело встречались, вот диво-то! Девицы собирали водяные лилии и бросали их в лодку, а Юленьке нравились желтые кувшинки, они пахнут так сладко. Неужто и вправду пахнут, не верил Вилюм, и в доказательство получил прямо в лицо маслянисто-желтый цветок, тот коснулся кожи – прохладный и волнующий. Лодка скользила, девушки пели, и Вилюму казалось: хорошо все-таки жить на свете.
Да, в Янов день все благоухало и ликовало, барин не скупился для своих домочадцев, приказал экономке кормить всех до отвала – пусть знают и помнят, что такое праздник. К барину съехались гости, они веселились и в парке, где стоял застекленный павильон, и в самом барском доме, его окна сияли огнями, словно в зале зажгли маленькое солнце. Настоящее давно уже зашло, позолотив на прощанье макушки деревьев. Челядь веселилась возле людской, там для нее выставили две бочки пива и блюда с пирогами, а поначалу было даже мясо – вареное и жареное – не зря за два дня до того из свинарника доносился такой визг, как перед днем Мартина или перед Рождеством, когда наступает время забоя. Тогда последний тоненький визг откормка разносится далеко над замерзшей землей, не внушая никому горя по поводу ухода сытой души, ибо похороны свиньи – единственные радостные похороны, когда человеку дозволяется думать о вкусных кругах колбасы.








