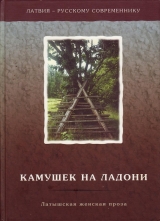
Текст книги "Камушек на ладони. Латышская женская проза"
Автор книги: Илзе Индране
Соавторы: Инга Абеле,Гундега Репше,Айя Лаце,Регина Эзера,Дагния Зигмонте,Андра Нейбурга,Лайма Муктупавела,Визма Белшевица,Нора Икстена
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
ВОСКОВАЯ ДОЧУРКА
Во времена, которые многие, вероятно, уже не помнят, на берегу моря жила ведьма. Она была честной рыбачкой и предпочитала передвигаться в лодке, а метлой пользовалась только в редких случаях. Эта ведьма не тревожила людей своей ворожбой – она не портила скот, не крала детей, не имела обыкновения напускать засуху или наводнение. И все же понятно, что одинокая рыбачка использовала некоторые свои сверхъестественные способности, чтобы приманить рыбу, развести огонь, чтобы утихомирить море. Когда случался большой улов, ведьма танцевала на закате по морской глади, чего не мог ни один простой смертный. Надо добавить, что она не знала ни сколько ей лет, ни когда она родилась, ни когда умрет. Для ведьмы это было довольно необычно, потому что такие вещи ей следовало бы знать. Знала она только одно – что у нее не может быть детей, и всем сердцем об этом переживала, что также было не слишком свойственно этому бесовскому роду.
В свободное от рыбалки время ведьма отправлялась к людям, превращалась в воздух, насекомое или цветок, и, проникнув в жилище, наблюдала за маленькими и большими человеческими детьми. Не раз, в отсутствие мамы или няньки, она показывала детишкам невиданные чудеса – приколдовывала соскам крылья, и те начинали летать, как бабочки, оживляла плюшевых мишек и тряпичных кукол, заставляла свистульки говорить, танцевать и петь. Когда взрослые невежды вбегали в комнату, они не могли надивиться, почему их детка смеется, как от щекотки, безо всякой причины.
После таких развлечений ведьма возвращалась в рыбацкий поселок погрустневшей, но как бы ни ломала она свою колдовскую голову, так и не могла придумать, как ей заполучить ребенка.
Ветреными вечерами ведьма обычно сидела в своей хибарке, плавила свечи и лепила из мягкого воска маленькие забавные фигурки. Их у нее скопилось уже много, и стояли они повсюду: на деревянных полках, у окон, в кладовке, в изголовье и в изножье кровати. Восковых куколок ведьма лепила просто так, для своего удовольствия. Впрочем, наивно было бы полагать, что она не владела приемами любого цвета магии и не знала, какие вещи с этими фигурками можно проделывать. В потускневшем футляре под ее кроватью хранилось по меньшей мере девяносто девять иголок, которыми можно было протыкать восковую куколку, превращенную в двойника какого-нибудь человека или животного. Однако ведьма избегала пользоваться столь нечестными приемами. Правда однажды, шутки ради, она продырявила мешок одного слишком жадного до талеров господина, потыкала в круглое пузико противного чиновника, а еще уколола в зад одного невинного, как слезинка сиротки, слугу Божьего, который хотел не сходя с места обратить молодую девушку в ведьму. Вот, пожалуй, и все, видно, прозрачный морской воздух выдул из ведьмы злую колдовскую радость, а тяжелый труд рыбачки заставил ее забыть кое-какие преимущества магии.
Однако так же, как тепло приходит с согреванием, а хорошее с ожиданием, так однажды ветреным вечером ведьму, лепившую из воска фигурки, вдруг осенило, как получить горячо желанное дитя. Она трудилась с полуночи до рассвета, делая из воска чудного круглого ребенка, похожего на тех детишек, которым она показывала чудеса в жилищах людей. С первыми лучами солнца пухлощекая девчушка была готова. В тяжелом, простом ежедневном труде ведьма не забыла мудрые предания и истории о сотворении мира, которые стоило помнить, потому что в них можно было найти немало ценных советов, как поступать тогда, когда, казалось бы, на ум уже ничего не приходит. Поэтому ведьма отнесла восковую куколку на песчаный берег и в мгновение ока вдохнула в нее жизнь. И как по волшебному мановению, по белому песку забегала маленькая девочка, как две капли воды похожая на тех детишек, которых ведьма столько раз развлекала в жилищах людей.
Ведьминой радости не было конца. Все, о чем другие мамы рассказывали своим детям в сказках, ее восковая дочурка получала наяву. Она привыкла, повиснув на закорках у ведьмы, гулять по глади моря, кататься на метле над вершинами деревьев, разговаривать с ведром воды, с хлебной лопатой, с ракушками на морском берегу и зайчатами на опушке леса. Восковая девочка знала, что маме нетрудно превратить песчаные куличи в миндальные пирожные, приколдовать дюне бороду или раздобыть кусочек радуги, который можно хранить где угодно – за щекой, за пазухой или в косе.
Восковая дочурка росла, как гриб после дождя, а ведьма не могла надивиться на выдумки и шутки, которыми была полна головка ее любимицы. Ведьма с радостью их все исполняла – протягивала иссохшие костлявые руки и колдовала напропалую. Запрещалось дочке только одно – играть с восковыми фигурками, стоящими там и сям по всей хибарке. Когда ведьма увидела, что послушания не дождаться, она сложила все фигурки в большой мешок и вместе с футляром для иголок тщательно закопала в дюне. Присев на свежей земле, ведьма думала о том, что только она может заставить плясать этот мир: слепить из воска двойников людей и проколоть их, когда заблагорассудится, или же вдохнуть жизнь в бесчисленных восковых детишек, которым ни одна ведьма, хоть в лепешку расшибись, не смогла бы сделать двойника. Но ни к чему такому разум ее не подталкивал, еще тысячу лет она могла бы спокойно ловить рыбу на берегу моря и ворожить по мелочам на радость своей дочурке.
Время бежало быстро, как в сказке, восковая девочка в два счета превратилась в прекрасную девушку, а ведьма по-прежнему называла ее своей восковой дочуркой. Только вот развеселить свою любимицу ведьме больше не удавалось – чудесное восковое дитя бродило по побережью, роняя соленые слезы – за свою долгую жизнь ведьма видела такое впервые. Однажды она услышала из уст дочки слова, которые заставили ее задрожать от страха: «Эту светлую полосу по ту сторону моря я люблю так, что сердце тает», – говорила девушка. Ведьма взяла ее руки в свои и сказала: «Глаза тебя обманывают, никакой полосы по ту сторону моря вовсе нет, зачем же любить то, чего нет на самом деле?» И вдруг ведьма спохватилась, что ее восковая дочурка каждый день проводила среди таких чудес, каких на свете и не бывает. Уговорами и угрозами она пыталась увести девочку с берега моря, но ничего не помогало. Восковое сердечко ее дочурки быстро растаяло от любви к светлой линии по ту сторону моря. От жарких чувств девочка расплавилась, как свеча, оставив в осиротевших руках ведьмы только комочек воска.
От горя ведьма потеряла рассудок. Оставшуюся часть жизни, которая, как известно, была не такой уж короткой, она провела на морском берегу и все пыталась докатить маленький шарик воска до линии горизонта.
Перевела М. Сиунова
МЕЧТА БРАДОБРЕЯ
Брадобрей мог жить припеваючи. Этот ловкий парень не только прекрасно брил бороды, стриг волосы и освежал одеколоном румяные господские щеки, но и неплохо разбирался в медицине. За приличную плату он не отказывался и занозу извлечь, и нарыв вскрыть, и кровь, если надо, пустить; последнее средство многим помогало вернуть утраченную бодрость, хотя были и такие, кто от кровопусканий еще больше слабел, но здесь уже не было вины брадобрея, никто ведь не всемогущ.
Каждый второй день с самого утра брадобрей начищал свою вывеску – подвешенное на цепи огромное лезвие бритвы, унаследованное им от предков. Каждого, кто переступал порог его цирюльни, брадобрей встречал радушной улыбкой, гостеприимно приглашал войти и развлекал дружеской беседой. Поэтому люди охотно заходили к нему не только тогда, когда была необходимость побриться, или, не дай Бог, пустить кровь.
Брадобрей жил в достатке, хотя и не слыл особо зажиточным человеком. Вечерами он любил посиживать в корчме, попивать водочку и играть в карты, при этом он никогда никому не отказывал в деньгах. Его единственная странность заключалась в полнейшем нежелании сковывать себя узами брака и доставляла немало забот и разочарований небогатым девицам на выданье и, особенно, их матерям; те уже видели своих баловниц женой брадобрея на полном обеспечении и даже воображали разные излишества вроде тонких тканей на платья и сапожек с не менее чем двенадцатью кожаными пуговичками. В отчаянии некоторые из девиц даже решались лишний раз обратиться к брадобрею и пустить кровь, чтобы иметь возможность упасть в обморок прямо на руки желанного. Но для таких случаев у брадобрея имелся кувшин с холодной водой и, что еще неприятнее, особая закваска, нюхнув которой, девица моментально вскакивала и всю дорогу домой чихала, как полоумная.
В конце концов матерям и дочкам не осталось ничего другого, как смириться с судьбой, оставить брадобрея в покое и готовиться к нападению на сапожников, бондарей и пекарей в поисках выгодной партии.
Так вот, нежелание брадобрея жениться казалось немного диковинным, но во всем остальном в глазах людей он был человек как человек и зарабатывал свой хлеб насущный там, где Бог ему велел.
И все же в тихом омуте известно кто водится, и брадобрей в этом отношении не был исключением. Втайне ото всех он помаленьку воплощал в жизнь свою мечту, ведь не для того он родился на этот свет, чтобы каждый день брить бороды, стричь волосы и пускать кровь. Поздним вечером после работы брадобрей заботливо собирал состриженные волосы и прятал их в предназначенный для этого сундучок. Но двигали им вовсе не темные помыслы.
Как и все местные, брадобрей слышал о Ныряльщице за жемчугом по прозвищу Голое Темечко, которая приехала из далеких стран, где за короткое время невиданно разбогатела на ловле жемчуга, и поселилась неподалеку. Ей принадлежали за городом белые дома особой постройки с бассейнами, в которых под камнями, как болтали люди, она хранила свои самые большие жемчужины, с парками, полными забавных деревьев диковинной формы, охраняемых черными людьми. Впрочем сторожили их напрасно, ни один человек в здравом уме и ноги не сунул бы в этот ад.
Итак, от частых ныряний за жемчугом Ныряльщица совсем облысела, и тут бессильно было все ее богатство. До сих пор ей никак не удавалось подобрать подходящий парик, который сидел бы на голове как влитой, чтобы при взгляде на свое отражение ей не хотелось больше разбивать зеркало вдребезги, как она делала уже не раз. Она рассорилась со многими всемирно известными мастерами по изготовлению париков, которые по приглашению Ныряльщицы приезжали в ее необычные, а потому опасные владения с трепещущим сердцем, но ведь за деньги и сам Черт танцует, что уж говорить о наших мастерах! Клейщики соломы, чесальщики пакли, скребни щетинные, бранила их она, выгоняя из своего дома, а их парики нахлобучивала на головы своих черных людей.
В конце концов лысая Ныряльщица распространила по окрестностям весть: того, кто изготовит парик, который ей понравится, она увезет с собой в далекие страны и в только ей одной известных местах позволит доставать своими руками из глубин красивейшие жемчужины. «Это подстегнет безумцев, – подумала мудрая не по годам и многое в жизни повидавшая Ныряльщица, – ведь что не могут мастера, могут безумные».
Своими руками доставать жемчуг из глубины вод в чужой невиданной стране – о такой жизни стоило мечтать наяву, что и делал брадобрей каждую минуту, чистил ли он вывеску, брил ли бороды, пускал кровь или же играл в корчме в карты. Как вы уже догадались, окрыленный своей заветной мечтой, брадобрей задумал ни больше ни меньше, как изготовить такой парик, который заставил бы Ныряльщицу затаить дыхание от удивления и восторга. Именно для этого он так тщательно собирал срезанные волосы, а еще изготовил из дерева голову и тоненькую надежную сеточку к ней. Поздним вечером возвратившись из корчмы, где он принимал водочки лишь для бодрости, брадобрей ночь напролет клеил волосы на прочную сеточку, натянутую на деревянную голову. Работа была на редкость сложной и утомительной, но брадобрей уже видел себя ныряющим в лазурные воды, где среди подводных зарослей прячутся раковины, хранящие самые красивые жемчужины. Заглядывая еще дальше вперед, он видел себя в белой одежде под невиданным деревом, перебирающим свой роскошный улов, и эта картина придавала ему новые силы.
Настал день, когда парик был готов. Вид у него был действительно необычный – разноцветный, с короткими и длинными прядями, однако производил он, и отрицать это было нельзя, неизгладимое впечатление. К тому же парик был сделан из настоящих волос!
С трепещущим сердцем и покрасневшими от недосыпа глазами, с париком в деревянном сундучке брадобрей явился к лысой Ныряльщице. Еле живой от страха, проскочил он мимо черных стражей и был любезно препровожден к белому дому, где в удобном кресле в передней сверкало само Голое Темечко. На удивление, брадобрею она даже без волос показалась весьма хорошеньким созданием, которое тотчас же проворно вскочило и велело ему показать свое творение. И случилось чудо – парик в два счета превратил Ныряльщицу в неоспоримую красавицу. От восторга она стала кричать и исполнять необычный танец, которому, наверное, научилась в далеких странах в промежутках между ловлей жемчуга.
Вот редкий случай, когда обещанного три года ждать не пришлось. Ныряльщица действительно увезла брадобрея с собой в далекие страны. И все произошло так, как он несчетное количество раз представлял себе во сне и наяву. Единственное, что он не предусмотрел, так это что попадет в любовные путы к носительнице своего парика. Однако от частых ныряний он тоже облысел, и тут-то Ныряльщица его бросила. Но, извините, брадобрею уже не было до этого никакого дела – он счастливо продолжал нырять за раковинами и сидеть под невиданным деревом, и лучи солнца одинаково играли в жемчужинах и на его лысой макушке.
Перевела М. Сиунова
ИНГА АБЕЛЕ

Об авторе
ИНГА АБЕЛЕ (1972) – уроженка Риги, изучала библиотековедение, затем биологию и, наконец, словно подводя итог почти одиннадцатилетним тренировкам по конному спорту в Скривери, резко изменила свой образ жизни и переехала в Талси, так как в имении Окте требовался тренер. Через несколько лет, поработав в разных местах, И. Абеле поступает в Академию культуры, чтобы заняться драматургией. Поначалу она писала и публиковала стихи, но по-настоящему была замечена как самый успешный дебютант в прозе 1997 года и стремительно вошла в латышскую литературу со сборником «Дом с колодцем» (1999). Сейчас она известна также как автор книги стихов и ряда пьес.
В рассказах И. Абеле будто бы ничего не происходит, однако чувствуется присутствие чего-то очень значительного, влияющего на существование человека, его самоощущение и отношение к жизни, это нечто не имеет названия, оно подобно легкому веянию или аромату цветов в воздухе. Писательскому почерку И. Абеле присуща эта неуловимость, которая, тем не менее, имеет ярко выраженный вкус реальности.

ЭМУ, МОЙ ДРУГ
И был вечер. И вечер, как сиреневое растрепанное боа танцовщицы варьете, реял над ржавыми крышами. Андрей завел машину, и Кице проснулась. Глаза ее сощурились в смешливых морщинках, она тихонько почукала – чук-чук-чук.
– Мне снилось, будто я еду на громадном железном паровозе, колеса стучат. И лучше всего – в туннелях, потянешь за веревочку свистка – ту-ту-у… А еще – там был дым, – добавила она, как бы оправдываясь.
Андрей устало провел по лицу ладонью. У меня лицо грубое и злое, подумал он. Кице такого не заслужила.
– Тебе пришлось долго ждать.
– Нет же, мне снился сон. Я ехала на паровозе – ту-ту-у.
Кице снова нырнула в капюшон куртки. Андрей медленно повернул руль, и они выехали на сонное шоссе.
– Куда мы едем?
– Мы едем тяпнуть по рюмочке, – ответил Андрей, переключая скорость. Машина вздохнула и мягко влилась в общий бег. Солнце впереди было уже не сиреневым, а неестественно красным. Такого цвета вообще нет, такого солнца не бывает, подумала Кице, – ни в природе, ни на бумаге. Смешай художник такую краску, ему никто не поверил бы.
– Хорошо, – удовлетворенно протянула она.
– Это тебе не паровоз, – ухмыльнулся Андрей, не спуская глаз с дороги.
Промелькнули мосты; в спокойном взгляде едущих отражались дома и крашеные заборы, бензоколонки и высотки, дорога стала многополосной, наподобие дракона, у которого с каждой срубленной головой отрастают новые. В стекла машины плевались желтые автобусы, месившие грязную жижу черными лапами, как брюхатые, грузные животные. Кице соскользнула в сиденье поглубже и смотрела через черную панель вверх, на лица людей на перекрестке. Все так. Вечер рабочего дня и весна.
Ей было хорошо. Так хорошо, что ее рука маленькой зверушкой взбежала на переключатель скоростей и обхватила пальцы Андрея.
– Мне выдали зарплату, – объявил Андрей. – Всю-всю, с долгами. У нас теперь куча денег.
Высвободившись из-под ее руки, он осторожно закурил.
– Я хочу отбивную, такую большую, горячую отбивную с картофелем фри, – сказала Кице. Андрей открыл окно, чтобы разогнать дым. Быстрый порыв ветра, смешавшись с горьким дымом, поцеловал Кице в лицо и умчался прочь. Она взглянула на Андрея. Кице узнавала его именно сейчас, когда дорога засосала Андрея, захватила в свою власть так безжалостно, что для Кице там совсем не оставалось места.
Но дороге хотелось еще и еще, вот она уже качнула машину, легко подбросила в воздух, так что у Кице защекотало в животе, и наконец рывком вынесла на мост.
– Куда мы едем? – снова спросила Кице.
– Тяпнуть по рюмочке, – теми же словами ответил Андрей.
– Через весь город?
– За город, – сказал Андрей и надел солнечные очки.
– Хорошо, – снова удовлетворенно протянула Кице и, вспомнив паровоз, стала почукивать – чук-чук, чук-чук. Кице воочию представила себе железную громадину, которая неудержимо несется вперед, оставляя за собой полосы дыма, как долгие весны в желтоватом танце. Ритм и тяжесть, думала она, да, если есть ритм и тяжесть, то жизнь не так легко остановить.
– Перестань! – резко прервал он ржаво-черный сумбур ассоциаций Кице. Чукчуканье прекратилось.
– Отбивную и картошечку фри! – попыталась вымолить прощение Кице. Ее голос был нежен, как алые сполохи на асфальте, которые Андрей разбивал вдребезги один за другим.
Только и было любви, сколько держится хрупкий проблеск, и здесь я – ровно столько, сколько мы во власти дороги, ничего другого не было, не было, не было, думала Кице. И снова ритм и ничего больше. Гадство! Полицейские в светящихся куртках – словно брошенные собаки в сумерках, для природы становится все темнее, а для бензоколонок все светлее, для звезд светлее, гадство!
– Мне надо в кустики, – говорит Кице, но, выбравшись наружу, и не думает присесть, только глубоко, до мозга втягивает в себя холодный воздух. Андрей терпеливо ждет, дверца машины открыта, свет в салоне желтый и уютный, и эта громкая музыка вдобавок!
– Гадство, – наконец произносит Кице вслух.
– Ты чего? – спрашивает Андрей, и голос у него такой же теплый и желтый, как свет.
– Мне расхотелось в кустики.
Кице залезает обратно и старается не встретиться взглядом с Андреем. Не надо бы уклоняться, она еще не может позволить себе рассердить Андрея. Они еще так мало знакомы.
Машина останавливается у придорожного кабака.
Лола.
Хорошее имя, подумалось Кице. Они оставляют машину и, немного смущенные, входят внутрь. Пунда-а, пунда-а, пунда-а – бухает в двери музыка. Кице встревоженно хватается за рукав Андрея. У входа они видят несколько курящих девиц, те окидывают вошедших короткими оценивающими взглядами.
– Ты уже бывал здесь? – спрашивает Кице.
Но Андрей только уверенно идет вперед, увлекая Кице за собой.
– Андрей! Андрей! – моляще тянет Кице.
Андрей уже отворяет застекленную дверь. Дым и музыка – пунда-а, пунда-а. Пейзаж вокруг кабака кажется ржавым и недвижным. Заброшенным.
– Андрей, ты уже бывал здесь? – не отступается Кице.
– Что? – кричит он ей в ухо.
– Ты бывал здесь?
– Раньше, с друзьями.
Раньше – это до Кице. Это время, которое встает между Кице и Андреем как стена. Ведь Кице раньше никуда не ездила. Кице ходила на чинные концерты – рояль и несколько поющих актеров. Ну, на сегодня оставим это. У матери Кице были проблемы с желудком. На нервной почве. И Андрей это знает. Оставим это, говорила мать в те вечера, когда Кице набиралась духу, чтобы поспорить, оставим это, Китти, хотя бы на сегодня.
Бармен заметил Андрея еще у дверей и бросает в него легким желтым мячиком, лежавшим на стойке возле блестящих монет. Андрей ловит его и швыряет обратно, прямо в грудь длинному.
– Хороший выход! – орет бармен голосом спортивного комментатора. – Анджа!
Они здороваются и по-родственному оглядывают друг друга. Оба играли. Долгие годы. Только Андрей теперь хромает.
Кице приходит на ум, что бармен немного пережимает, но тут Кице сама приходит на ум Андрею.
– Что ты будешь пить? – спрашивает он через плечо, похоже, он хочет куда-нибудь пристроить Кице, чтобы она не стояла и не слушала их дурацкий треп.
– Воду, – с вызовом отвечает Кице.
– Да брось ты!
Андрей довольно чувствительно берет ее за локоть и подталкивает к ближнему столику.
– Не дури.
– Почему я не могу выпить воды? Нет, не оставляй меня здесь, не оставляй! – …и они наговаривают еще кучу всяких прочих глупостей, не замечая друг друга, потому что Кице разглядывает незнакомое место, а Андрею хочется скорей к своему другу и все знаки в воздухе и в глазах предвещают классный, бесподобный вечер. Кице вспоминает розовые сполохи на шоссе и смиряется.
– Шампанского, принеси мне шампанского! И отбивную, и картошку, ой, я тащусь – какие здесь тарелки большие!
Едва Андрей поднялся, кто-то другой из-за соседнего столика хватает Кице за руку. Она с удивлением вытягивает локоть, как рыбу, из потной ладони.
– Погоди! Тихо! Тихонько послушай! Сейчас начнется. Это вступление к песне.
Кто играет, Кице не видно, однако такая музыка была бы под стать созданию, на которое среди зимней ночи с холодом, голодом и отчаянием обрушилось дикое желание жить, трепет жизни. Музыка рвется в мир и возвращается Кице в душу, кажется, что-то в этом роде ее душа могла бы признать за свое, не будь оно столь пугающе голым, чересчур откровенным – для нее, которую всю жизнь учили не снимать покровов, таиться, скрывать следы.
Началась песня, и нагота пропала. Андрей растворился в толчее. Бармен любезно ставит перед ней полную тарелку и бутылку взрывного вина. С первым же покалывающим глотком Кице становится ясно, что отныне все будет иначе, – хотя в пространстве и времени царит невесть какое тысячелетие и первое апреля, все теперь новое, все небывшее. Она жадно ест мясо, прикрыв глаза, и вспоминает влажный ветер. Влажный ветер, влажный ветер в его парусах – откуда это? Когда это было? С глотком вина что-то жаркое сбрасывает ее, как брызги, как вздох, с зеленой хвои, с сосновых вершин наземь, она падает в бесконечность, и раскрывается небо, оно вот-вот кончится, но Кице в глубине души знает, что не будет ни конца, ни края, Кице глубоко и светло вздыхает и в падении держится за то единственное, что у нее осталось, – за жаркую подтолкнувшую ее силу…
…она открывает глаза – перед нею противный длинноносый бармен, дышит прямо в лицо. Чего тебе хочется? Хочешь потанцевать? А кто же будет обслуживать пациентов, ай, глупости, путаются слова, это же клиенты, вечно алчущие яств и пития, однако бармен нежно хлопает ресничными ставенками на круглом лице, он хочет танцевать с девушкой своего друга – как ему откажешь?
Чужой с соседнего столика удерживает ее, приходится отказать бармену и поболтать с этим мистером Кем-то Другим.
– Почему у вас так потеют руки? – интересуется Кице.
– Вегетативная дистония, – смущенно признается мистер Кто-то Другой и отирает о живот ладони, от волнения они вскоре покрываются красными пятнами. У мистера Кого-то Другого раскосые глаза и смугло-желтый цвет лица. Он называет себя:
– Фу Ку Сань.
Но – поздно, бармен повернул ручку громкости и ведет Кице танцевать. Кто-то кричит со стороны, что бармен – колдун, он водится с нечистой силой. Пунда-а, пунда-а, пунда-а, ломится в двери музыка. Тот крикун – не то в дымину пьяный тип, не то ревнивец Сань Ку Фу, Кице не верит, что бармен может быть колдуном. Колдуны, в ее понимании, танцуют привольно и мощно, как волны на сильном ветру, а не как этот – весь напряжен от ботиночных рантов до полотенца через плечо, впрочем, может статься, это застарелый, еще не успевший развеяться стереотип – будто пляска шамана подобна пляске волн. Нет, Кице скорее назвала бы бармена Доктором кабака. Почетным Доктором кабака, он, как врач с невидимым стетоскопом, дергано кланяется у ее груди.
Ку Фу Сань подтанцовывает поближе и расплескивает шампанское широкой дугой вокруг Кице, пока наконец ему не удается совладать с прыгающими руками и влить питье в бокал.
Кице трясется в ритме музыки и ловит свои прежние представления о том, что здесь происходит, но прежнее не оживает, здесь все иначе – и это поначалу томит, хочется растоптать эту музыку и эту публику вдребезги, как зеркало, и уйти. Пусть останутся одни развалины и Почетный Доктор кабака с подносом на руке! Однако позже Кице удается все явственней сосредоточить внимание только на двух вещах – музыке и своем теле. И еще на двух – музыке за музыкой и движении в своем теле. Да, все и должно быть иначе – но как? У Кице нет ни малейшего понятия, разве что несколько пожухлых, старых представлений из прошлой жизни, которые, как она чувствует, никогда не станут явью и не окажутся правдой.
Кице уже совсем запыхалась, когда подошел тот светловолосый и предложил выйти с ним из зала.
Кице потрясла ситцевую блузку – немного пота и множество жаркого дыхания. Они поднялись по лестнице в холодный вестибюль. Кице следовала за светловолосым послушно и спокойно, и помещение слушалось его, резко сменив равнодушный прямоугольник стен на заинтересованный овал. Девицы замерли на полуслове, холод с ночной улицы пополз по их плечам в змеиной коже, недовольно тлели папиросы в пальцах мужчин. Спутник Кице, словно успокаивая, обвел взглядом пеструю публику, и болтовня возобновилась с резким щелчком, как бывает, когда град наискось ударит в окно мансарды.
– Эму не умер, – наклонившись к Кице, сказал парень, так тихо, словно туча, которая уже окутала ее черной тенью, но еще не пролилась. Хотя он старался быть незаметным и негромким, но все присутствующие снова замерли при первом же его слове. Кице кивнула и про себя сосчитала до пяти. Звеневшие в воздухе напряженность и ожидание, достигнув предела немоты, взорвались, рассыпая вокруг удивление, как брызги теплого, влажного песка. Одни девушки закричали, другие зарыдали от счастья и впились пальцами в блестящие волны волос, будто желая сделать себе больно. Парни в смущении потирали подбородок, окурки с шипеньем, как крупные капли дождя, полетели в лужу за порогом. Эму не умер. Эму не умер, дюжинами и сотнями губы осыпали эти слова на грязный пол. Кто-то свернул из них петарду и забросил поглубже в танцевальный зал. Патефон взвизгнул, как поросенок, когда его черный хвост сдернули с пластинки…
– Эму не умер! – Рев усиливался, и Кице захотелось сбежать. Она посмотрела светловолосому в глаза. Золотой дождь за соснами. Так мы, кроткие, войдем в царствие небесное.
Кице хотелось сбежать, но сотни рук подхватили ее и увлекли с ликующей толпой. Кице казалась себе глиной на гончарном кругу. В этот миг Кице была пророчицей и не смела разрушить чужую радость, а подлинный пророк, светловолосый парень, успел удрать. Он воспользовался бурлящей взахлеб толчеей и исчез, как иголка в стоге сена.
– Скажи еще раз! Скажи громко! – Каждому в толпе хотелось услышать своими ушами. Наступила выжидательная тишина.
– Эму не умер, – тихо, но убежденно проговорила Кице. Дикие танцы и веселье возобновились.
Сань Ку Фу снял ее со стойки и сказал:
– Пора. Пошли.
Он вывел ее через маленькую боковую дверцу. Там на уложенных на песке бревнах стояла лодка с охапкой цветов и Почетным Доктором кабака, державшим в поднятой руке свечу. Кице заметила, что они оба голые, в одних только юбочках из собачьих хвостов.
Она легла в лодку, и Почетный Доктор стал убирать ее цветами.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил Ку Фу Сань. Кице счастливо улыбнулась.
– Я боюсь за последний покров, что еще укрывает меня, – сказала она. – Что будет, когда его снимут?
Почетный Доктор покачал головой и положил руку Кице на грудь. Когда он отнял руку, на груди остался, словно слеза, кусочек нефрита, прозрачный, как озеро.
Они тихо вышли. У дверей Почетный Доктор помешкал, задул свечу, и прохладное помещение погрузилось в голубоватый сумрак, в котором светились белые цветы, покрывавшие тело Кице.
– Отдохни и снова выходи к нам. Сама почувствуешь, когда тебе захочется уйти.
Вырвавшись из толпы, которой хотелось ласкать и качать ее в танце, Кице усталой кошкой крадется по всем углам. Одни пьют, другие галдят, третьи, клоня голову, будто налитую дождем шапку подсолнуха, о чем-то размышляют у пышущей жаром пасти мангала. Легкий рассветный ветерок теребит светлые, пропитанные дымом волосы одного паренька. Он поднимает голову. Эму не умер. Прозрачный дождь за соснами – так мы, кроткие… Кице спрашивает у него про Андрея, но парень лишь неопределенно машет рукой, в которой одиноко покоится сорванный у кого-то крестик на золотой цепочке.
Она идет прочь, чувствуя, как ноют ноги, как устали бедра, и в голове булькает пустота, словно вино в полупустой бутылке. Где Андрей? И Кице тут же обнаруживает его.
Она идет к Андрею, лавируя между давно источенными ржавью останками машин, по песку, который с инеем и острыми камешками набивается между пальцами, ей приходит в голову, что у собак между пальцами такая нежная кожа – как же они зимой? Она идет по талой, еще хлюпающей, набухающей земле, покрытой ломкой сухой травой. Андрей сидит у пруда. Перед ним, словно конец света, от одного края земли до другого простерлось вспаханное поле в волнах и складках, пылающее, как обожженная красная глина, проколотая хрупкими зелеными волосками всходов. И небо припало к земляной миске. Снеговое небо дочерна синее, только на востоке приколотое к борозде роскошно-красное солнце мерцает сквозь сгустившуюся подвижную мглу, как люминесцентная сакта с темной серединкой. Кице хочется сказать спасибо за этот цвет.
– Хо-ло! – кричит она. Восход из долины швыряет в лицо туманом. Эхо еще долго плещется вокруг нее, как говор волн в морских воротах.
Андрей неподвижен. По его спине то и дело пробегает зябкая дрожь. И давно он так сидит – на черной, влажной земле?
Кице усаживается на скамейку. Она туже стягивает покрывало на голом теле, но благородная ткань не так легко поддается, а тело голое и чувствительное, оно вздрагивает от всего – от прикосновения твердой облупившейся краски на скамейке в каплях ночной сырости, от дыхания Андрея, от стеблей травы, скользкой улитки и даже крика ночной птицы.








