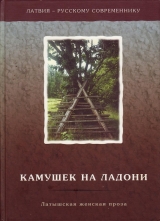
Текст книги "Камушек на ладони. Латышская женская проза"
Автор книги: Илзе Индране
Соавторы: Инга Абеле,Гундега Репше,Айя Лаце,Регина Эзера,Дагния Зигмонте,Андра Нейбурга,Лайма Муктупавела,Визма Белшевица,Нора Икстена
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
– Дитя. Выслушай меня, – мадам Жения взяла лохматую голову Мартыньша своими сухими руками и долго смотрела в его полные негодования и неприятия глаза. – Дитя, мальчик мой, выслушать меня ты согласился сам, ну, так слушай же до конца, испей полную чашу. Ни один человек из этого лагеря не был отправлен дальше по этапу. Ни один!
Лагерь как государство в государстве, со своими законами, менять которые мог любой начальничек. А вот их заскорузлые мозги изменить сумели только мы…
– …вы… – Мартыньш вырвался из объятий тетушки, но старая дама держала его цепко.
– Выжили все! Все, кто был в том лагере! Ты где-нибудь читал о таком? Самое главное – люди остались жить. Мы, как ты выразился, салонные благовоспитанные дамочки, мы делали все, что судьба, жизнь и совхозный начальник велели нам делать. Я хоронила мертвых, я с пилой и топором ходила в лес, доила коров, чистила уборные, допускала надругательство над своей плотью, к которой прикасался только мой муж!
Но, мальчик мой, мы все знали, что по-другому нельзя. Не улыбайся, у тебя пока что еще не усы – пушок! – она сильно сжала руку криво улыбавшегося Мартыньша.
– Ты понимаешь, что у нас была благородная цель – живыми вернуться в Латвию, наши дети и все, кому мы стремились помочь, не должны были стать калеками, не должны были умереть от голода. Мы выдержали.
– И бабушка делала то же самое?
– Да.
– И все собравшиеся на ее похороны друзья и знакомые знали, что вы делали?
– Да, они знали все.
– Я бы скорее умер или наложил на себя руки, чем позволил бы женщине жертвовать собой.
– Мальчик, в те времена главное было выжить. И верь мне, жертва стоила этих унижений. Когда я сейчас смотрю на наших детей, внуков и правнуков, слышу вокруг ни на минуту не умолкающую жизнь, я испытываю чувство удовлетворения от того, что ты называешь грехом, несмываемым грехом. Ха! Ха, обычно «после этого» я вставала и говорила себе: «Это произошло не со мной!»
– И вам, тетушка, не было противно?
– Было. Я тебе уже сказала, что сжав зубы, но улыбаясь мы делали все возможное, а порой невозможное, уму непостижимое. Слова, обращенные к Богу во время молитвы, звучали так: «…и не суди о мыслях наших по делам нашим, отдели наш духовный труд от наших телесных деяний…»
– Но это же были бандиты, убийцы, уголовники…
– Ты думаешь, медсестрам на фронте приходилось лучше? Только ни одна из них не осмелится в этом признаться, да и не надо. Эти генералы, командиры и всякие там лейтенанты, они тоже были такими же убийцами, маскировались за словом «война», когда появлялась возможность пустить бунтующую народную кровь и в самом начале выбить лучших… – взволнованно шептала тетушка Жения.
– Ну да, теперь о Второй мировой разное пишут. – Мартыньш обнял тетушку за плечи, и с минуту они сидели в полной тишине, и Мартыньш уже не чувствовал отвращения ни к себе, ни кому бы то ни было.
– Значит, всем заправляла Фекления?
– Нет. Она зажгла огонек в школе выживания, и мы сами, как могли, его поддерживали.
– А потом что случилось с Фекленией?
– Она умерла от разрыва сердца.
– Как? От разрыва сердца! Я считал, что ей было море по колено, никаких проблем.
– Она ушла жить в этот лагерь. Видишь ли, она по натуре своей была проститутка, она впитала в себя этот образ жизни, она по-другому и не могла. В лагерь приехала очередная группа начальников с какой-то инспекцией, и Фекления бросилась их ублажать.
И когда у одного из них она спросила, как же имя-отчество добра молодца, тот, качаясь на ней, ответил, что зовут его Петр Прохорович Кайдарцев. Это был ее брат, оставшийся в России еще с беженских времен, после первой мировой.
– Чего только на свете не бывает, – тяжко выдохнул Мартыньш.
– Мы похоронили Феклению на сельском кладбище, и все недоумевали, чего эти фашистки плачут.
Мартыньш чувствовал, что горло пересохло, как колючая ячменная солома, перестоявшая в стогу. Откуда-то вдруг возникла мысль, что в Архиве просто невозможно превратиться в сухаря, в человека в футляре, потому что любое дело, любой, даже самый ничтожный и вроде бы незначительный документ рассказывает о живом, о жившем человеке. Поэтому-то в Фонде церковных книг всегда пахнет ладаном – церковные книги, словно начало и конец, в них записаны рождение и смерть, словно зеркало, они подтверждают неповторимость каждого человека, кем бы он ни был.
– Что мне теперь делать?
– Как – что?
– С глазами Феклении?
– Подари ей что-нибудь. Ты же знаешь, как это можно сделать, не правда ли?
Ветер трепал полы модного длинного пальто Мартыньша, когда он стоял на Вантовом мосту и смотрел, как в водах Даугавы Фекления с достоинством, сдержанно протягивает руки, чтобы взять прекрасные белые розы.
Перевела Ж. Эзите
НОРА ИКСТЕНА

Об авторе
НОРА ИКСТЕНА (1969) родилась в Риге, но важные для себя годы провела в Икшкиле, что придало красок как картинам природы в ее произведениях, так и собственному характеру. Н. Икстена окончила филологический факультет Латвийского университета, работала в Литературном музее, журнале «Карогс» и вскоре стала профессиональной писательницей.
Н. Икстена работает в области художественной и биографической прозы, в числе ее произведений – сборники рассказов «Женские штучки» (1995) и «Обманчивые романсы» и книга промежуточного жанра «Празднество жизни», которую критика называет романом, сама же писательница обозначением жанра считает само название книги. Герои ее биографических книг – поэтесса А. Румане-Кениня, латыш-предприниматель Брунис Рубесс, в работе – книга об исполнительнице восточных танцев Вие Ветре. Многосторонняя творческая деятельность Н. Икстены охватывает и участие в создании документального фильма, который посвящен нью-йоркской группе латышских поэтов «Адская кухня». Под ее руководством создавалась антология латышской литературы на английском языке, вышедшая в США. Однако самое существенное – это проза Н. Икстены, чуть-чуть глубокомысленно меланхоличная, мерная, сглаживающая острые углы жизни, в ней внутренние состояния людей важнее сюжета и словно существуют вне конкретного времени и места.

ОДИН ДЕНЬ В ЕЕ ЖИЗНИ
До сих пор Она не понимает, что же произошло в этот день. Она помнит себя в поезде напротив милого семейства: муж и жена любовно очищают плоды шиповника и кормят ими свою маленькую дочурку. «Только не оставляй семечек, у семечек шипы», – беспрестанно напоминает мужу жена. Мимо робко или браво снуют вагонные боги – они предлагают желтую, розовую и красную прессу, песенники, дешевое пиво, горькую минеральную воду, Библию на двух языках, подтаявшее мороженое, любовные и религиозные книжонки, некрасивых пластмассовых кукол, купив которые ты можешь якобы помочь сиротам… Рядом с Ней садится сумасшедшая и держит нескончаемый монолог: «Был у меня сыночек, плохо было, нет сыночка, опять плохо, добра не жди, с голоду умру, от холода умру, так и останусь незарытая, кто ж меня зароет, когда сыночка нет, сыночек в земле, я наносила черной землицы на песок, мха наносила и лишайника, цветочков разных, камешков собрала, обложила могилку рядками и кружками, кружками и рядками, четыре куста сирени посадила, как зацветут, счастье ищу, то моего сыночка счастьица, сыночек у меня любимый был, да несчастный, меня не любил, пока не умер, был у меня сыночек…» Милое семейство поспешно сбегает на другое место. Она остается одна с сумасшедшей, которая моментами умолкает, чтобы набрать воздуха и начать сначала: «Был у меня сыночек…» Бормотание сумасшедшей постепенно сливается с монотонным стуком колес. На маленькой станции входит старик с корзиной подмерзших грибов. Она лихорадочно глядит в окно и видит рыжие опушки. Поздняя осень.
Она закрывает болящие веки и вспоминает весеннюю ночь. Был дождь, Кирье шел босиком по лужам, а Она, кто бы подумал, сняла джемперок, смеялась и шла по пояс голая по поселку. Тогда, правда, было темно, Кирье сперва смутился, но спустя краткое мгновение они робко поцеловали друг друга в мочку уха. Она помнит вкус дождя.
Поезд быстро бежит, неуемное солнце мелькает в окнах, в небе грудами облака, по краям канав яркие шляпки мухоморов. Болят веки, но все равно в Ней ощущение легкости и счастья. Никогда Она не чувствовала ничего подобного. Нет вопросов, на которые не было бы ответа. Ибо есть лишь один вопрос – вопрос о любви. Есть она или ее нет? Есть, и Она это открыла. Страх пропал. Но страх Ее чуть не сгубил, подстерегая во сне и преследуя как бред наяву. Ей случалось физически почувствовать раздвоение: не понять толком, что там борется – плоть с духом, добро со злом, ложь с истиной, – но Она бежала по улицам с мокрыми от пота ладонями и понимала, что Ей не убежать. Все кончилось так же внезапно, как началось, но страх, что это может повториться, наплывает часто.
Страх Она помнит так чувственно, что мурашки пробегают по коже. Сумасшедшая незаметно кончила монолог об умершем сыночке, бормочет что-то другое. Она вслушивается.
– …ушел твой сын, мой пастырь, идем скорее, как можно скорее, истинный бог и человек, людей избавитель, встретимся с иисусом хоть в тюрьме, иуда, ученик, его предал, если мы его живым увидим, толпа врагов его увела, тогда мы всеми силами будем ему служить, ушел мой сын, твой пастырь…
«Ты не думала о Боге», – вспоминает Она нечто вроде укоризны, которой близкий друг – семинарист ответил на отчаянный вопрос, как Ей справиться со страхом перед пугающим раздвоением. Они сидели на скамейке во дворе семинарии, была такая же поздняя осень, как за окном поезда. Друг сильно изменился, просил называть его Тимофеем. Он видел, что Она страдает, боится и не понимает, что делать. Тимофей напомнил притчу про запретный плод и очень серьезно, полушепотом рассказал, что, придя в семинарию, он сам в рюкзаке принес сюда труды горячо любимого им прежде Ницше, теперь эти книги в потайном, ему хорошо известном месте, и он борется с периодическим искушением заглянуть в них, до сих пор ему удавалось подавить в себе это желание.
«Не думай о своей страстной любви, начинай думать о Боге», – советовал друг, отечески взяв Ее за руку. Сперва Она хотела гордо ответить, что думать о Кирье – то же самое, что думать о Боге, потом вдруг смутилась и про себя все хотела напомнить Тимофею, что «Бог есть любовь», пока наконец не вспыхнула от гнева и слова не стали срываться с губ, громкие и несдержанные. Тимофей нервно оглядывался, ежеминутно приглаживая свои светлые коротко подстриженные волосы. Она еще и сейчас ясно помнит сказанные Тимофею слова: «То, что ты называешь моей страстной любовью, в сущности уже было во мне задолго до того, как я начала думать. Это продолжается, когда я думаю о Кирье или когда мы погружаемся в долгие беседы о вине и смерти, признаемся в любви или не верим, что способны признаться, прикасаемся друг к другу, не зная, что нас ждет, видим в снах притчи о своих переживаниях, терзаем себя сомнениями и то и дело взлетаем на головокружительные высоты выбора, унижаем друг друга как можем, чтобы потом насладиться боготворя…»
Ей кажется, что в голову вставлен лист бумаги и кто-то, стуча клавишами пишущей машинки в ритм колес, пишет на нем все, что Она в тот раз позволила себе сказать Тимофею. Она хочет остановить это письмо, лихорадочно смотрит то в мелькающее небо, то на рыжеватые опушки, сумасшедшая уснула, на миг освободив себя от нескончаемого монолога. Она опять вспоминает сжатые губы и заламывание рук Тимофея, вспоминает свой последний, с чувством превосходства, несдержанно выкрикнутый вопрос «Знаешь ли ты вкус дождя на мочке уха?» Тимофей побледнел, а идущие по двору три семинариста оглянулись. Ей показалось, что это был взгляд тройного сожаления.
Ехать остается одну только, но длинную остановку. Подмерзшие грибы в корзине старика постепенно одинаково коричневеют, он грустно смотрит на свою печальную добычу. Ей приходит на ум холодная зима и подаренный Кирье букет цветов, который пришлось держать на заснеженном балконе. Цветы подмерзли, поэтому их нельзя было нести в тепло, где застывшие лепестки сразу бы оттаяли, обмякли и покоричневели. Тогда Она каждое холодное утро просто радовалась, что, проснувшись, видит пестрые цветы на снегу, теперь это кажется притчей про обманчивую радость и красоту или, может быть, про горькую правду и гладкую ложь, про любовь к вере или веру в любовь, краткость счастья, сны и явь… Она воображает, что окно, в которое Она каждое утро видела цветы, было стеклянной стеной. По ту сторону обманчивая красота застывших лепестков, по эту сторону стала бы некрасивая истина оттаявших. А на стекле осталась бы правда о цветах.
Теперь Она почти нашла обозначение своему чувству счастья. Она ясно видит отблески от стеклянной стены, и причиной тому любовь. Может быть, и Тимофей такие видит, и причиной тому Бог. Она вновь испытывает стыд за свою несдержанность во дворе семинарии.
Она уже встает, чтобы идти к выходу, но тут сумасшедшая, проснувшись, робко протягивает что-то спрятанное в маленьком кулачке. Она протягивает навстречу раскрытую ладонь, чувствует, что кулачок сумасшедшей разжался, и видит мятный леденец. Она благодарит улыбкой и быстро направляется к двери. Выйдя на перрон, Она ждет, пока останется одна, затем пересекает рельсы и по узкой тропе отправляется через луг. В кулаке зажат мятный леденец. Дорога знакомая. Она приведет к обрыву, откуда виден простор. Сперва непременно захочется, слегка оттолкнувшись от обрыва, немного полетать. Но вновь придется смириться, что это невозможно. Дойдя до обрыва, Она все-таки машет руками, между грядами облаков и башенками леса летают птицы. Она пристыженно перестает размахивать руками и садится на сырой песок на самом краю обрыва. Когда смотришь вниз, кружится голова. Она глядит поверх слоев прозрачного неба и полуобнаженных деревьев, медленно сосет мятный леденец.
«Дай кораблик», – сказал однажды Кирье, сидя напротив за овальным столом. Она не поняла. Кирье взял Ее ладонь и показал, как дается кораблик, – точно так же, как это сделала сумасшедшая в поезде. «Кулак разжимается нежно и загадочно, как это делают дети», – объяснил Кирье. Потом они давали друг другу невидимые кораблики, умалчивая, что же дают на самом деле. Бармен, заглядевшись на чудную игру, забылся до того, что стал давать посетителям сдачу, как дают кораблики. Давание корабликов следующей ночью развернулось в Ее сновидении в целое приключение. Она видела во сне, что ждет ребенка. Ребенок родился легко, в переполненном народом магазине, но это вовсе не было обычное рождение – кто-то вложил ребеночка в ладонь как кораблик. Она помнит, как с любопытством разжимала пальцы и как была разочарована, когда увидела на ладони маленькую некрасивую пластмассовую куклу. Было стыдно людей в магазине. Огорченная, Она несла зажатую в кулаке куклу показать родным, в то же время отчаянно веря и убеждая себя, что не может родиться такой некрасивый ребенок. У дверей дома Она приоткрыла ладонь и, увидев в ней цветок амариллиса, радостно взбежала наверх по лестнице.
На краю обрыва, сося мятный леденец, Она ясно помнит легкость, с которой проснулась после сна о ребеночке, который явился как кораблик в ладони, а потом из некрасивой пластмассовой куклы превратился во что-то чудесное и нежное. В другой раз после сна Она разыскала бы Кирье – они вместе бы подивились и восхитились притчей, в которую в конце концов преобразовалось невинное давание корабликов. Но в то утро Она решила отправиться в семинарию просить у Тимофея прощения за свою несдержанность.
Над башенками леса вновь летают птицы, миг Она не понимает, что делать со своим новым открытием, нет, совсем не страшно, только охватывает сомнение, есть ли у жизни какой-нибудь смысл после такого открытия. Она задумывается о живших в давние века святых, называя про себя Грегора из Нацианце, Терезу из Авилы, Игнация из Лойолы, Розу из Ламы… Имена святых знал Тимофей, и Она чувствует, что в этот миг на краю обрыва Она тоже одна из них. Тимофей никогда бы этого не признал, он только спокойно и предостерегающе сказал бы: «Увидеть любовь не значит увидеть Бога».
Она опять вспоминает то утро после сна о давании корабликов. До семинарии пешком было далеко по узким улочкам с булыжными мостовыми, мимо цыганских деревянных домов – молодая цыганка кормила дитя на солнышке на облезшем крылечке – волосы блестящие, черные, дорожка посредине головы, грудь набухшая и коричневая, она вызывающе раздвинула ноги и с ухмылкой заговаривала с рабочими на другой стороне улицы. «Зайди ко мне», – крикнула им цыганка, свободной рукой обнажая и вторую грудь.
«А что – цыган уже не справляется?» – со смехом крикнул в ответ один из рабочих.
«Ой, йолла, у меня цыгана нет, у меня дитя – от Святого Духа!» Цыганка неистово расхохоталась, обнажив вместо зубов черные дыры.
Дальше дорога вела через заросший парк с разрушенными беседками, где при царе пили чай, мимо заброшенных могил и родовых склепов, куда теперь забирались ночевать или предаваться любовным утехам бездомные и пьяницы, возле маленькой православной церквушки Она хотела повернуть обратно и идти искать Кирье. Тут Она увидела старушку, присевшую у церковной ограды, – та держала на коленях темно-красные цветы амариллиса, к каждому большому колокольцу цветка была старательно привязана веточка божьего дерева. Старушка дружелюбно помахала, Она вспомнила свой сон, за ничтожные сантимы купила амариллис и продолжала путь к Тимофею.
Во дворе семинарии пришлось ждать. Она села на ту же скамейку, где в тот раз несдержанно крикнула Тимофею: «А знаешь ли ты вкус дождя на мочке уха?» Она ясно помнила и полный сожаления взгляд трех проходивших мимо семинаристов. Сейчас никто на Нее не обращал внимания, только бегущий по двору мальчик, увидев темно-красный амариллис у Нее на коленях, по-детски улыбнулся. В открытое окно Она слышала пение: «Di-ri-ga-tur, Do-mi-ne, oratio mea, si-cut in-cen-sum in conspectus tuo…» Пели два мальчика, их голоса перекрывали друг друга, наполняя двор семинарии, монотонные волны звуков превращались в сакральный орнамент. Она думала о Кирье.
«Благослови тебя Бог», – сказал Тимофей вместо «Здравствуй». Он был приветлив, но сдержан.
«О чем они поют?» – спросила Она Тимофея, не отвечая на приветствие.
«Да вознесется к Тебе моя молитва, Господи, воскурится как фимиам пред ликом Твоим», – прилежно продекламировал Тимофей две строки и умолк.
Она принялась взахлеб рассказывать свой сон о ребеночке, которого Ей вложили в ладонь как кораблик, о чудесном превращении, о старушке с охапкой амариллисов, о вызывающей цыганке, о букете цветов на морозе за окном…
«Увидеть любовь не значит увидеть Бога», – прервал Ее рассказ Тимофей. Он уклончиво смотрел на открытое окно, из которого плыло пение мальчиков. «Самоотречение и смирение – две вещи, которые сделали меня счастливым. Когда я в детстве довольно талантливо играл на скрипке, мой отец всегда наказывал: „Если какой-нибудь сорванец во дворе тебя ударит, не бей его, потому что ты должен беречь пальцы для скрипки, мой мальчик“». Она чувствовала, что смотрит на Тимофея как на подаренный Кирье замерзший букет цветов за окном. Между ними была такая же прозрачная стена.
«Прости мою несдержанность в прошлый раз, – сказала Она, – все-таки ты должен верить – я чувствую, что соизмеряю с Богом. Ты ведь знаешь, люди из-за этого вместе умирали…»
«Вместе умирали? – Тимофей посмотрел на Нее с удивлением и сочувствием. – Никто не может умереть вместе с кем-нибудь, каждый умирает в одиночестве. С ним только Бог». Тимофей улыбнулся, погладил Ей голову и ушел по чистому булыжнику двора семинарии.
«…con-spec-tu tu-o…», – слышала Она уже за воротами. «Con-spec-tu tu-o…», – попыталась Она спеть на краю обрыва. Звуки ссыпались с обрыва с потоками песка и камешков. Обрыв – огромные песочные часы, которые никому не под силу перевернуть, но это и не нужно, здесь песок не иссякает, и поэтому нет утраты времени. У Нее с собой маленькие песочные часы в рамке из сандалового дерева. Она вынимает часы из кармана и долго вдыхает их аромат – так Она чувствует Кирье. Когда они в последний раз виделись (сейчас, правда, Ей кажется, что в жизни так не бывает), сквозь эти песочные часы текли мгновения их любви. Пока Она спала, Кирье сидел у слабо освещенного ущербной луной круглого стола и отсчитывал время по песочным часам в рамке сандалового дерева. Среди ночи Она проснулась и села у стола напротив Кирье. Часы бросали тень на освещенный луной стол. Песок сыпался беззвучно, Кирье терпеливо ждал и время от времени переворачивал часы. Она легла на круглый стол и положила голову рядом с песочными часами, теперь слышно было тихое и мерное движение песка. Кирье наклонился и вдохнул аромат Ее распушенных волос. Его лицо было близко к Ее лицу, когда Кирье сказал: «Пока ты спала, я был стражем времени. Я хотел почувствовать, как оно течет, когда мы вместе». После этого они больше не говорили, Кирье следил за песочным временем, Она лежала на столе и слушала его мелкое сеяние. Тогда Ей казалось, что рассветает немыслимо быстро. На миг Она закрыла глаза и увидела целое приключение, как они с Кирье – средневековые преследуемые влюбленные, – обогнав полуночную стражу, проникают в каменный дом с башенкой, безрассудно овладевают друг другом и потом по очереди считают время, чтобы расстаться еще затемно и никем незамеченными разбежаться по мощеным булыжником улочкам в разные стороны. Когда Она открыла глаза, Кирье уже не было. Кирье умел исчезать сверхъестественно.
Теперь на краю обрыва Ей кажется, что немыслимо скоро темнеет. Промозглость поздней осени леденит, башенки леса сливаются с небом, птиц уже не видно. Надо бы встать и идти, но хочется остаться, потому что Ей кажется – Она никогда не поймет, что же произошло в этот день. В темноте успокаивающе сеется обрыв – огромные песочные часы.
Перевела И. Цыгальская








