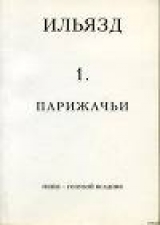
Текст книги "Собрание сочинений в пяти томах. 1. Парижачьи"
Автор книги: Илья Зданевич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Проблематика означаемого и означающего находится и внутри фабулы. Главная тема романа, пожалуй, бредовая интерпретация, ошибочное восприятие отношений, действий и слов. К словам, кстати, персонажи часто испытывают недоверие. “Слова, они ведь ничего не значат”, – замечает купчиха (гл. “12.13”). Для умницы, наоборот, слова располагают порождающей, чуть ли не онтологической силой слова: “Ошеломленная тем, что слова рождают события даже и без опыления, хотя их и можно признать за цветы, если руководиться изречением о цветах красноречия, умница решает поменьше пользоваться опасным материалом, доселе помогавшим связывать формулы. Почему они боятся говорить, хотя лебядь приревновав могла донести купчихе и сама” (гл. “12.13”). Или же слова слишком многозначны: “И когда она /швея – Р. Г./ говорила за тем, что она говорила проступал коричневый грунт других смыслов и никогда нельзя было понять, что она говорит и о чем она говорит и выходило, что ее тон положительный становится вопросительным, а вопросительный отрицательным и наоборот в пустяки и так себе. А когда она писала, то писала, чтобы оставались белые промежутки между строк. Так и в работе ее было не то, что все видели и все знали, что это не то что они видят, что есть другое, чего они не видят и что рассыпется от одного их взгляда как только они это увидят” (гл. “11.51”). Эти две манеры относиться к словам, разделение человечества на две группы – людей, которые ясно видят смысл, скрытый за внешностью, и людей, которые его не воспринимают, встречаются в какой-то мере и в круге персонажей “описи”. Таким образом, среди женщин, к первой группе относятся швея и умница, ко второй – купчиха и лебядь. В Парижачьи герои часто плачут, но лишь герои первой группы, как швея и умница, признают, что они любят плакать – то есть любят неязыковый (если не “заумный”) способ общения.
Намек на разделение мира на две противоположные части находится в весьма странном при первом прочтении введении, посвященном Вере Шухаевой, которым открывается книга, о соперничестве зайцев и ежа. Примечание автора в записной книжке, где был записан первый вариант этого введения, помогает нам расшифровать его как притчу о “зайцах и е(го) ж(ене)”, то есть о жене Шухаева и зайцах (мужчинах, в том числе и Ильязде, ухаживающих за ней)...
Разделением на два не понимающих друг друга мира объясняется, может быть, и название, которое Ильязд вначале хотел дать циклу, первой книгой которого должна была быть “опись” Парижачьи. Название это – двухъсвЕт намекает, пожалуй, на эти два несовместимых мира. В романе Восхищение (1927—1930) таким же образом разные манеры восприятия скрытого смысла предметов и слов отделяют горцев от людей “с плоскости”. Размышления швеи о том, что видно или не видно за вещами, предвосхищают восприятие героиней Восхищения Ивлитой этого “ума ума”, якобы находящегося за предметами. Они находят свои корни в четвертой заумной драме Зданевича згА Якабы, где старушка Зга (то есть Зда(невич), С. Г. (Мельникова) и неграмматический “именительный падеж” от словосочетания “ни зги не видно”) смотрит на себя в зеркало, откуда друг за другом рождаются “Зга зеркала”, “якобы Зга зеркала”, тогда как сама она становится мужчиной Зга и “якобы Зга”... Кривое зеркало згА Якабы чем-то предвосхищает туманность Парижачьи. Когда один персонаж “описи” (лебядь) сравнивает окружающий мир с расплывчатой фотографией, он употребляет глагол “сдвигать”, который, конечно, намекает на “сдвиг”, лежащий в основе заумной теории “41°”: “Впрочем некоторые фотографы нарочно несколько сдвигают изображение считая, что тогда снимок получается мягче и приятнее” (гл. “12.01”). То же самое слово “сдвиг” употребляет и купчиха, которая, как мы отмечали, является персонажем, близким к лебяди: “Купчиха принадлежала к числу людей считающих, что разрубить – значит развязать. Она, как и все, принадлежащие к ее типу, забывала, что этот экивок, как и множество иных грекоримских, был хорош только своей новизной, только появлением этого приема в среде об экивоке. Этим был силен товарищ Александр, и из всех его подвигов этот несомненно наиболее прославился и вошел в историю народов и в обиход языка именно потому, что он был спиритуален, что он говорил о новой заре. За много лет до христианства в лице Александра древний мир спотыкнулся о гордиев узел. Судьба его была предрешена. Разрубая его, Александр разрубил самого себя. Но в нашу эпоху, где сдвиг, где экивок является элементом доминирующим, бессознательное даже его употребление со стороны людей старающихся из этого круга выйти, совершенно недопустимо...” (гл. “12.59”). В этих размышлениях купчихи звучит эхо разочарованных фраз о зауми, написанных самим Ильяздом после издания лидантЮ фАрам: “В ней идеи книги, шрифта, зауми, доведены до высшего развития и совершенства. Но книга эта мертва. Так как время ее прошло. /.../ Прощай молодость, заумь, долгий путь акробата, экивоки, холодный ум, всё, всё, всё”[3]3
См. Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре. Под ред. Л. Магаротто, М. Марцадури, Д. Рицци. Берн и др., 1991, с. 234-235.
[Закрыть]. В конце книги, когда герои понимают, что они не найдут решения своей проблемы, лебядь произносит слова, которые могли бы служить эпитафией зауми и утопии всёчества: “Так и мы /.../ никогда не вырвемся из рамок нашего времени, нашего круга, нашей жизни, нашей азбуки. Вот почему я думаю, что ничего не сделав за всю эту сумятицу мы ничего и не сделаем” (гл. “14.09”).
Заумь как таковая почти не появляется в Парижачьи. Можно ли, однако, назвать заумными изменения, притеснения, которым подвергаются слова, использование корней слов и звукоподражаний. Если строго ограничиться определением его зауми, которое нам дает Ильязд: “Хлебников сохраняет корни слов и их многие значения. Я же иду по обратному пути, от чистого бессмысленного звука к аналогиям” (неопубл. текст на фр. яз.), примеры новых слов в Парижачьи ближе к хлебниковскому словотворчеству, чем к обыкновенному отношению Ильязда к словам. Как у Хлебникова, они довольно редки и чаще всего имеют иллюстративное, подражательное значение. В следующем отрывке, например, рассказчик подражает языку женственного щеголя: “Он читал, но чтение было просиживание часами за книгой и никогда на ваплёсец не мог бы ответить он Вам какавувую книгу читает он. Зато все слюкаловики и снюкательники и хихики и хихихики крашеных маскачей знали его и рассказывали до неузнаваемости по прохождения весьма доброкачественных этого тела весьма пригожого для рогож и ковров курительных комнат” (гл. “11.53”). Как видно из конца этого отрывка, где накапливаются звуки “гож”, “кр”, “кн” и пр., слова нередко следуют друг за другом по звуковому принципу. Таким же образом, каламбуры играют роль означающих слов: “Так (уход, народ/перевод/пчеловод вот) из-за аза за за зараза образа я выиграла время бессознательно и теперь я Вас не боюсь делайте что хотите” (слова купчихи, гл. “12.59”). Этот принцип, выработанный Терентьевым под названием “маршрут шаризны”, часто употреблялся заумниками 41°. Наряду с изменениями слов идут и грамматические (морфологические и синтаксические) изменения. Как и все остальные “неправильные” элементы, они появляются в моментах, когда хрупкие, слабые “Я” персонажей, кажется, полностью распадаются: “С лихорадочной поспешностью стал одевать щеголь ся в женское платье, немного слишком пышное и откровенное для послеполуденного обаяния женщины” (гл. “12.29”).
Распадение, ослабевание означающего часто соединяется с попытками персонажей снова завоевать значения. В одиночестве персонажи ищут каких-нибудь означающих знаков. Лицедей обшаривает бумаги своей жены в надежде найти компрометирующую записку, кожух обрезает фотографию своей жены, пытаясь найти ключ к ее душе. Швея исписывает бумаги именем щеголя, полагая тем самым найти ответ на все свои проблемы. И т. д. Самая структура фразы иногда свидетельствует об этих поисках: “На этой паузе умница обрывает щеголя. Хотите вы “хотите” или хотите “не хотите ли” но ни “хотите” ни “не хотите” я не скажу. Не хочу выслушивать все эти трели” (гл. “12.29”). Но отличаясь от героев, похожих на маски (живописец Василий Шухаев хотел иллюстрировать Парижачьи вместо портретов персонажей – масками), слова, буквы могут ожить и приобрести личность: “Тут были слова большие, маленькие. Потом одни из букв слова стали увеличиваться, другие уменьшаться, делая контрасты и противореча друг другу. О это был целый мир, совершенно изумительный...” (гл. “12.41”).
Мы уже сказали о театральности Парижачьи. Время, место, действие сжаты, как в театральном произведении. Здесь театральная игра соединяется с мыслью о лжи, о лицемерии, о предательстве. Об этом свидетельствует самое имя “лицедей”, которым зовут одного из действующих лиц книги и которое значит и “актер”, и “притворщик”. В конце книги, однако, когда все герои встречаются и оказывается, что все изменили друг другу, что они даже не могут устроить дуэли, что положение безвыходное, что непонятно, где истина, героям хотелось бы выбросить маски, выйти из роли, данной им жизнью, и стать простыми персонажами романа. Но Парижачьи действительно роман о предательстве и лжи. Он заканчивается сценой, напоминающей тайную вечерю, все гости которой были бы Иудами. И расстрига произносит кощунственное последнее слово: “С обычной ужимкой богохульника разстрига взял хлеб, расстелил салфетку, преломил и сказал – едый мою плоть имеет живот расстроенный вечно” (гл. “14.09”).
Так же как за маской водевиля скрываются очень строгие, серьезные размышления о видимом, о действительности, об искусстве, за поверхностной путаницей книги скрывается очень строгая, математическая структура. Явным признаком этой математичности оказывается на первый взгляд вездесущность временной рамки. Лебядь правильно говорит, что невозможно выйти из круга времени. Кругу друзей и обманов отвечает круг циферблата, цифры которого показывают час в начале каждой главы. Продолжительность каждой главы аккуратно установлена. Разъезды или разговоры всех персонажей точно рассчитаны по минутам...
Записные книжки автора, в особенности дневник августа 1923 г., свидетельствуют о его работе над структурой романа. Ткань романа выстроена на арифметической основе. До того, как писать текст, Ильязд определяет формальное переплетение, которое почти не изменится до конца работы. Вначале Ильязд намеревался составить 24 главы. Его записная книжка объясняет выбор этого числа: “Комбинация по 2 из 8 дают 28. Минус четыре законных (привычных мужск/о-/женск/их/) ост/аются/ 24 по 1 на главу. Ост/альные встречаются/только за столом” (дневник “Т”, 5 августа 1923). Впоследствии Ильязд понял, что надо было немножечко смягчить эту строгую рамку, для того чтобы сделать интригу более гибкой, приготовить развязку и, главное, не надоедать читателю слишком одним и тем же приемом. Таким образом, в нескольких главах встречаются три персонажа, что позволяет другим встретиться два раза.
Второй этап работы Ильязда состоит в именовании героев. После нескольких попыток он находит окончательные прозвища и определяет психологические и физические характеристики действующих лиц. Число относится к возрасту персонажа. С каждым персонажем соотносится реальный человек, являющийся его прототипом:
“щеголь (19) тапетка высок, брюнет на содерж. у купчихи Baron /наверно, молодой дадаист и потом сюрреалист Жак Барон/
кожух (31) большевик автомобил. /неразборчиво/ пьяница Судьбинин /художник/ Fairbanks /американский киноактер Дуглас Фербенкс/
расстрига (45) теолог ученый профессор близорук. очки науч. грек аристократ Ельчанинов /священник Александр Ельчанинов, который был учителем молодого Зданевича в Тифлисской гимназии, впоследствии в эмиграции/
лицедей (28) актер красавец герой поэт живой грязная личность /неразборчиво/ Барт /художник Виктор Барт, член “Бубнового валета” и “Ослиного хвоста”, друг И. Зданевича еще в Петербурге/
умница (45) жена лицедея ученый профессор химик очки старающ. не обр. внимания на мужа Джула /личность не установлена/
лебядь (24) светская женщина, красавица, танцует, спорт. чемпион тениса Salomé /известная красавица Саломея Андроникова-Гальперн/
купчиха (35) глупая злая гордая мал. полная /неразборчиво/
швея (20) маленькая худая подвижная энерг. закройщица худож. интел. Вера Шухаева /см. выше/”.
Еще интереснее оказываются словесные характеристики каждого персонажа. Они находятся в разных черновиках. Правда, эти характеристики не раз изменялись. Вот несколько примеров:
“швЕя глаголы очень простое письмо короткие фразы стиль обыкновенный, разговорный.
лЕбядь очень длинные слова и фразы, противный, красноречие, велеречие.
Умница настоящее время, простое изложение, существительные, восклицания и истеричка, молчание...”
На полях окончательной редакции рукописи “Схема действующих лиц” дает еще более полный обзор словесных характеристик героев, разделенных по 13 категориям: “1. пропорция (местного акцента) 2. согласные в словах 3. гласные в словах 4. долгота слов 5. долгота фраз 6. сила 7. высота 8. скорость 9. вылов 10. семасиология 11. синтаксис 12. ритм и фактура 13. части речи”.
Роман Парижачьи в полном смысле термина оказывается “гиперформалистическим” романом. Может быть, в нем чувствуется влияние В. Шкловского, который в том же 1923 г. дал Ильязду совет написать романы. Но понятие литературы как умственной игры объединяет книгу, так же как и заумные пьесы Ильязда, с такими произведениями, как романы А. Белого, в первую очередь Петербург, который автор Парижачьи высоко оценивал. Другим источником прозаического творчества Ильязда, возможно, служат произведения французского писателя Реймонда Русселя, в особенности Африканские впечатления, с начала до конца построенные на строгих формальных схемах, на игре слов. Как у Ильязда, у Русселя самые мелкие детали псевдоинтриги впоследствии оказываются первостепенными пунктами. О Русселе много говорили в новорожденном сюрреалистическом кругу, собрания которого Ильязд периодически посещал в 1923—1924 гг. С другой стороны, общие черты соединяют Парижачьи с романами знаменитого ирландского писателя Джойса. Можно ли говорить даже о влиянии Джойса? Ильязд знал и читал Джойса, наверное, встречал его в Париже, где тот работал над своей книгой Finnegan’s Wake (адрес Джойса находится в одной из его записных книжек). Не только совпадения в писательском процессе соединяют Парижачьи с Finnegan’s Wake (в 1922 г. на берегу моря Джойс пишет свой роман, сначала озаглавленный Work in Progress, за несколько дней, а потом непрерывно возвращается к нему). В общем, и Джойс, и Ильязд являются игроками, которые постарались решить проблему отношений современного искусства (современной литературы) с вечными темами, с мифами и т. д. И тот, и другой нашли ответ на этот вопрос в исследовании бессознательного персонажа и читателя. Притом они оба столкнулись с речью, с языком и каждый по-своему использовал это литературное месторождение. Этому исследованию необходимо было вместиться в беспредметное построение. В рамке драматических произведений главным приемом было использование зауми. Став автором романов, Ильязд, естественно, прошел путь, близкий к пути автора Дублинцев и Улисса. Результатом исследовательского путешествия по звукам и смыслам явился этот странный роман, в котором словно деревянные лошади в карусели кружатся в маленькой части территории шестнадцатого округа города восемь “людей из Парижа”, так же как по Дублину бродил Мистер Блум. Но в основе Парижачьи лежит и взгляд эмигранта (хотя это не сказано прямо, среди персонажей есть и русские эмигранты, расстрига, например, является бывшим православным духовником) на Париж и его вызывающих то издевательство, то нежность жителей, всех вместе привлекательных и тревожных, разумных и развратных, занятых и суетливых, кротких и противных, словно ежи и зайцы.
Режис ГЕЙРО
ПАРИЖАЧЬИ.
Опись
Орфография и пунктуация романа имеют ряд специфических особенностей. Так, например, частицы то, кое, нибудь И. Зданевич нередко пишет раздельно от слова, к которому они относятся. Частицу не он, наоборот, во многих случаях пишет со словом слитно. Запятые и другие знаки препинания он часто расставляет произвольно, хотя в отдельных случаях такая произвольность значима и ограничена определенными смысловыми рамками. Передавая быструю речь персонажей, Ильязд часто воздерживается от запятых, в особенности при перечислении предметов. В диалогах, в тех случаях, когда один персонаж перебивает другого, обычно отсутствуют точки. Произвольное обращение со знаками препинания было свойственно многим футуристам, в частности, членам группы “41°”. Это было вызвано не столько небрежностью, сколько следованием закону случайности в искусстве, согласно которому право на ошибку закреплено за художником и является неотъемлемым элементом его творческой свободы. По мере возможности издатели старались сохранить основные особенности авторской орфографии и пунктуации.
Вере Федоровне Шухаевой
Посвящение
Когда дни отличишь, одни от иных, если не нынче? Мы, писари, тще бьясь приволочь дурью здесь в обозренья, ждем были скачек, перья мня... и мня истыми, невдомек, дни парижачьи. Вы, Вера Шухаева, проживаете по виду скучному, небеспокойному в поселке, где небес кланяются преображенью толпы рыбачьи и руководствуются правилом стареть как можно позже. Вы забыли наизусть, уединенная, басню о соперничестве ежей и зайца, бестолочь разных потуг, снова выуживающую у нас чернь и ночи накануне ежегодного запустенья. Поэтому Вам, завистлив, я и приношу по почте для самого бережного... бережного чтенья последний отчет в нерешимые старозабытые новости, пока естественная история ежей и зайца еще продолжается.
Вызвал еж. Шарили мы перстом в буквах о цене грядых встреч, шли по столбцам, галдя, и наткнулись. Въявь трунить решил зауряд лист, от неуклюжей выдумки изволь усумниться в зайце. Осклабились седоки горных кофеен, смяли под стол, высмеяли и как ни в чем ни бывало.
Но на следующий день, и источники весьма достоверные, оповещали, что оглашенное... оглашенное соревнованье не вымысел, а, действительно, будет. Мигом пренебреженье сменила ярость. Застучали кулаками по клеенкам, зазвенели чашками, замахали, спохватись, кистями половые, смахивая пыль кистями, зачавкали. Знаем же, как мечет серый, прыг, скок, длинен, верен, быстр. Ноги почище ежовых не держались рядом и до половины, в бореньях неоднократных и за много лет. Где же земляку, вялому, спорить, семеня, волочась, растягивая, да кроме привлечь населенье? Невпопад затеянная штука, с целью наживы, ежом. И мы волновались, не без преувеличенья, пока, неожиданно, осведомленный завсегдатай не выкрикнул, что еж против зайца не один, а участвуют, вкупе, еж и его жена.
Тогда мы насупились в тишине и, сутулые на стульях, принялись за обсужденье против и за. Двумя неизвестными выглядели ум и присмотр ежевичные, но тем хуже, раз устрой игры, был, оказывается, передан им. Мы метнулись к животным, допытывались местонахожденья картины боя, а съели ответ, не приятно ли, де... неприятно терпеть до наступленья. За пол дня с полудня цена на ползуна вскочила и, не дожидаясь развязки, посыпались вызовы виноградом. Уважение к зайцу спа́ло... спало́. Когда же за стеклом у нотариуса писали договор неволи сторон гоняться до смертельной немочи, толпа запрудила улицы и закупорила их на ночь.
Однако, вторично выспавшись, все сочли прошедшие события за настоящие события за настоящее недоразуменье. В диковину старожилами владела горячка, они запамятовали не надолго, что заяц он и есть, еж же так себе, жена его еж же разбавленный и нет словесности для превращенья первого во второго и обратно. Пусть еж устроитель великолепный, но смешно и думать о его упованьях, и хотя соперничество и впереди, конец явен. Таковое умонастроение растеклось повсюду, за вчерашними происшествиями обрисовалась ловкость предпринимателей, увлеченье бегами испарилось, большинство порешило даже вовсе не будут и смешили у поля наряды... и наряды для порядка, а барышники клянчили пол цены за места, намедни растасканные с боя.
Мы равнодушно смотрели на пустырь и приготовленья к выстрелу. Зайца издали узнаём по повадке. Где же еж? Хозяев ошикали. Вот машет судья и мы на часах... на часах отсчитываем время. Вскоре с дальней межи известили собравшихся, что ежи выиграли первый забег.
Может ли быть? Но распорядители кивают. Всеобщее недоуменье. Просим подробностей. Заяц был тут как тут, но застал торжественную ежиху. Ошибка? Но суд не оспаривает. Снова ждем. И этот раз улыбнулся ушастому. И следующие. К сумеркам у прыгуна ни одного очка. Состязанье переносится на завтра.
Расходились мы иначе, чем сошлись. Весть о пораженьях любимого овладела городом еще в разгаре дня. Спозаранку, читатели настолько уверовали в противный... а не противный исход, что и не любопытствовали. Но, попозже, беспроволочные голоса, а затем летучки, распространяясь с предельной скоростью, вынудили каждого остолбенеть, каким застали, открыторотым, с вздыбленной ручкой... над ручкой двери, или пасть на лыки из за неустойчивого равновесья. А потом люди задвигались, бесновались и, без удержу, клубились тысячами, чтобы полюбоваться ходом битвы. На ущербе часов ристалище переполнилось и взошла давка.
Утолите же ждущего жаждущего, новая заря соревнований, и издайте, завершительница, наконец, высокое разъясненье. На завтра, при стеченьи горожан неописуемом, продолжали копить ежи выигрыш за таковым же. Но вот внезап[но] призванный к отбытию, заяц не обновил попытки, а повернувшись улепетывает в другую сторону. Одеревенели судьи, шлют гончих преследовать, донести, доколе он будет обольщаться верой, ведь нельзя же рассматривать соперничества, пока один из них не издохнет. И хлынуло за бегуном все скопище, поверх изгороди, в лес. И мы, орава и песнопевцы, оседлав что подвернулось, тоже вдогонку, не упустить бы малейших подробностей бегства кувырком.
Разнообразно улетучивался беглец, наобум, или покорный... по горной местности, либо ища труднейшее и презрев какие бы ни уступки. Во весь опор скакал, и ни к чему усердствовал уйти от последователей. Не однажды тонул переплывая реки и рвался с круч, но от страха не умел ни опомниться, ни сгинуть.
Махом крыл... взмахом крыл путь труден легк, полетевший впопыхах за ним, зритель, гнул, яко вихрь, нас псцов. Велеречивые и бедокурые, мчали вслед мы, вдрызг, зря, распластывались невозможные от утомленья и бились не выкарабкавшись. В расстеленных лужайках путались двуногие, обнаруживая на переправах удельный вес, превышавший единицу. И, оборочены в свидетелей бед, мы сами свихнулись от боязни и, как две капли воды, походили на зайца.
Между тем, покуда смущенье караулило нас и наши ряды редели, заяц перестал тру́сить... и стал труси́ть. Спасенье в бегстве, порешил он, раздумал, что ближней напасти нет... и раздумал торопиться. Теперь он перемещался по закону движенья тел, одаренных толчком и медлил на ходу, не выкручивал былых уклонов и сокращений, недопустимых в нашем языке, и являющихся, ни чем иным, иностранщиной. Отошли и мы. Ничего примечательного. Скука и клячи. И бесконечная дорога, разве, оттого, что без дороги не обойтись.
Хвать, новость. Заячье здоровье лучше. Даже повеселел. Кубарем, вообразив, в безопасности. И пошел играть, пляшет и только, вьет с ловкостью и уменьем такими, что обмерли мы восхищены... и у однообразья восхищены. Обернув в беспутников нас путников и заупокойное шествие в праздник. Сутки напролет, передразнивая, мы выкидывали новейшую польку. И поняли на рассвете, что хорошо бежать... и хорошо бежать.
Воздух приставал к лицу, лип к телу... приставал, прося, не покиньте, мы вырывались от него, а брошенный садился ныть за печень. По икрам карабкалась бемоль и солнечный луч, прострелив на лету ватагу слез, расплющивал на наших запотевших грудях свою верную... верную радугу. Нас у пристаней, и напрасно, сторожила качка и неистовствовали комары, пытаясь вцепиться в нас. На опушках трава скользкая от росы, и раз склон крут, обязательно пользуйтесь особой обувью, чтобы не падать. На льду нужны парные гвозди, затрудняющие, впрочем, передвижничество по скалам, все равно по каким, где необходима веревочная ступня.
Тако оттаптывали пол и вытоптали пол земли. И невесть сколько тянуться оной ярмарке, кабы доверенные заячьи не вызвали нас в гостиницу, где мы заслушали его обет продлить вокруг земного шара беготню, пока не обрящет отправной точки. Сим возьмет заяц верх над хитростью ежной и выдадут ему награду. А мы, было, ведь забыли, что дело в тризне, не в свадьбе, человечество сыто богом словом и притчей о убогом, словом, нетерпеливо ждет конца. Но очнулись переписчицы, работницы плавят свинец, шьют крупный парус, запиликали газетчики покупайте заключительное действие при благосклонном зайца. И попрежнему глотали грамотеи.
А заяц преобразился. Строг, ясен, он мерил скачками неиспробованной быстроты и равновеликими покинутое поле, куда заутра воротился выигравшим наверняка, и горел над ним... нимб веры. Она стелила мягко стезю и верующий не выл, что лапы в крови от щебня, рубила чащу и будто не хлестали ветви по морде, жрала тучи и якобы погода, обрывы притворялись пологими и безмятежной вода. Красила вера жизнь розовой и гнала верного... с верного пути. Несчастный, не мыслил приголубленный заяц, что загублен.
Не думали и мы. Но пришло судейское решенье, что если он и доскачет, то незачем. Тотчас же предваряли вершители общественное мненье, что мало окружить мир. Истинно, кажет пушной силу богаче здорово ежей, быть, в иных условьях, его воскресенью победой. Но тут зайцу пропишут, вы, всетаки, проиграли, молодой человек, вы же прыгали не в ту сторону. И рухнет заяц.
Оттоле смятенье в писацком кругу. Невыносимая потеха знать что каламбур обманчив и догмой смерть зреть, верит втуне, не в прок мышцы тужит зверь... и не пужит его взгляд. Кое кто собирался предупредить куцаго о судебном указе. Лучше мол сдаться. Но не подохнет ли сразу, не довершив труда, скакун от горечи, что вера обманула его. Пусть уж продолжает, помолчим.
И метет зайца к гибели. Еще недолго возможем свидетельствовать о его глупом подвиге. Спешу, и, покамест заячий рок не вычерпан, сажусь барабанить. Но, когда Вы, Вера Шухаева, изведаете четки... и четкие страницы, недужная борьба уже иссякнет.
окончено 8/XI/23
Читано Вере в cafe du Port-Royal.
отзыв: трудно, но понятно со второго раза
Я не люблю вещей понятных сразу.
Эквилибристка.








