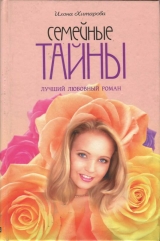
Текст книги "Семейные тайны"
Автор книги: Илона Хитарова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Пролистываю еще несколько страниц… Более ранняя дата – 8 января:
«ЭТИКЕТКИ ЛГУТ
Западногерманские хозяйки в шоке. Вчера из телевизионной передачи «Магазин» они узнали, что вот уже полтора года в мясных лавках под видом говядины им продавали конину.
Полицейские власти, раскрывшие это жульничество, смогли изъять лишь 60 тонн конины, когда мясо грузили в машины для отправки в магазины. Однако они предполагают, что это – лишь ничтожно малая часть проданной на западногерманском рынке конины. По их подсчетам, жуликам удалось сбыть примерно тысячу тонн такого мяса.
Как же случилось, что обычно привередливых и знающих толк в продуктах домохозяек так безжалостно обманули? Дело в том, что фальшивая говядина поступала из стран «общего рынка» за печатями, не вызывающими сомнений. Жулики действовали поистине с международным размахом.
Один из разоблаченных жуликов, которого вчера показывали по телевидению, очень сожалел, что его операция сорвалась. Ведь если полтора года, рассуждал он, никто не заметил, что ест конину вместо говядины, то, значит, она была не так уж плоха…»
Я улыбнулась, читая заметку… До чего актуальная тема, кто бы мог подумать! Тогда, в 70-х, считалось, что подобные случаи могут быть только у них.У нас, в Советском Союзе, при всеобщей добросовестности и честности, такое просто невозможно… Каким диким и исключительным казались подобные происшествия тогда.Оттого, что тщательно замалчивались? Или оттого, что многие в самом деле верили в эту всеобщую добросовестность и в самом деле были немного честнее? Или, как часто бывает в истории, верны оба варианта?
Сводка политических новостей… Да, не только страна, но и мир тогда жил немного иначе… Мелькают перед глазами тонкие хрусткие листки «Известий», «Правды», «Труда»… Вот и 1970 год. Март… На парламентских выборах в Австрии неожиданную победу одерживают социалисты… в Родезии (что за страна?) официально провозглашена республика… Ирак признал автономию курдов… отстранен от власти принц Нородом Сианук… Это то, о чем пишут официально… А вот материалов об открытом письме академика Сахарова и других с требованием демократизации советского общества не видно… А ведь это, кажется, тоже 1970 год…
Следующий месяц – апрель: вьетконговцы начинают генеральное наступление по всей территории Южного Вьетнама, сенатору Эдварду Кеннеди не будет предъявлен судебный иск в связи с автокатастрофой на острове Чаппакуиддик в июле 1969 года…
Господи, кто, кроме специалистов, помнит сейчас обо всех этих событиях?
Невольно взгляд обращается к окну… Хороший день, ясный… А какая погода была весной 1970-го? Смотрю последние страницы газет: 1 марта – осадки, 5 градусов тепла, 4 марта теплеет, 3,5… сухо… 10 марта опять холодает до 6 градусов, но зато нет дождя, 20 марта – снова теплеет – 3 градуса, сухо, 1 апреля теплеет, температура стремится к нулю…
Глава 2
Москва, апрель 1970 года.
…Слава Богу, дождя нет… А он-то переживал, что забыл дома зонтик… И погода теплая – около нуля градусов… Нормально для начала апреля… Интересно, его уже ждут?
…Сегодня они решили встретиться не в ресторане, а дома у одного из них. Благо жена черноволосого херувима уехала в санаторий, и в квартире царили покой и тишина.
Лысоватый блондин с фаянсовыми глазами налил себе в кофе изрядную порцию коньяка и с удовольствием отпил обжигающую жидкость. Ему доставляло удовольствие наблюдать за нервными движениями приятеля, то и дело промахивающегося мимо пепельницы или просыпающего на стол сахар. Чернявый волновался, ожидая его рассказа. И он не стал, по своему обыкновению, тянуть слишком долго. У него было хорошее настроение.
– Значится, так, друг мой ситный, дела у нас идут совсем неплохо. Супруга моя неделю назад побывала в гостях у Елизаветы Ивановой, где была принята со всем уважением и почетом. Лизанька, видишь ли, сильно переживает из-за того, что ее не слишком любезно принимают в академических гостиных. Сами ученые еще куда ни шло, но их жены при виде наглой молоденькой лимитчицы, вышедшей замуж за академика, звереют просто на глазах. Им тут же начинают мерещиться мерзавки в коротких юбках, покушающиеся оторвать высокопоставленных благоверных от их пышных грудей. Поэтому все, кому не лень, дают девочке понять, что, будь она сто раз госпожа Иванова, элегантности и образования у нее ни на грош…
– И что же сделала Галина Павловна?– Своим вопросом чернявый явно давал понять, что его интересует не столько лирика, сколько факты.
– Галина Павловна,– лысоватый блондин произнес имя жены с видимой гордостью, – взяла на себя шефство над Лизой. Рассказала, как ее в свое время весьма нелюбезно принимали в некоторых домах, и терпеливо выслушала ее жалобы на жизнь. Отвела Лизу к лучшему в Москве парикмахеру, косметологу, портнихе. И к некоторым известным спекулянтам… Должен сказать, той это сильно пошло на пользу… Девушка невероятно похорошела.
– Пока весь твой рассказ напоминает отчет благотворительного собрания. Подвох-то где?– В голосе чернявого слышался явный скептицизм. Впрочем, возможно, он просто таким образом провоцировал приятеля активнее хвастаться тем, что он успел сделать.
Белобрысый в самом деле немного обиделся и начал с жаром объяснять своему недогадливому другу суть придуманной им комбинации:
– Ты, дружище, представляешь, сколько могут стоить хорошие женские туфли из-за бугра, или настоящие французские духи, или жакетик с соболем? Не представляешь? Так вот, по подсчетам Галины, у нашей девочки скоро будут оч-ч-ень серьезные проблемы с деньгами…
– А если Лиза просто перестанет покупать все это барахло?– пожал плечами брюнет.
– Лиза?!– Смех белесого разорвал маленькие стены уютной, но не слишком просторной кухни.
– Галина – театральная прима, пусть и в отставке. Вокруг нее вертится весь столичный бомонд! Такая дурочка, как эта ивановская девка, скорее душу продаст, чем упустит возможность войти в этот круг! Галечка успела ей разъяснить, как презрительно там относятся к дешевкам…
– Да, но ты забываешь, что она может рассказать о своих разговорах Иванову.– Брюнет по-прежнему был полон скепсиса. – Иванов-то понимает, что отставные балерины и действующие торговые работники – это не та московская элита, мнением которой стоило бы дорожить…
Белобрысый нахмурился, но пропустил мимо ушей едкое замечание, по сути направленное против его супруги. Сейчас не время для взаимных реверансов. Однако возникшее недовольство явно отразилось в его голосе. Рокочущий бас приобретал неприятные скрипучие оттенки:
– Меньше всего на свете академика Иванова интересует то, где его жена покупает себе лифчики…
– А пожалуй, зря…– Сверкнув черными глазами, в которых явно сквозило удовлетворение, черноволосый плеснул в стакан коньяку. – На этот раз умудрившись не пролить его на стол.
«Я не хочу, не хочу, не хочу жить…» Молодая немолодого академика плакала навзрыд, сидя у трельяжа в шикарной квартире своего мужа. Слова, слетавшие с ее губ, на самом деле были не точны – ибо, говоря о своем нежелании жить, Лиза вовсе не имела в виду стремление умереть. Просто Лизе не хотелось жить так.А еще точнее, испытывать те чувства, которые она сейчас испытывала… Но проговаривать эти сложные мысли даже про себя было слишком долго и муторно, а плакать и рыдать хотелось прямо сейчас, и потому она вновь и вновь повторяла первое, что приходило ей на ум. «Я не хочу жить…» – чувства, называемые этими словами, были настолько бесконечно трагичны, что казались Лизе почти красивыми…
Себе она тоже казалась бесконечно красивой и несчастной, даже не предполагая, какое комическое зрелище представляет собой со стороны… Изящный шелковый французский халат был смят, тушь растеклась по щекам, а пятна губной помады, как следы ожога, отпечатались где-то в районе подбородка… Но разве этот клоунский вид имел какое-то значение, если в сердце ее бушевали страсти, достойные Антигоны и Федры?
Боже, как невыносимо тяжела жизнь!!!
Уже год Лиза была законной женой Александра Николаевича, но казалось, что мир так и не заметил этого важного обстоятельства. Стоило им с мужем выйти куда-то за пределы дома, как на нее тут же обрушивался каскад насмешек и презрения. Реального, а не выдуманного, как казалось ее супругу.
«Снобизм, бесконечный московский снобизм…» Став женой академика, Лиза не только быстро выучила это мудреное слово, но и поняла весь его жестокий и несправедливый смысл. Всю мерзость того положения, когда в тебе даже не пытаются увидеть личность, а просто «отсеивают» по каким-то второстепенным, дурацким признакам… Потому что у тебя не те родители… И не та одежда… И не та речь… И ты не знаешь, кто такой композитор Петрищев…
«Это несправедливо, – думала Лиза, – совсем несправедливо и совсем нечестно. Так нельзя…
Почему я все время чувствую себя человеком второго сорта? Почему никто не принимает меня всерьез? Почему я все время как будто извиняюсь за то, что родилась не в Москве и не ходила с детства по театрам? Разве в этом есть моя вина?
Неужели из-за того, что я жила у черта на рогах, в провинции, и у меня не было папочки-писателя и мамочки-актрисы, я всю жизнь должна быть здесь чужой? Казаться хуже других? Терпеть, что на меня смотрят свысока?
Неужели справедливо, что человек, проделавший огромный путь от провинциального Мухосранска до столицы, не заслуживает уважения?»
Лиза невольно вспоминала свою бесконечно долгую дорогу к нынешней жизни, и в ее душе закипал гнев:
«Нет… Я же не хуже их… Я лучше их всех!
Разве могли бы они жить так, как жила я? И терпеть то, что я терпела? И работать на текстильной фабрике? И учиться, восстанавливая школьную программу почти с нуля?»
Перед глазами проплывали ненавистные лица обидчиков. Вот, например, вчера… Они были в гостях у старинного приятеля Александра Николаевича, и холеная престарелая кошка с глазами матерой бандерши и улыбкой Богоматери, покровительственно глядя на Лизу, начала выспрашивать ее мнение относительно последнего спектакля в Театре на Таганке.
Лиза спектакль видела и могла многое сказать о своих впечатлениях, но драная кошка взяла такой тон и использовала в своей речи такие мудреные обороты, что невозможно было вообще понять суть вопроса…
Лиза с отчаянием в глазах слушала про «эклектические тенденции», «параллели постмодернизма» и «трансцендентность» и понимала только одно – что бы она сейчас ни ответила, все равно будет выглядеть полной дурой.
К счастью, ее спас супруг драной кошки – простоватый толстый дяденька, болтавший без умолку на всевозможные темы. Почувствовав, что между его женой и Лизой возникло какое-то напряжение, он поспешил включиться в беседу и отвлек обеих женщин от опасной темы.
Лиза избавилась от необходимости продолжать опасную беседу, но все равно просидела остаток вечера на иголках, с минуты на минуту ожидая от драной кошки очередной каверзы.
К несчастью, неприятности на этом не кончились. За завтраком выяснилось, что вчерашние переживания Лизы не стали секретом для Александра Николаевича и он не поленился, как всегда, прочесть ей по этому поводу небольшую нотацию.
– Лиза, – вещал он спокойным бесцветным голосом, заставлявшим ее чувствовать себя испорченной кофеваркой, к которой торопливый мастер приделывает новый проводок, – ты придаешь слишком большое значение малозначимым вещам. Анна Петровна (так звали драную кошку) женщина во многих отношениях очень положительная, но у нее тоже есть свои комплексы. Она выросла в деревне, до двадцати лет в глаза водопроводного крана не видела. Первый раз в театр попала, когда уже ребенка родила… Я это тебе говорю для того, чтобы ты понимала: когда Анна Петровна начинает разговаривать с тобой таким заумным языком, она вовсе не хочет тебя унизить! Просто ей нравится играть роль светской львицы… Но тебе совершенно необязательно ей подыгрывать! Будь сама собой, говори то, что думаешь, и не стесняйся признаться, если чего-то не понимаешь. Тебе с удовольствием объяснят… Вот Сергей Михайлович (речь шла о муже драной кошки) из интеллигентнейшей семьи, а ведь держит себя очень просто – что с профессором, что с уборщицей найдет общий язык…
Лиза почувствовала, что вся ее вчерашняя симпатия к толстяку Сергею Михайловичу тает на глазах – оказывается, то, что она смогла с ним вчера поддержать нормальную беседу, свидетельствует лишь о его «интеллигентнейшем навыке найти общий язык с уборщицей».
Несмотря на всю гипнотическую силу личности Александра Николаевича, она все же попыталась постоять за себя:
– Саша, – Лиза до сих пор с трудом называла мужа по имени, ее все еще тянуло обращаться к нему по имени-отчеству, – я не могу все время твердить: «Не понимаю, о чем вы говорите», я же буду выглядеть полной дурой! А я действительно не понимаю половины слов, которые произносит Анна Петровна!
– Лиза, читай книги! В конце концов, у нас прекрасная библиотека, а ты все время дома! – Голос Александра Николаевича приобрел интонации, свойственные матерым профессорам, когда они наставляют нерадивых студентов. Лиза чувствовала, что он торопится и не хочет обсуждать вчерашние события. Все, что ОН считал ей нужным сказать, он уже сказал…
Показав, что разговор закончен, Александр Николаевич направился к дверям, перед уходом, как всегда, покровительственно поцеловав ее в лоб…
Лиза улыбнулась ему дежурной улыбкой, подождала, пока он выйдет из парадной, помахала рукой из окошка и наконец дала волю слезам…
«Ты все время дома!» – как она могла объяснить ему, что любимые им кулебяки, и заливное, и грибочки, и рюши на занавесках, и плетеные коврики на кухонных табуретках занимали все ее часы почти без остатка. Надо было купить, приготовить, почистить, проследить, чтобы не сгорело и не выкипело. Надо было оплатить счета за квартиру и ответить на многочисленные телефонные звонки. А еще созвониться с его стоматологом, и съездить за привезенными кем-то из-за рубежа журналами, и перепечатать его очередную статью… Надо было успеть привести в порядок себя и быть готовой, если понадобится (а это случалось почти каждый вечер) устроить достойный прием каким-либо важным гостям… Да, она работала на полную катушку – мажордомом, кухаркой, уборщицей, секретарем, прорабом и бог знает кем еще…
А еще деньги, эти проклятые деньги…
Лиза сама не поняла, как это произошло. Александр Николаевич, получив гонорар за последнюю книгу, положил все деньги в большую шкатулку на Лизином туалетном столике и сказал, что это ей «на хозяйство» и «на булавки» до мая. Денег там было много, очень много, и Лизе поначалу казалось, что она ни за что не сможет потратить даже четвертую часть этой суммы… Но потом кто-то из новых знакомых предложил ей купить привезенные из-за рубежа французские духи, кто-то – итальянские туфли, кто-то – меховой жакет с чудесным «седым» соболем… Лиза покупала это шикарное барахло частью из желания поближе сойтись с новыми людьми, частью потому, что видела: именно такие вещи принято иметь в среде людей этого круга. Лиза ощущала бы себя голой, если бы появилась среди благоухающих «Шанелью» и «Пуазоном» дам, неся за собой лишь запах простенькой «лавандовой воды». Она и без того чувствовала себя ужасно неуверенно среди этих людей. Внешняя ухоженность, красота, молодость были ее единственным оружием и защитой в неравной борьбе с самоуверенными «драными кошками».
Итак, деньги почти ушли – а за окном был всего лишь конец апреля… Что же делать? Неужели придется признаться во всем мужу? Лиза знала, насколько строго Александр Николаевич относится к планированию времени и денег, и даже представить себе не могла, какой будет его реакция, если она признается, что всего за полтора месяца растранжирила почти полторы тысячи рублей…
Деньги Лизе были нужны уже сегодня – требовалось купить продукты на вечер. И она даже придумала, как, хотя бы временно, решить этот вопрос… Если бы не одно «но»… Лизу мог выдать ее вечерний наряд. Когда-то давно она говорила мужу, в чем именно собирается быть этим вечером, и, если бы Александр Николаевич удосужился вспомнить их давний разговор, ей было бы очень трудно объяснить внезапную смену туалета. Когда-то в детстве Лиза читала «Трех мушкетеров» и сопереживала несчастной Анне Австрийской, вынужденной отправиться на бал без роковых алмазных подвесок. Но ей даже не могло прийти в голову, что когда-нибудь ее собственная личная жизнь повиснет на волоске из-за такой ерунды, как праздничное платье.
Лиза подошла к платяному шкафу. Специально сшитое для праздничного вечера фиолетовое платье висело на плечиках. Молодая женщина внимательно перебрала другие наряды. Золотистое платье с бахромой, купленное недавно у очередной приятельницы «с рук», ее муж еще не видел. Если надеть его, а не фиолетовое, можно будет украситься серьгами из темного янтаря и золота… А это уже решение проблемы… Дай Бог, чтобы Александр Николаевич оказался, как всегда, невнимателен к ее одежде…
«Можно ли оклеивать служебный кабинет обоями в цветочек? И при этих самых обоях в цветочек вешать на окно ситцевые занавески с ромашками?»
Нет, конечно, этого делать было нельзя… Тем более когда вся эта пестрота совершенно не гармонирует с солидным обликом хозяина кабинета… Почему же он все-таки сделал? Егор Александрович Иванов, импозантный мужчина, из-за полноты и некоторой опухлости лица казавшийся старше своих лет, небрежно потеребил в тонких аристократических пальцах краешек занавески, рассматривая наивный пасторальный узорчик. Невольно ему вспомнились школьные годы, беззаботное лето, когда можно было почти три месяца проводить вдали от столицы и грозного папы, в беззаботной веселости деревенского отдыха. Как нравилось ему, пропуская мимо ушей не слишком строгие укоры любимой бабушки, сбегать с утра в лес, нацепив на себя драные штаны и грязную кепчонку… Тогда ему казалось, что быть взрослым и свободным – одно и то же…
Прошли годы, отпуск стал коротким и суетливым, появилась семья, а сам он все так же находил удовольствие в мелких актах «непослушания» своему грозному родителю. В излишне по-домашнему обставленном кабинете… В ненавистном академику желтом цвете рубашек… В спрятанной в третьем слева ящике письменного стола «незаконной» пачке «Беломора»…
«Боже мой, что скажет отец, когда увидит эту мебель!» Егор с некоторым злорадством и страхом посмотрел на новое украшение кабинета – желто-оранжевые кресла с зеленым узором. Эти мягкие чудовища окончательно лишили служебное помещение официальности и в то же время сделали кабинет еще более домашним и уютным. Вторым домом Егора… А если совсем честно – первым…
Легкое девичье журчание, сопровождавшее его размышления до этой минуты, вдруг прекратилось, и Егор понял, что настало время вернуться к письменному столу и попытаться утешить Танечку…
Он посмотрел на нее. Очаровательная брюнетка в облегающей синей кофточке и длинной темной юбке с игривым разрезом на боку только что закончила свой длинный рассказ и сейчас, смущенно потупив глаза, теребила блестящий янтарный браслет на запястье… Ласковое тепло разлилось по сердцу Егора, и он попытался обнадежить красавицу:
– Танечка, я, безусловно, постараюсь помочь…
Зыркнув в сторону двери и убедившись, что никто не наблюдает за ними со стороны, решился поцеловать свою любовницу в щеку.
То ли от обещания помочь, то ли от поцелуя – девушка заметно воспряла духом и подняла на Егора роскошные темно-синие глаза. Егор замер – как кобра, завороженная флейтой факира…
– Татьяна! Где Татьяна?
Неприятный громкий голос из-за закрытых дверей мгновенно разрушил ауру момента. Егор импульсивно отстранился от девушки, а она, вспорхнув с табурета, легко подхватила со стола какие-то папки. Грива каштановых волос нежно коснулась лица Егора Александровича, и Татьяна, бросив ему на ходу лукавую улыбку, стрелой унеслась из кабинета – примерный образец надежной сотрудницы, старательно выполняющей все пожелания шефа…
Егор вздохнул. Ему была неприятна банальность происшедшей сцены – шеф и любовница, классический и пошлый адюльтер. Егору не нравилось называть Танечку любовницей. На самом деле их объединяло нечто большее, чем страсть: они, и это важнее всего, были настоящими друзьями и соратниками. Три месяца назад, когда Таня только появилась у него в коллективе, Егор был потрясен тем, с каким вниманием и интересом эта девушка отнеслась к его идеям и проектам. Для нее было важно и значимо каждое сказанное Егором слово. Она восхищалась им и хвалила его, а главное, видела в нем то, чего не могла увидеть даже его жена – талантливого специалиста, настоящего ученого. К этим своим качествам Егор, вечно теряющийся в тени своего отца, относился особенно трепетно.
Вот уже почти двадцать лет Егор Иванов работал, если можно так выразиться, «профессиональным сыном» академика Иванова. Иногда он с грустной иронией думал, что так и надо было бы написать в штатном расписании: должность – «сын Иванова». Егор отслеживал периодику и собирал материалы для отцовских работ, часто переводя их с иностранных языков (Александр Николаевич владел только английским, да и то разговорным). Сын же, весьма прилично знавший немецкий, французский и английский, часто исполнял при отце функции переводчика. Егор «отсеивал» просителей, желавших зачем-либо обратиться к отцу. Все знали, что доступ к обитым кожей дверям кабинета академика лежит через скромную приемную его сына. Егор «бегал» по учреждениям, собирая подписи для той или иной бумаги, дежурил под дверями официальных лиц, составлял и «вылизывал» сборники статей, организовывал семинары и конференции…
Враги Егора считали его пустобрехом, выбившимся в люди на отцовских плечах, друзья – бедным малым, несчастной жертвой отцовского произвола…
Егор часто думал о том, что слава, пришедшая к отцу в последние двадцать лет, в немалой степени создана его руками. Александр Николаевич уже давным-давно не был тем жадным до знаний ученым, который приходил в экстаз от новой научной гипотезы. Обосновавшись в обустроенном молодой супругой гнезде, маститый академик приобрел черты изнеженного сибарита, и только трудами своего прилежного сына и верных учеников сохранял за собой славу не покладавшего рук труженика.
На самом деле все было далеко не так просто. Егор, оценивая своего отца, находился в искреннем заблуждении. Иванов-старший в самом деле в последние годы не часто переступал пороги библиотек и лабораторий. Однако, по мнению многих, он в этом и не нуждался. Великолепная профессиональная интуиция, умение схватывать на лету суть вопроса, быстро и точно анализировать ситуацию позволяли ему делать выводы и гипотезы, ценность которых, по мнению его коллег, намного превышала затраченный на черновую работу труд. Аспиранты Александра Николаевича отнюдь не чувствовали себя обделенными или обиженными, доставая для академика очередные кипы материалов, поскольку знали: один взгляд, брошенный академиком на чертеж или план исследования, может с легкостью избавить от месяцев упорного труда и подсказать решение там, где никому даже не приходило в голову его искать…
Пожалуй, из всех учеников академика его идеи не ценил только Егор, с детства привыкший получать интеллектуальные дары безвозмездно и в любом количестве.
Подняв глаза, Егор посмотрел на себя в висящее напротив стола зеркало. Седина на висках. Мешки под глазами. И страх, вечный страх получить нагоняй от всемогущего отца. И это все в сорок лет? Нет, хватит. Пора ему показать всем, что он совершенно свободный, независимый ни от кого человек. Егор усмехнулся, представляя, как будет удивлен, даже шокирован привыкший к сыновнему послушанию отец, когда сегодня вечером на семейном празднике его не окажется за столом.
– Егорушка, ты заболел? – спросит его отец по телефону приторно-заботливым голосом – так, как обычно разговаривают с детьми.
– Нет, отец, я просто не приехал!
– Почему?
– Не захотел!
Егор зашелся от смеха, представляя, какая будет у отца физиономия, когда он услышит это «не захотел».
Приятная мысль заставила его с удвоенной силой взяться за работу. До конца рабочего дня еще была уйма дел: встречи, совещания, собрания… Предстояло встретиться с корректором по поводу текста монографии, которую надо сдать в печать до четверга, а еще нужно было перевести для отца статью из американского журнала – как раз по его теме…
И тут он вспомнил просьбу Тани.
Танечка мечтала поступить в институт. Причем не в какой-нибудь, а в Институт международных отношений. Она знала, что для нее, обычной девушки, недавно приехавшей из провинциального Себежа, это то же самое, что мечтать стать председателем политбюро коммунистической партии Советского Союза. И все же она мечтала… Таня не смела ни о чем просить Егора, но он сам предложил ей помощь… Она даже отговаривала его, твердила, что ему не стоит взваливать на себя такую тяжкую ношу, но Егор с ней не соглашался. Больше всего на свете ему хотелось оправдать то восхищение и восторг, которые он видел в ее глазах…
Егор потер седеющие виски и по селектору попросил секретаршу принести ему чай с лимоном. Толстая записная книжка на столе служила печальным напоминанием о том, сколько еще звонков предстоит сделать сегодня.
Да, сегодня его план не удастся. Семейный праздник – слишком удачный повод обратиться к отцу с просьбой… Он поедет. Сегодня – поедет. Только ради Тани…
Но ведь есть еще завтра и послезавтра, и уж тогда он сможет сделать все иначе…
Егор почувствовал, как по сердцу пробежал холодок. Он ощущал этот холодок всякий раз, когда думал (что, впрочем, случалось не часто) о том замкнутом круге, в который попал: его собственная власть, которой он так наслаждался среди подчиненных, досталась ему ценой почти полного подчинения отцу. Снять с себя гнет, означало отказаться от всех преимуществ… Егор по привычке прижал руки к горячему лбу, но тут же поспешил утешить себя: «Это в последний раз. Я перетерплю…»
Он встал с кресла, довольный принятым решением.
Егор не хотел думать о том, сколько раз он уже решал строить свою жизнь независимо от всемогущего Александра Николаевича… Как алкоголик, убеждающий себя, что может отказаться от водки в любую минуту, он не желал думать о том, насколько в самом деле велика его зависимость. Слишком многое вошло в привычку, стало частью его самого, частью, которую он не замечал – или не придавал ей значения…
Проходя мимо приемной, он успел увидеть, как очаровательная Дашенька почтительно вскочила со стула… Для многих, очень многих Егор Иванов был тем, чем для него самого был его отец – всемогущим богом, человеком, держащим в своих руках нити тысяч судеб. Да, империя Егора была не столь велика и не столь обширна, как империя его отца, и сам он во многом зависел от чужой воли… Но все же, все же…
– Даша, если что – я вечером у отца, домашние дела… – произнес Егор через плечо. Произнес просто так, по привычке. Конечно же, не посмеет никто звонить домой Александру Николаевичу. Но всем, кто в этот вечер вздумает поинтересоваться местонахождением Егора Александровича, Даша с трепетом в голосе будет отвечать, что он уехал к Александру Николаевичу. Пусть не расслабляются, не забывают, кто он…
Егор спустился по лестнице почти счастливый. Он был уверен, что отец, как всегда, выполнит его просьбу – а значит, завтра или послезавтра он увидит глаза Тани, светящиеся любовью, и благодарностью, и восхищением… А уже потом, через пару дней, он покажет отцу, кто есть кто на самом деле!
Ах, если бы еще решить вопрос с деньгами! Егору так хотелось съездить куда-нибудь с Таней, сводить ее в ресторан, сделать ей подарок… Деньги у Егора были, и немалые, но размер его зарплаты был до копейки известен жене… Следовательно, из этих денег он взять ничего не может… Не мог и просить у отца, который знал, что Егор в средствах не нуждается… И все же он хотел сделать что-то такое, что могло бы поразить Таню до глубины души… Что-то дорогое, шикарное… Это было важно. Егор очень надеялся, что Таня любит его не за деньги и не за связи, но надежнее было привязать ее к себе еще и корыстью…
Уже в который раз он видит, как алые облака занавесок вздымаются к потолку. Кажется, что огни пламени устремляются из ресторанного зала в черное беззвездное небо… Флегматичный блондин проскользнул в облитое красным светом логово. Приятель, как всегда, пил пиво за угловым столиком у стены.
– Сегодня твой черед отчитываться,– светловолосый, несмотря на свою объемистую фигуру, угрем прошмыгнул между столом и сиденьями, не задев даже края столешницы. Его не интересует предусмотрительно заказанное приятелем пиво: лишь скользнув по нему взглядом, он тянется к лежащей на столе пачке сигарет. Его бесцветные глаза, как зрачки готовой к нападению змеи, впились в лицо собеседника, не позволяя приятелю отвертеться от рассказа.
Черноволосый только пожал плечами:
– А мне, собственно, и говорить не о чем. Егор Иванов все сделал за меня.
– Как это?
– Очень просто. Завел любовницу и страдает. Деньги контролирует жена, с ней ссориться он не хочет, а девушка Танечка манит его своими прелестями несказанно. Так что Егор со дня на день сам совершит какую-нибудь глупость… Только подтолкни…
– Так подтолкни!– В фаянсовых глазах флегматика сверкнуло недовольство. Блондин сердится: ему самому потребовалось немало сил, чтобы как-то повлиять на расстановку сил в семье Иванова, а его приятель, похоже, ничего не желает делать…
Впрочем, темноглазому херувиму при всей его внешней несерьезности нельзя отказать в проницательности. Он быстро понял смысл брошенного на него взгляда и, иронично скривив пухлые губы, поспешил успокоить собеседника:
– Я подтолкнул.
– Как?– Блондин буквально гипнотизирует приятеля своими бесцветными глазами. Он умеет быть невероятно настойчивым.
Но брюнет не сопротивляется:
– Просто. Прямо при нем предложил Танечке поехать в Крым вместе со мной. Я-то не женат, и могу себе позволить маленькие вольности…
– И куда она тебя, старого козла, послала? —расхохотался блондин.
– Никуда. Я же с самыми серьезными намерениями…
– Даже так!– Блондин развеселился по-настоящему. – А если согласится? Не боишься?
– Не согласится… Рожей не вышел да и положение у меня не ахти… Куда уж мне до Егора Александровича…
– Ну да, ну да,– покивал головой белесый, – кому ж в голову придет, что ты у нас вроде товарища Корейко – подпольный миллионер.
– Ну относительно подпольный…
– Да уж. Каких только миллионеров не бывает! Легальные, нелегальные, скрывающиеся от государства, но известные широкой общественности, неизвестные широкой общественности, но охраняемые властями. Черт ногу сломит.
– А ты не завидуй, —отрезал чернявый приятеля. На минуту сквозь маску шута и добряка проступило его истинное лицо. Жесткость, сверкнувшая в его глазах, заставила светлоглазого поежиться. Казалось, что в помещении внезапно похолодало – такой морозец побежал по коже от взгляда этого человека. Впрочем, через секунду привычная маска была уже на своем месте, и блондин расслабился. За время общения с приятелем он научился быстро забывать об этих случайных проблесках его истинной сущности: значительно спокойнее думать, что их не было вовсе…








