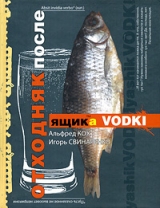
Текст книги "Отходняк после ящика водки"
Автор книги: Игорь Свинаренко
Соавторы: Альфред Кох
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Здесь я плохой судья. Потому что в отношении меня он никогда не делал ничего дурного, на мою отставку он был пойти вынужден. В личных же отношениях он вел себя всегда предельно порядочно. Во всяком случае, по отношению ко мне.
– Твое счастье, что ты был уволен в ранний период, потому что потом он стал совсем другим. Есть очень интересный эпизод у Стивена Спилберга в фильме «Мюнхен». Там израильская разведка создает специальную группу глубоко законспирированных агентов, которая должна уничтожить всех палестинских террористов, которые убили олимпийскую команду Израиля.
И они действительно их искали по миру и убивали. Сначала они очень неохотно шли на убийство. Даже есть эпизод, когда они вычислили одного, но очень долго ждали, пока дочка уйдет из дома, чтобы не убить его вместе с ней. Но постепенно они привыкли убивать и стали убивать людей уже десятками, в том числе невинных, если они оказывались рядом.
И вот Ельцин «сдавал» людей сначала очень тяжело, а потом привык и стал делать это уже не задумываясь.
– Если говорить о Борисе Николаевиче, то, конечно, он хотел власти. Вспомни, как он сразу после шунтирования, как только чуть-чуть пришел в себя, сразу же отменил указ о том, что его замещает Черномырдин.
Но тем не менее мне кажется, что у него было ощущение миссии, что он не просто занимает это место, а по праву, потому что он спасает Россию.
– Это довольно устойчивая конструкция о том, что нравственно все, что делается «для России», в том числе и безнравственные поступки.
– Да, такая конструкция есть. И она не противоречит сказанному выше.
– Я в последнее время много занимаюсь журналистикой, поэтому много общаюсь и с самими журналистами. Они глубоко убеждены, что у них есть какая-то своя журналистская мораль, облегченная, то есть то, что обычным людям делать нельзя, а им можно, потому что они несут информацию в массы, это их миссия. И поэтому они могут залезать под кровать, в туалет, разглашать государственные тайны и так далее.
– Это широко распространено и среди политиков. Многие из них глубоко убеждены – то, что они делают, оправдывает любые средства. Но ты должен также и признать, что есть занятия, при которых строгое следование моральным ценностям делает тебя малоэффективным. Я плохой публичный политик. Кому нужен публичный политик, который все время говорит правду? Да, я мог ошибаться, но я никогда не говорил неправду сознательно…
– То есть эффективный политик должен врать, изворачиваться – и это безотносительно доктрины, которую он проповедует, будь то коммунизм, капитализм, свобода, рабство и так далее?
– Боюсь, что да. Есть, конечно, исключения, есть ситуации настолько кризисные, что можно позволить себе быть честным политиком. Например, Черчилль говорил в обращении к английскому народу после вступления в должность: «Я не могу вам обещать ничего, кроме крови и слез». В нормальной ситуации премьер-министр, который пришел с такой программой, долго бы не продержался.
– А вот еще одна тема. Все эти реформы, которые меняли экономику и вообще страну, из социалистической делали ее капиталистической… Если они и не были эффективными, то это потому, что они не были комплексными. Ты же понимаешь, что для реформирования России недостаточно экономических реформ. Изменить Россию можно только комплексными реформами, которые, помимо экономики, затрагивают и социологию, и пиар, и политику. И этим надо заниматься. А поскольку вся наша команда была сосредоточена только на экономических преобразованиях, то эти реформы были обречены на недостаточную эффективность.
Нужно было реформировать и правоохранительные органы, и судебную систему, и национальные отношения, и административное устройство, и пропагандой заниматься, и с прессой иначе работать.
В позиции, допустим, Явлинского, который говорил: «Либо дайте мне всю власть, либо не надо никакой, потому что частью я заниматься не буду», – есть своя логика, потому что он прекрасно понимал, что в результате он окажется виноват в том, что реформа недостаточно хороша. То есть, может быть, это не рисовка и не попытка уйти от ответственности, а желание сделать лучше?
– В этом есть своя логика. Но вопрос в том, что для тебя является приоритетом. Если политическая карьера, то нужно занимать только эту позицию. Но взгляни шире. Во-первых, ты у власти будешь не всегда, во-вторых, даже находясь у власти, будешь уязвим и тебе будут мешать те проблемы, которые ты не контролируешь по объективным причинам.
По сути, есть выбор: можно сделать что-то или не сделать ничего. Третьего пути – получить всю власть и бесконечно долго ее контролировать – нет. Вот и выбирай! Мы решили сделать хоть что-то. Явлинский – не делать ничего. Каждый считает, что он прав. Кто нас рассудит? Как ни банально – только время.
– Ну хорошо, даже если мы не будем говорить об МВД, Генштабе, стратегических ядерных силах и прочем, но, находясь в здравом уме, можно ли считать, что ты руководил экономическим блоком реформ, если ты не управлял Центральным банком? И даже в кадровом смысле не управлял?
– Без рычагов влияния на Центральный банк это было трудно.
– Так почему этого-то не добились? Почему не поставили перед Ельциным такой вопрос?
– Так, а кто утверждал тогда председателя Центрального банка? Уж не хасбулатовский ли Верховный Совет?
– Ну а потом, когда это уже зависело от Ельцина, почему каждый раз появлялся Геращенко?
– Почему? Кабы знать. Когда от него это стало зависеть, а именно после 1993 года, это стало главным вопросом в наших трениях. Я говорил, что если они хотят проводить эффективную экономическую политику, то нужно менять Геращенко.
– И какой ответ ты услышал?
– Ответ – договаривайтесь с премьером.
– Но это же не ответ! Значит, он не хотел решать этот вопрос в твою пользу? А, ну да, я и забыл. В твоей версии это был уже другой Ельцин.
– Конечно! Посуди сам, там был некий коллективный «я», который ему говорил: «Давайте, сейчас мы будем проводить реформы, теперь-то власть есть!» Но были и другие, говорившие ему: «Борис Николаевич, народ устал от реформ, давайте немножко отдохнем от них».
– Нет логики.
– Почему?
– Это звучит так: «Народ устал от реформ, давайте вместо реформ немножко повоюем».
– А это так.
– А от войны он не устал?
– Конечно, нет. Это же будет маленькая победоносная война! А что может быть лучше маленькой победоносной войны?
– В стране, уставшей от экономических реформ?
– Конечно…
– Ты не находишь, что как-то очень лихо у нас закольцевалась тема морали и эффективности в политике?
БЕСЕДА ТРЕТЬЯ. О ВОЙНЕ
– Помню появление в правительстве Георгия Хижи, лидера питерской директуры. Я всегда говорил, что кадры – это конек Чубайса.
– Да, это была его креатура. Это был как раз тот случай, когда он «угадал».
– А что Хижа натворил в Осетии, когда его туда Ельцин послал разбираться? Я так этого и не понял. Ведь потом пришлось ехать и разруливать эту ситуацию тебе.
– Он просто растерялся. Все горит, идут бои, осетины громят склады с вооружением, а он растерялся напрочь!
– А с чего там все началось? Эта история тянется еще с царских времен. Сейчас уже забыли этот конфликт, а это же было что-то чудовищное.
– Да-да. Этот конфликт медленно накалялся, и в какой-то момент все взорвалось. Кто-то из радикальных ингушских лидеров, я так и не разобрался, кто именно, закричал: «Вернем себе старые земли с оружием в руках!» Там же – и в Ингушетии, и в Чечне – оружия уже к тому времени накопилось предостаточно. Ингуши пошли, разоружили некоторые части, которые стояли на территории Ингушетии, получили дополнительные бронетранспортеры.
– Инициаторами были все-таки ингуши?
– Да, конечно. Дальше осетины начали требовать, чтобы им раздали оружие. Долго рассказывать, но я им оружие раздал. Фактически у меня не было другого выхода. Там вопрос был такой: армейские части, которые были дислоцированы на территории Осетии, не хотели сопротивляться осетинам, но и не готовы были сами противостоять вооруженным отрядам ингушей, которые шли на Владикавказ.
– Они готовы были проиграть ингушам?
– Нет, они не готовы были сопротивляться народу. Без сомнения, осетины могли бы взять склады с оружием силой. Поэтому я сказал, что оружие мы им дадим, но по предъявлении военного билета и после написания заявления о зачислении в состав внутренних войск. Потом, как только боевые действия прекратились, они оружие вернули.
– А что значит «боевые действия»? Вот ингуши наступают, а осетины выкопали окопы, встали на позиции, отстреливаются?
– Да. Были бои. Осетины занимали оборонительные позиции, ингуши наступали, мне пришлось перебрасывать части – уже не помню, какие конкретно. Войска встали между враждующими сторонами. И им пришлось воевать с ингушами, потому что в данном случае инициаторами конфликта были ингуши. В этой связи основной и единственной на тот момент моей задачей было сделать все для того, чтобы этот конфликт остановить. Любыми путями. Чтобы дальше ничего не развивалось. Чтобы не перекинулось в Чечню и так далее.
Потом появился Руслан Аушев. Он еще не был президентом Ингушетии, просто неформальный лидер. Он прилетел, и ситуация немного успокоилась. К тому моменту ингушей уже оттеснили на границу с Осетией, потом войска вошли в Ингушетию, чтобы установить некоторое подобие порядка, и дошли до границы с Чечней.
Ситуация была очень опасной. Было неясно, где граница между Ингушетией и Чечней, где наши войска должны остановиться. А этот вопрос надо было согласовывать с тремя сторонами: с чеченцами, ингушами и армией. И самое главное, что я там делал – занимался урегулированием этого вопроса. Я вызвал в Назрань первого вице-премьера Чечни, согласовывал границы размежевания, то есть пределы, до которых могут дойти войска, чтобы Чечня не вспыхнула. И потом убеждал, доказывал. Что-то не устраивает ингушей, что-то – чеченцев. Было непросто.
– А в Чечне уже тогда было такое дееспособное правительство практически независимой страны?
– Да. Во главе с Дудаевым. Осенью 1992 года он уже был президентом. Я, правда, с ним не разговаривал, даже по телефону. Он несколько раз посылал ко мне людей, но я считал, что это не мое дело – общаться с лидерами самопровозглашенных государств. Я себе поставил одну-единственную задачу. Мне было важно во что бы то ни стало остановить конфликт.
– Но следствием этого конфликта, ты же знаешь, было то, что огромное количество ингушей стали беженцами. И они не могут вернуться до сих пор.
– Да, когда я прилетел в Осетию, там горели ингушские дома.
– А как это происходит: наступают ингуши, осетины берут оружие и с оружием в руках защищают, как они считают, свою землю? Можно долго спорить, чья это земля, уйти далеко в историю, но, так или иначе, осетины были готовы проливать кровь за свою землю.
Но вот произошли события в Беслане. Напали и убили их детей, что еще более чудовищно. Никакой реакции со стороны осетин – ни военных действий, ни призывов к оружию. Не дай Бог, конечно! Но чем это объяснить? Ведь прошло уже больше двух лет. Насколько это отсутствие реакции кажущееся? Или это та самая пресловутая стабильность?
– Думаю, да. У них было ощущение, что, если они сами себя не защитят, этого не сделает никто. Сейчас бытует представление о том, что есть власть, пусть она и разбирается. Русский крестьянин образца 1918 года и 1928-го – один и тот же человек, но в 1918-м он твердо знал, что его никто не защитит, если он сам не возьмет винтовку, а в 1928-м уже так не думал.
– Еще вопрос: Грачев ведь твердо, до каждого патрона и автомата, знал, сколько оружия он передал чеченцам?
– Во-первых, он не знал до автомата. Какими бы документами сегодня ни размахивали разные граждане, никаких войск в тот период там не было. Считалось, что там были воинские части. Это только из Кремля Горбачеву или, позже, Руцкому казалось, что у него там есть армия. Но это были несколько офицеров с женами и детьми, которые якобы охраняли склады с оружием.
На эти склады регулярно производились нападения, которые, разумеется, не могли отразить несколько офицеров. Нападавшие брали оттуда оружие, боеприпасы, бронетранспортеры и так далее. Ну сидят там три человека, а приходят 500 вооруженных боевиков. И что они будут делать, эти несчастные офицеры?
После этого Дудаев поставил туда свою охрану. Она подчинялась исключительно ему. Они совместно охраняли эти склады с нашими офицерами, с тем чтобы оружие не попадало в руки вообще неизвестно кого. На самом деле ситуация такая: формально стоит полк, а на самом деле никакого полка нет – стоит отряд чеченцев плюс несколько офицеров, которые хорошо если успели перебросить семьи куда-то в Россию.
– Но тем не менее меня интересует вопрос: Грачев прекрасно знал, сколько оружия в Чечне – и по данным военной разведки, и по впечатлениям и рассказам этих самых офицеров. Он не мог не знать, сколько примерно человек может поставить под ружье Дудаев. Уровень их боеспособности он тоже знал не понаслышке. Откуда это упорное убеждение Ельцина, что одного воздушно-десантного полка достаточно, чтобы взять Грозный? Зачем в 1994 году ему нужна была эта война?
– Грачев не был сторонником войны. Энтузиастами были другие люди. Ключевую роль играл заместитель председателя правительства Николай Егоров, бывший глава Краснодарского края. Вот это самое страшное, когда на ответственное место ставят храброго, энергичного дурака. Желательно гражданского. Он действительно был готов брать на себя ответственность, принимать решения. И в ситуации, когда никто не хотел брать на себя ответственность, он кричал: «А дайте мне! Я им покажу!» Можно вспомнить знаменитую фразу другого ключевого автора решения по Чечне, единомышленника Егорова, секретаря Совета безопасности Лобова. Когда его спросили, как он оценивает возможность партизанской войны в Чечне, он сказал: «Мы ее не допустим. И вообще, партизанская война не в традиции чеченцев». Ему, наверное, казалось, что они фронтальную любят, позиционную, с окопами и колючей проволокой.
А Грачев был против. Но ему сказали, что надо. Ты понимаешь, как готовили генералов воздушно-десантных войск в советское время? Их учили управлению войсками, которые должны были десантироваться в тыл противника на основные коммуникационные узлы, пока наступают танковые войска. У них была одна-единственная задача: спуститься и продержаться 72 часа. Что будет с ними потом – не важно, что они будут делать эти 72 часа, как держаться – тоже. Занять круговую оборону и 72 часа продержаться. Все; вот тебе и тактика, и стратегия. И перед человеком с такой подготовкой ставят задачу совершенно другого уровня и сложности. И он действительно уверен, что в состоянии одним полком взять Грозный.
Кажется, как можно не сопоставить: оружие, чеченцы, которые знают территорию, хорошие солдаты, мотивация есть, а ему даже в голову не приходит, что это не просто гражданский сброд, пусть даже с винтовками, и что они способны противостоять наступающему воздушно-десантному полку.
Вот другой пример – генерал Эдуард Воробьев, первый заместитель командующего сухопутными войсками, умный, хорошо понимающий, кто и как воюет, прекрасно образованный. Будь моя воля, назначил бы его начальником Генерального штаба. Он поехал в Чечню, потому что получил приказ возглавить операцию. Посмотрел части, понял, в каком они положении, посмотрел данные разведки и сказал, что нужно как минимум два месяца на подготовку, чтобы из этого сброда сделать армию, и тогда можно начинать.
Не в том смысле, что начинать или не начинать – это не его дело, – а просто потому, что немедленно воевать нельзя. Но начальники ему сказали: «Можно и нужно». Он написал рапорт об отказе принять на себя руководство операцией.
Грачева можно упрекать в том, как велась первая чеченская война, но не в ее начале.
– Таким образом, окончательное решение все-таки принимали гражданские лица, причем глупые и безответственные?
– Да.
БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ. О ПРИВАТИЗАЦИИ
– Девяностые вызывают у меня удивительное ощущение некой бессистемности, судорожности, абсолютной разнонаправленности попыток: то год интенсивных, фантастических либеральных реформ, то многомесячный застой. Я помню, когда закончилась чековая приватизация, мы написали новую программу, послали ее в правительство, и потом полгода – вообще ничего. Я уже не знал, что делать: ну распустите нас, что ли.
Кстати, я хотел бы поговорить с тобой о приватизации. Как ты знаешь, она содержала в себе несколько ключевых элементов: во-первых, собственно приватизация за деньги, когда запускали магазины с молотка. Она шла довольно успешно и имела довольно позитивные результаты в Нижнем, Питере. Потом появилась чековая приватизация, сейчас мы ее обсудим более подробно. Параллельно, вместе с ней, шли так называемые инвестиционные конкурсы – весьма спорная вещь, а после были залоговые аукционы. И наконец, опять продолжилась денежная приватизация.
С денежной вроде все понятно: кто больше заплатил, тот и победил. Инвестиционные конкурсы – тоже понятно. Это некое интеллектуальное упражнение, цель которого – заманить к себе директуру, которая тогда имела сильный политический вес, но при этом не располагала достаточными финансовыми ресурсами. Она сразу увлеклась составлением инвестиционных программ, тем более что внутри этого механизма было заложено, что они сами пишут инвестпрограмму.
Залоговые аукционы нужны были для того, чтобы заманить олигархов. И олигархия, пришедшая в 1995 году на залоговые аукционы, всю весну 1996 года честно работала на победу Ельцина.
Чековая же приватизация тоже замышлялась как некая «приватизация для народа». Для этого народу раздавались ваучеры, что само по себе было тяжелым административным упражнением. Это только такой гений бюрократии, как Чубайс, мог провести. При полном бардаке в стране, когда уже все разваливалось, провести такое! Это было административное упражнение фантастических масштабов.
– Это сопоставимо только с тем, как Троцкий за несколько месяцев сформировал боеспособную Красную армию. Вообще организационно чековая приватизация – это перепись населения и денежная реформа в одном флаконе. Плюс собственно чековые аукционы. С организационной точки зрения это беспрецедентно сложная задача.
– Но чековая приватизация своих главных целей так и не достигла. Само словосочетание «ваучерная приватизация» стало просто символом несправедливости, синонимом некой аферы. Считается, что народ обманули, заморочили ему голову. Хотя за исключением этого случая никогда – ни до, ни после – народу ничего не давали, у него только отнимали.
– Неправда. Приведу тебе пример из истории России, когда ситуация была похожей. В 1918 году народу дали землю. Но уже через три года крестьяне воем выли о том, как их с этой землей обманули. Они кричали, что лучше бы ее не давали совсем.
– Но крестьянам ее не дали, они сами брали!
– Они брали, конечно, но с осторожностью. Однако потом им сказали, что все, что они взяли, – правильно. Так они воем выли к 1920 году: писали во все инстанции, что обрезали много земли, а добавили в результате с гулькин нос, когда все поделили поровну. Потом, делили же все поровну, но у одного, например, оказалась полоса за 12 верст, и «как я ее буду обрабатывать?». Этому дали землю лучше, чем тому… Они каждый год переделивали землю, пока наконец Советская власть не поняла, в чем дело, и не сказала: «Хватит уже делить». И после этого был такой гвалт возмущенных писем от крестьян: «Как же так, вот в прошлый раз неправильно поделили – что, теперь так-то и оставить?» Масштаб ненависти по поводу земли был огромным!
– Я думаю, что основная волна ненависти была после продразверстки, потому что в это время они не думали, как ее поделили. Они ее даже не обрабатывали.
– Я сам недооценивал остроту этой проблемы, пока не стал работать с документами.
– Я это все прекрасно понимаю. Землю приходилось как-то делить, а как ни подели, все равно будет несправедливо. Но вернемся к приватизации: можно ли было решаться на такое чудовищное по сложности административное упражнение в стране, остро нуждающейся в деньгах, и устраивать бесплатную приватизацию, не получив в результате ничего, кроме ненависти по поводу несправедливо проведенной ваучерной приватизации? Может быть, проще было проводить и дальше денежную приватизацию? Объясни, как это было: вы действительно думали, что будет ощущение справедливости?
– Конечно, нет. Я был категорическим противником ваучерной приватизации.
– А кто был за? Найшуль решительно открещивается и говорит, что к тому моменту он уже не любил идею ваучеров.
– Не знаю, что он любил, а что нет, но в том варианте, когда это все запустилось, его уже не было. А вот был, например, мой друг, депутат Верховного Совета Петр Филиппов. Это он провел через Верховный Совет закон об именных приватизационных вкладах.
Но на деле проблема была не в самом Петре. Это соответствовало духу времени, народным традициям. Идея взять все и поделить – стержневая в сознании народа-богоносца. Она очень глубока.
Так или иначе, но ваучеры были предопределены принятием закона об именных приватизационных вкладах. Наше правительство к его принятию не имело ни малейшего отношения. А деваться было уже некуда.
– Если бы этого закона не было, продолжалась бы нормальная денежная приватизация и ни у кого в правительстве не родилась бы идея про ваучеры?
– Никогда в жизни. Но когда уже этого джинна из бутылки выпустили, было только два варианта: либо остановить процесс, но тогда бы все растащила директура, либо принять этот закон, воспользоваться народной мечтой о справедливом разделе. Чем это потом обернулось, сколько нам политически стоило – понятно.
– Таким образом, никакого идеологического наполнения со стороны правительства в ваучерной приватизации не было? Это была данность, которую нужно было использовать?
– Абсолютно. Можно было все провалить. И тогда бы прошла спокойная «директорская приватизация».
– А с другой стороны, почему такой вариант не принимался? Вот в Польше она прошла – и ничего.
– Мы очень не любили красных директоров.
– Ну ты же знаешь, что все директора, которые что-то там украли, все равно сейчас обанкротились.
– Да, конечно. У меня эта мысль была. Это вариант, который можно было выбрать. В ноябре мы все это обсуждали с Толей.
– Дело в том, что я отношу себя к авторам идеи инвестиционных конкурсов, которые тоже часто подвергаются критике. Но эта идея – частичная легализация директорской приватизации, которая была проведена в Польше и так далее. И мне смешно слышать упреки со стороны адептов ваучерной приватизации в свой адрес: «Вот, у вас жульничество! А мы-то взамен предложили честный способ!» Мне хочется сказать: «Ну-ка давайте выйдем на улицу и спросим, какую из этих двух приватизаций люди считают честной?»
– Я бы, конечно, проводил денежную приватизацию без всех этих инвестиционных и залоговых.
– Залоговые, кстати, тоже были предопределены тем, что Госдума запретила проведение нормальной, денежной приватизации. Во всяком случае – с крупными компаниями.
– Помню. К этому времени мне действительно было уже ясно, что ваучерная приватизация – это плохо, директорская – тоже плохо Это случай, когда нет хорошего решения.
– Я все-таки считаю, что директорская приватизация была бы лучше. Могу объяснить почему: мы получили бы огромную прослойку, очень активную и влиятельную, которая была бы нашим сторонником в отличие от ваучерной приватизации, когда мы получили огромную прослойку наших противников и никаких сторонников.
Но я помню, что идеолог чековой приватизации Дима Васильев саму идею переговоров с директурой воспринимал как «в морду плюнуть».
– Да, но если в этот момент мы бы остановили приватизацию, скорее всего не смогли бы навязать директорам ничего, что бы их сколько-нибудь дисциплинировало.
– Директора бы сами все сделали, без спросу.
– Вряд ли директора были бы нам в тот момент благодарны. Они не были за нас. Это потом, когда концепция изменилась, они приезжали и говорили: «Большое спасибо». А тогда верили в то, что они хозяева предприятий. И коллективы тоже были убеждены в том, что хозяевами являются директора. Ты нам какой-то инвестиционный конкурс предлагаешь – да ну его! Тем более что, когда директор пришел бы в Верховный Совет, ему бы сказали: «Ну конечно, ты хозяин! Какие могут быть разговоры? Только денег нам на политическую борьбу с Ельциным и Гайдаром дай, и все. Ну и «для сэбэ трошки»». С ними в это время договориться было нельзя. Нужно было сначала их воспитать, чтобы они поняли, что если им дают 20 процентов за инвестиционный конкурс, то это огромное одолжение. А в 1991 году директора сказали бы просто: «И так все наше». Политически мы лишь укрепили бы базу Хасбулатова.
– Это да, конечно. Но и Хасбулатов на этой основе был бы уже не тот Хасбулатов, который так явно вам противостоял.
– Для Хасбулатова реформы были не слишком важны. Он был человеком серьезным. Главным призом для него являлась полная власть в стране.
– В этом он мало отличался от Бориса Николаевича.
– Да. Но у него был стиль другой: такой восточный, интрижно-аппаратный. Ельцин был как бульдозер, а тот – тонкий интриган. Он рассуждал, кого пустить в загранкомандировку, а кого нет, кому дать купить машину, а кому не дать. Ты вот неправильно голосовал в прошлый раз, теперь я вычеркну тебя из этого списочка на квартиру. Я думаю, что он мерил себя по Сталину – тоже такой тихонький, незаметненький, ближайшим сподвижником вождя был в свое время. Опять же трубка.
– Несколько последних слов. Небольшой прогноз на ближайшие 10–20 лет?
– Нынешний этап не очень симпатичен. Сколько он станет длиться, не знаю. Спрос на свободу возрастет. Если цены на энергоносители понизятся, он будет расти быстрее, если выше, то медленнее. Раньше или позже неизбежно обострение. Борьба за построение в России демократии окажется тяжелой.
– А ты чувствуешь свою вину или вину команды за то, что мы не смогли избежать такого режима, который даже непонятно, как называть: это и не диктатура, и не демократия, не реставрация, а непонятно что. Скажем так: несоответствие масштаба личностей стоящим перед страной задачам…
– Вину не чувствую. Боль, горечь – да. Но сказать, что я знаю, как надо было сделать, чтобы этого не случилось, не могу. Что надо было сделать в реальной жизни – такой, какой она была, с реальной страной, ее политической элитой, с другими игроками, с наследием, традициями, проблемами.
– Многие из людей, которые хорошо к нам относятся, ставят нам в упрек, что мы не заставили Ельцина принять закон о реституции и закон о запрете на профессии, то есть о люстрации, не провели выборы в Думу в 1991 году.
– Это было невозможно.
– В силу личности Ельцина?
– Нет, этого не позволял политический расклад.
– А это обсуждалось?
– Конечно. Закон о реституции всерьез не обсуждался, запрет КПСС обсуждался, но мы проиграли это дело в Конституционном суде. Пойми, это было двоевластие. У Ельцина, при всей его популярности, реальная свобода маневра была очень невелика.
– Но в Восточной Европе все же провели эти законы?
– Ни в коем случае нельзя объединять слишком много задач. Если ты пытаешься решить три задачи одновременно, то вообще ничего не получится.
– То есть ты считаешь, что сегодняшний режим был задан с самого начала?
– Да, конечно. В Восточной Европе было проще. Там всегда можно было найти представителя альтернативной элиты, например из церкви, который никогда в коммунистической партии не состоял.
– Но, например, я не был коммунистом.
– Это правда, но таких, как ты – кто не состоял в партии и при этом был способен на важные, решительные действия, – было мало.
– Я могу тебе перечислить много людей: Миша Маневич, Миша Дмитриев, Леня Лимонов.
– Вы все были очень молоды. Мы-то были молодыми, а вы и подавно. Вы на пять лет нас младше, а по тем временам это было много. Мы были совсем мальчишками. Мне было тридцать пять лет.
– Давай проскочим сразу несколько логических шагов, и я скажу тебе выводы, и если ты согласен, то мы на этом закончим. Правильно ли я понимаю, что нынешний режим – это плата за бескровность? Потому что если бы свобода и рынок были выбраны в результате гражданской войны, то с кагэбэшниками и коммуняками не цацкались бы?
– Да, верно.
– Но неизвестно, удержится ли нынешний режим в рамках бескровности.
– Во всяком случае, эта кровь будет не на нас.
А.К.








