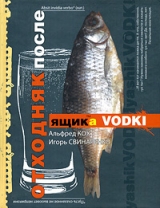
Текст книги "Отходняк после ящика водки"
Автор книги: Игорь Свинаренко
Соавторы: Альфред Кох
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
БЕСЕДЫ С ГАЙДАРОМ
БЕСЕДА ПЕРВАЯ. ОБ ОТСТАВКЕ
– Я никогда не беру интервью на злобу дня, а всегда – с точки зрения, говоря высокопарно, вечности. Поэтому я не буду ничего спрашивать обо всех этих историях с отравлениями, мы с тобой уже много раз это обсуждали «за кадром», меня интересует следующее: сейчас столетие Брежнева, и я пытаюсь сопоставить с его эпохой не ту, которая сейчас, а те времена, когда ты проводил реформы в России, и особенно тот период, когда ты оказался уже в отставке.
Мы выросли с ощущением, что политики высокого ранга, начиная от премьера и выше, уходят из власти каким-то естественным образом: либо просто умирают, как Брежнев, Андропов, Черненко, либо как-то еще, но все равно уже немолодыми людьми, пенсионного возраста. Ты, по-моему, стал первым политиком, который был отставлен от управления страной в возрасте 36 лет.
Ты оказался первым, кто после отставки должен был думать: «А что дальше делать-то?» Я не хочу предвосхищать твои ощущения, мне хочется, чтобы ты порассуждал на эту тему. Это довольно необычное состояние, ведь ты уже побыл в должности, которая играет роль достаточно сильного наркотика, а остальные должности такого адреналина, по определению, не дадут, разве что, я не знаю, прыгать без парашюта или заходить в клетку со львами. Поэтому мне интересно, что с тобой происходило, какими были ломки, как ты снижал дозу и избавился ли ты от этого наркотика или и до сих пор есть желание получить дозу.
– Когда я уходил с должности премьера, ничего, напоминающего ломку, не было. Первое, что почувствовал, – безумную усталость. Еще, подсознательно, было чувство тревоги. Казалось, что вновь зазвонит телефон и снова нужно будет куда-то ехать, что-то решать, с кем-то ругаться, кого-то наказывать, заставлять, конфликтовать. Что на меня опять выльют ведро помоев.
Умом я понимал, что больше не отвечаю за страну, телефон не прозвонит и мне не скажут, что произошло нападение на батальон ОМОНа на границе Осетии и Ингушетии, идут боевые действия, надо что-то делать. Умом-то я понимал, но тем не менее вздрагивал от каждого звонка. Дай вспомнить. Итак – усталость, тревога. Да вот, собственно, и все. Ломки не было. Обратно порулить не тянуло. Перед самой отставкой я занимался урегулированием ингушско-осетинского конфликта. Это было тяжело, нужно было перебрасывать войска. Военные – они никогда не могут договориться: один говорит, что не смог перебросить, потому что ему не дали самолетов, а другой еще что-то не смог, – в общем, нужно было заниматься проблемой в режиме ручного управления. Одновременно улаживал ситуацию в Таджикистане – там гражданская война и более 100 тысяч русских, 201-я дивизия, погранотряды.
После отставки от каждого звонка вздрагивал. Хотелось отдохнуть. И главное – это возможность не отвечать за все.
– Абсолютно все замечают, что безумно сложно сразу после отставки заставить себя трудиться. Это самое главное – заставить себя снова работать.
– Это правда. Ты знаешь, я работяга: привык работать, читать много профессиональной литературы, делать пометки, писать. Вернуться в этот ритм работы тяжело. Пытался заставить себя, но посмотрел на происходящее трезвым взглядом: сажусь за стол, но лучше бы и не садился – когда перечитываю то, что написал, понимаю: это никуда не годится. Потому что голова отказывалась работать. И первое время – безумная усталость: заметил, все время сплю. Стоя, сидя, лежа…
– Затем усталость прошла?
– Не знаю, чем бы все кончилось с моей сонливостью, но мне особо отдохнуть не дали. Помню, вскоре после отставки уже решил, что хоть теперь-то смогу пожить спокойно, без звонков. Но рано утром меня разбудил телефонный звонок. Мне рассказали о сложной ситуации, требующей немедленного вмешательства.
– А что за ситуация стряслась?
– Дело в том, что, пока я пребывал в таком «сумеречном» состоянии, Виктор Степанович заморозил цены. В первые две недели, пока меня не было в правительстве, происходила какая-то вакханалия. Денег набухали в экономику столько, сколько не вливали никогда, ни за какие любые две недели предыдущего года. Потом заморозили цены, ну не совсем заморозили, а слегка приморозили. В результате недельная инфляция подскочила до уровня, на котором она никогда не была, и, что самое страшное, вновь возник товарный дефицит, хотя казалось, что мы это уже все прошли! А я уехал под Питер, сплю, газет не читаю, радио не слушаю. Мне звонит Толя и говорит: «Ты знаешь, что здесь происходит? Ужас, кошмар».
Тут я проснулся. Понимаю, чем чревато произошедшее. Знаю, что имею возможность влиять на ситуацию, вмешаться в которую сочту нужным. Звоню Борису Николаевичу, говорю, что это важно, что пришлю ему короткую записку о том, что, на мой взгляд, нужно делать немедленно. Он записку прочитал, дал соответствующие указания. Короче, мало-мальски ответственную денежную политику и свободные цены удалось отстоять. Но не без потерь, не без потерь.
Процесс отставки носил «медленный» характер. Так, чтобы я проснулся и начал жить нормальной жизнью, не получалось. Да, я перестал работать и.о. премьера, нести ответственность и спрашивать с других, но при этом еще в полной мере оставался интегрированным в политическую элиту. Знал, что в любой момент, когда считаю нужным, могу сообщить о своем мнении президенту. Если напишу записку, она попадет к нему на стол, он ее прочитает. Ну и коллеги из экономического блока, что остались в правительстве, нередко заходили ко мне на дачу в Архангельском.
– То есть этой конструкции, что сразу отобрали дачу и так далее, – не было?
– Это было потом.
В другой раз, летом 1993 года, Андрей Вавилов звонит мне в панике: ЦБ изымает из обращения старые купюры, вводит новые. Это лето, люди в отпусках, им говорят, что теперь деньги недействительны, их можно обменять в пределах 10 долларов, что ли, а остальное пропадает. Он мне звонит и говорит, что Минфин никто не предупредил, а Ельцин где-то отдыхает. Пришлось влезать в эту драчку.
– Это Геращенко делал?
– Да. В это время позиция у меня, как ты понимаешь, своеобразная. Я в отставке, но сказать, что я полностью устранился от процесса принятия решений, нельзя. К тому же в это время нарастает конфронтация Ельцина с Верховным Советом, он пытается договориться, весной прошел референдум – в общем, весело. А потом президентский совет, и после него ко мне подходит Борис Николаевич и просит вернуться на должность первого вице-премьера. Ты помнишь, как было обставлено тогда мое назначение на эту должность?
– Нет, честно говоря.
– Я согласился, готовится указ. Решил, пока все еще не подписано, съездить в Ростов, давно обещал. Борис Николаевич должен был объявить о моем назначении на встрече с банкирами, что-то не получилось, а он накануне выехал в Таманскую дивизию и прямо в телекамеру, рядом с танком объявил: «Первым вице-премьером по экономике будет назначен Гайдар».
Дальше вторая работа в правительстве. Там было уже все по-другому. Начало было совершенно безумное – события 3–4 октября, потом очень сложная ситуация конца 1993 года. После путча, но перед выборами в Думу. На меня многие смотрели как на следующего премьера: вот сейчас будут выборы в Думу, у демократов будет большинство. Ты можешь себе представить, с каким энтузиазмом на меня смотрел Виктор Степанович. С одной стороны, он вроде действующий начальник… С другой – я его бывший и будущий начальник.
А потом, когда мы эти выборы не выиграли… Хотя, честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему считается, что мы в декабре 1993 года выборы в Думу проиграли. Наша фракция в Думе была крупнейшей. Демократы никогда больше не показывали таких результатов, как на первых выборах в Думу. У меня на этот счет есть свое мнение.
Но дело даже не в результате и не в предвыборной кампании. На мой взгляд, указ о роспуске Верховного Совета нужно было выпускать не в сентябре, а в апреле, и выборы проводить не в декабре, а тогда же, сразу после референдума «Да. Да. Нет. Да». Тогда и результат был бы иной, и экономика бы пострадала меньше. Это, конечно, просчеты.
Но вернемся к моей работе в правительстве. Во второй свой приход в правительство на ситуацию я влиял мало, все делалось мимо меня…
– А почему это так произошло? Ты же первый вице-премьер по экономике! Почему все делалось мимо тебя? Это что, было прямое указание Черномырдина?
– Естественно. Хотя об этом никто вслух не говорил, но когда ключевые вопросы, которые стоят по двести пятьдесят миллионов долларов, выходят без моей визы… Ты же понимаешь, что это не могло быть случайностью.
Ты работал в правительстве и понимаешь, что по твоим вопросам без твоей визы или визы твоего зама документ выйти не может, если нет специального указания премьера. Значит, такое указание было. Ну а дальше аппарат с огромным удовольствием его выполнил. Я долго не хотел подключать Бориса Николаевича. В конечном итоге так и не объяснил ему суть происходящего.
После выборов продолжать работу в правительстве было бессмысленно, и я подумал, что правильнее будет пойти в Думу. Ведь мы тогда на деле получили парламент, который способен работать. Получили Конституцию, установившую колоссальные полномочия для президента, который, в свою очередь, настроен реформаторски.
– Итак, начало 1994 года. Вы ушли вместе с Федоровым?
– Там все было более сложно: Федоров надеялся, что ему предложат серьезные полномочия за то, что он не уйдет. Поэтому сначала ушел я. Когда ему не предложили, ушел и он.
– И вот наконец ты всё, ноль без палочки.
– Ну, я еще не совсем «всё», я еще в Думе. Лидер фракции как-никак.
– А кстати, ты же в Думе был и второй раз в период 1999–2003 годов?
– Во второй раз я не был лидером фракции. Мне не надо было выполнять все эти ритуалы: выступать на пленарном заседании, произносить пламенные речи…
Мне нужно было заниматься своим профессиональным делом. Которое тогда, из-за моих отношений с правительством, из-за того, что правительство начало реализовывать ту программу, которую мы разрабатывали, было удовольствием. У меня была возможность за два-три дня получать ключевые документы за подписью лиц, принимающих решения, включая президента. Не надо было публично выступать, а возможности делать что-то полезное были, пожалуй, наибольшие за все то время, когда я работал во власти. Потом, конечно, возможности стали быстро сокращаться.
– Но вернемся в 1994 год. Итак, «медленность» ухода из власти продолжалась. То есть, поскольку ты был лидером фракции, все эти встречи, вертушки, мигалки, дачи и так далее оставались. И что самое главное – оставался статус «особо приближенного лица».
– Все это продолжалось до декабря 1995-го, пока мы не проиграли выборы в Думу. Однако хоть мы и не преодолели пятипроцентный барьер, но у меня прошло одиннадцать депутатов-одномандатников в Думе, и я, как лидер партии, еще все равно публичный политик. Возможности уже, конечно, не те, но Чубайс вскоре стал главой Администрации Президента, и когда нужно было обсуждать действительно что-то важное, на узкие совещания меня просили подойти посоветоваться.
Дачу же отобрали раньше, после ухода из правительства. Сразу, без церемоний. Как и правительственные телефоны, машину. Аппарат тогда сразу сообразил, что Ельцин в это вмешиваться не будет. Я о себе не напоминал. Классическая ситуация с молчащими телефонами и шараханьем бывших «друзей» – это действительные реалии конца 1995 года. Тут уже все честь по чести.
– Ну да, конечно. Аппаратчики – люди тонкие. Они знали, что Ельцин не скажет, чтобы дачу отобрали, но и чтобы не отбирали – тоже не скажет. А Гайдар такой человек, который не будет звонить Ельцину и жаловаться. Поэтому надо отобрать. Чтоб знал.
Скажи, пожалуйста, весной 1997 года, когда Боря Немцов перешел из губернаторов в вице-премьеры, и Чубайс тоже перешел из Администрации, и так далее, тогда тебе были сделаны предложения по работе в правительстве?
– Нет, тогда этот вопрос не обсуждался. Борис Николаевич в разговорах уже после моей второй отставки пару-тройку раз упоминал о целесообразности моего возврата, но неконкретно. Я отвечал, что в правительстве, возглавляемом Виктором Степановичем, я вряд ли буду полезен.
– А Виктор Степанович как премьер не обсуждался?
– Он весной 1997 года висел на тонком волоске. Тут ключевую роль сыграл Чубайс. Толя в тот момент мог стать премьером. Но он считал, что Черномырдин во время президентской кампании вел себя порядочно и поэтому подсиживать его неприлично.
– А у тебя отношения с Черномырдиным не задались с самого начала?
– Да нет, не могу сказать, что не задались. У меня с ним были приличные отношения в то время, когда он работал под моим началом, вполне спокойные. Он вел себя порядочно, в премьеры не лез. Был такой момент, когда стало ясно, что у меня есть серьезный шанс вылететь из кресла, и был набор людей, которые начали суетиться. А Черномырдин – нет. Он вел себя достойно.
– Вообще-то у меня опыт общения с Черномырдиным тоже скорее позитивный. Он вполне нормальный мужик.
– Да. Единственный момент, когда мне с ним было очень тяжело, когда и его и меня поставили в очень сложное положение, – это конец 93-го – начало 94-го года, когда я, почти официальный его преемник на этом посту, работал его первым замом. Это никому бы не понравилось. Это было время, когда отношения между нами были напряженными.
– И когда он против тебя восстанавливал аппарат.
– Да, а до этого и после у меня с ним были приличные отношения.
– Но вернемся к «окончательной» отставке в конце 1995 года. Вот это ощущение, когда вдруг замолчали телефоны…
– Естественно, они замолчали… Это всегда чувствуешь…
– И люди не кидаются в зале, чтобы пожать руку.
– Интересно, что даже если тебя не назначили на важную должность, но известно, что тебя слушают и ты влиятелен, ты приходишь на какое-то мероприятие в Кремль, вокруг тебя выстраивается толпа директоров, губернаторов и так далее, которые здороваются и говорят: «Какое счастье! Как мы вас давно не видели!» А на следующий день конъюнктура поменялась, и ты заходишь и видишь, как народ от тебя шарахается, чтобы, не дай Бог, не оказаться на расстоянии ближе семи метров… И хорошо, если бы это было один раз…
– А сколько столетий это уже продолжается!
– Обычно такая перемена происходит один, ну два раза в жизни. Со мной это происходило раз восемь. Это начинаешь воспринимать как веселый спектакль.
БЕСЕДА ВТОРАЯ. О МОРАЛИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПОЛИТИКЕ
– Давай поговорим с тобой о морали и эффективности в политике. Заранее предупреждаю, что я буду тебя провоцировать, намеренно неполиткорректно обострять, короче – вести себя как прожженный журналюга.
– Что ж, давай обостряй. Мораль и эффективность в политике?.. На мой взгляд, в подавляющем большинстве случаев моральные политики неэффективны.
– Я понимаю, что ты имеешь в виду. А все-таки нет примеров высокоморальных политиков, которые тем не менее оказались эффективными? Ну, первое, что приходит в голову, – папа римский Иоанн Павел II.
– Да, Иоанн Павел II моральный человек. Но я не могу относиться к нему как к политику, это другая сфера. Его же не избирает народ…
– То есть политику, которого не избирает народ, быть моральным легче?
– Это так. Это странно, но боюсь, что соответствует истине.
– То есть моральных политиков нужно искать среди царей, диктаторов?
– Да, а почему нет? Я думаю, что Александр II был человеком, не лишенным нравственного начала.
– Особенно по отношению к своей первой жене.
– Это бывает и не имеет отношения к его политическим качествам.
– Как сказать. Кстати говоря, очень высокоморальным человеком в личном плане был Александр III. Он воевал однажды на Балканском фронте во время освободительного, так называемого, похода его отца, и после этого Россия не воевала вообще. Он так наелся всей этой окопной правды…
– Да, скорее всего. Но при нем были прерваны реформы его отца, которые потом были продолжены лишь через много лет спустя Столыпиным. И за эти годы были упущены возможности и преимущества, которые Россия могла получить, а она их не использовала.
Он был высокоморальным, но не эффективным. Это тот случай, о котором я говорил вначале. Все, что мы получили в ХХ веке: революцию, Гражданскую войну, сталинский геноцид, – это плата за те десятилетия топтания на месте.
– Ну да, у него была так называемая теория малых дел. То есть Александр III – это был первый политик застоя и стабильности в России.
– Да, совершенно точно.
– А Рузвельт?
– Это вопрос сложный. Я недостаточно хорошо знаю его личную историю.
– Предположим, что она безупречна.
– Хотелось бы так думать, потому что Рузвельт производит впечатление морального политика.
– Он был, как бы это помягче выразиться, прагматичным политиком. Чего стоит одно его заигрывание с Джозефом Кеннеди, про которого говорили, что он был связан с ирландской мафией, всегда связанной с итальянской…
– Да? Я поэтому и не решаюсь сказать, что он был высокоморальным политиком. С трудом себе представляю, как устроены эффективные высокоморальные политики. Мне они не встречались.
– Да. Но я все-таки нашел кое-кого. Например, Маргарет Тэтчер.
– Ну что ж, интересно… Она действительно была эффективна, практически никогда не врала, пыталась проводить политику, в которую верила, пришла к власти не путем явных интриг, по крайней мере то, о чем мы можем знать… Да, согласен, Маргарет Тэтчер.
– То есть получается, наоборот, по-настоящему эффективные политики всегда высокоморальны? Но тогда что такое эффективность? Вот от Маргарет Тэтчер нет ощущения, что она прямо такая победительница. Ну сделала свое дело и ушла.
А вот у Рейгана есть имидж: он развалил Советский Союз. Но вот что получается: развалил-то он его в том числе и с помощью исламских фундаменталистов, «Талибана», Бен-Ладена, «Аль-Каиды», путем создания проблемы религиозного терроризма. И весь этот нынешний исламский ренессанс делался в 80-е, на американские деньги.
И если Советский Союз – империя зла, чудовищный тоталитарный режим, подчиняющий себе и другие государства, ужасная, неэффективная и угрожающая мировой экологии экономика – да, все это было, но с ними можно было договариваться, с теми же Брежневым, Андроповым. Они были готовы договариваться и потом эти договоренности соблюдали. Был какой-то диалог, и в этом мире можно было жить.
Но сейчас с кем договариваться – непонятно, люди, которые принимают решения, неуловимы и прячутся, с ними невозможно разговаривать, они не держат обещаний и по-настоящему не управляют бандами вооруженных террористов. Нападение может случиться в любой момент в метро, в гастрономе, на работе – бомба, отравляющие вещества, все, что угодно.
Это хорошая замена «империи зла»? И эти люди – победители? Эти люди – эффективные политики?
– Тем не менее мы можем назвать Рейгана эффективным политиком. Он хотел, чтобы не было коммунистического режима, и к этому пришел; он хотел, чтобы это было сделано скорее, и это произошло. Я знаю людей, которые его не любили, но в целом он для меня – пример эффективного политика.
– Так как все-таки: не бывает высокоморальных политиков, которые были бы эффективными?
– Думаю, что есть ситуации, в которых моральная политика выигрывает. Но это исключение. Извини, но я считаю себя человеком нравственным.
– Но ты же сам говоришь, что в политике не очень…
– Как электоральный политик я равен абсолютному нулю.
– А хочешь, я скажу не очень, может быть, приятную для тебя вещь: то, что ты делал в начале девяностых, не политика. И поэтому говорить о твоей эффективности как политика бессмысленно.
– Да, конечно. Просто я выполнял политические роли в особый, переломный момент – и сделал то, что должен был сделать.
– Это не политика, потому что ты не стремился к власти. Потому что если бы ты к ней стремился, то, как Черномырдин, давал команды аппарату кого-то не согласовывать. Знал бы, что если кто-то может тебя подсидеть, то ты его без сожаления из правительства выгонишь. А ты с Черномырдиным спокойно сидел и работал. Когда было возможно получение от Ельцина полного премьерского кресла, ты этого не делал; когда можно было «нажать» на Ельцина, не «нажимал»… Ты не политик. Одна, кстати, есть претензия к правительству молодых реформаторов любого розлива: хоть первого, хоть второго, в которое мы оба входили, хоть третьего, – мы никогда не стремились получить полную власть.
– Это правда. В правительстве молодых реформаторов было одно исключение – Боря Немцов. Он-то политик и хотел власти. На нашем фоне он смотрелся иначе. Он был другим.
– Это была большая ошибка – не стремиться к полной власти. Но я всегда отвечаю: «А Ельцин бы ее не отдал». Я эту интонацию, обстановку 1996–1997 годов, чувствую лучше тебя, потому что я был там внутри. А ты уже был немножко снаружи. Тогда уже у молодых реформаторов не было такого влияния на Ельцина, которое было в 1991–1993 годах. Ельцин тогда уже был полностью под влиянием Тани, которая, в свою очередь, была очарована Борисом Абрамовичем и Владимиром Александровичем. А они говорили, что у нас тут этих Чубайсов вилами не перекидать и мы сейчас будем рулить.
Борис Абрамович в прямом эфире говорил, что правительство должно слушать крупный капитал, но на самом деле имел в виду только одного себя. Получалось, что «крупный капитал» – это был синоним себя любимого.
И самое поразительное, что сейчас силовики пытаются присвоить себе лавры победы над Гусинским и Березовским, в то время как тогда, когда эти два красавца гуляли по буфетам и пинком открывали двери к Борису Николаевичу, они все их слушались и не боролись с ними совершенно. Как раз вот эти самые безвластные Чубайс, Кох и прочие боролись, а силовики Березе и Гусю на нас компромат таскали.
– Вы подняли «вооруженное восстание», и вам показали, кто хозяин в доме. Вот видишь: Гусинский и Березовский были не очень высокоморальными, но зато эффективными!
– И Ельцин нас тогда не поддержал – более того, сделал все, что от него хотели эти орлы. И, дав им медийный ресурс, он потом стал им фактически прислуживать. И как это, по-твоему, называется? Применительно к Ельцину? «Отказ от морали во имя эффективной политики» или «во имя безопасности, личной власти и спокойной старости я готов пожертвовать кем угодно»?
Как же так случилось, что два человека, совершенно даром, без какого-либо права, без объяснения причин получили главные телевизионные каналы страны, да так, что вдруг, неожиданно, стали этой страной управлять как хотели?! И это говорят про харизматичного, любой ценой цепляющегося за власть, продающего за это всех близких, даже самых кровных братьев, политика? Политика, который предал всех своих друзей и соратников для того, чтоб отдать власть Владимиру Александровичу и Борису Абрамовичу.
Вот Путину можно многое простить за то, что он этих двух архаровцев укоротил. У него этот отказ от морали во имя эффективной политики хотя бы чем-то иллюстрируется.
– У меня ощущение, что я знаю двух Борисов Николаевичей Ельциных. Первый прекратил свое существование 4 октября 1993 года. Я его хорошо знаю, с ним работал. Был еще один человек, который тоже называется Борис Николаевич Ельцин. Но он совсем другой.
Да чтобы Ельцин, Борис Николаевич, образца 1992 года, стал слушать Березовского с Гусинским! Это даже не смешно.
– Но именно тот, «ранний» Борис Николаевич, поставил рулить пиаром либеральных экономических реформ, а следовательно, и телевидением, некоего Полторанина, а потом Миронова…
– Ну, Миронов – это было уже позже.
– А Полторанин? Хрен редьки не слаще.
– Полторанин, конечно, не слаще, но для Бориса Николаевича он был политически близок.
– Но он же был неэффективен. Он не организовал никакого пиара реформам! Скорее наоборот!
– Тогда, конечно, нет, но когда он придумывал для Ельцина текст, якобы произнесенный на пленуме… Кстати, довольно забавная история! Это пленум октября 1987 года, на котором выступал Ельцин, на котором его снимали с должности первого секретаря Московского горкома партии за то, что он противопоставил себя партии. А противопоставление выражалось в том, что он поставил вопрос о своей отставке, потому что не согласен с проводимым курсом. Он тогда произнес речь, достаточно сумбурную. В том виде, как это было произнесено, распространить ее было нельзя, она бы никого не заинтересовала. Ну подумаешь, снимают кого-то с поста первого секретаря – человек он еще не слишком известный, потерялся бы на этом фоне.
А Полторанин тогда написал все про Раису Максимовну, про привилегии, – все, что народу хотелось услышать. Так и пустили по рукам. В этом смысле для того времени он был человеком поразительно эффективным. Ельцин просто не понял, что время радикально изменилось.
Послушай, я же не говорю, что в 1991–1993 годах Борис Николаевич был идеальным человеком, который не пил и не курил, – не курил, кстати, он никогда. Нет, это был сложный человек, с капризами, сложный в работе, склонный принимать неожиданные решения, никого не слушать. В наших разговорах с ним он иногда доходил до полного кипения.
Помню, на совещании, после того как отраслевики долго вешали ему лапшу на уши, он встает и говорит: «А мы сделаем вот так». Я отвечаю, что это, к сожалению, невозможно, что я не могу с этим согласиться. Когда мы выходим, он говорит: «Что вы себе позволяете, к тому же на людях?» Я отвечаю: «Хорошо, понимаю, давайте мы это сделаем. Я сейчас напишу заявление об отставке. Пусть за это отвечает кто-то другой». Вопрос удалось снять.
Я не говорю о том, что до осени 1993 года Борис Николаевич напоминал рыцаря без страха и упрека, но это был один человек, а после 1993 года – уже другой. И тогда начало происходить то, о чем ты говоришь.
– А это что – ослабление воли, старость? Или у него произошел нравственный надлом?
– Да, какой-то надрыв. И нравственный, и моральный, и физический.
– И вот тогда выпивка начала мешать работе?
– Да, даже когда я уходил в 1994-м, это не было для меня неожиданностью.
– Как ты думаешь, этот надрыв случился после путча?
– Да, думаю, после событий 3–4 октября 1994 года. Хотя в жизни такой процесс всегда растянут во времени.
– Из-за чеченской войны?
– Да нет, война – это потом уже. Понимаешь, приближенные чиновники и аппарат морочили ему голову. У него было ощущение безумной усталости, и на этом начали играть в стиле: «Ну что вы беспокоитесь, не царское это дело! Сейчас придет такой-то, например Сосковец, и все разрулит. Было бы что-то важное. А мы с вами пока поработаем с документами».
– Я это понимаю, но тем не менее как он мог позволить уничтожить команду Чубайса и не дать нам защитить себя, даже самим Чубайсу, Немцову… Это же была единственная его опора! Министр внутренних дел Куликов не был его сторонником, Генеральный прокурор Скуратов – тоже, все эти фээсбэшники – грош им всем цена! Особенно тем, которые остались после Коржакова и не были лично преданы Ельцину, и не были ему лично обязаны. Может, после встречи с Гусинским и Березовским ему показалось, что у него появилась новая команда, более эффективная…
– Хуже знаю его отношение к Чубайсу в поздний период, но в то время, когда я с ними работал, когда больше встречался, в начале 90-х, он к Чубайсу относился холодно. Ко мне он относился чисто по-человечески тепло, хотя мы могли и ругаться, а к Чубайсу – отстраненно.
– Да дело тут не в тепле. Он же привлек Чубайса к предвыборной кампании 96-го года, когда земля под ногами загорелась. Когда и Коржаков и Сосковец не придумали ничего лучше, как снова распустить парламент!
– Да, конечно. Лишиться Чубайса, его команды – это было очень необдуманное решение, которое дорого стоило стране, потому что дефолт – результат этого. Но я думаю, что в личностном плане он к Чубайсу относился настороженно.
– Но тем не менее он решился на это. Может быть, ему казалось тогда, что у него появился новый Чубайс?
– Знаешь, Ельцина ведь недаром называют непредсказуемым. Например, все были убеждены, что он никогда не сдаст Коржакова. Даже Борис Абрамович был убежден в этом. Я собственными ушами слышал, как за полгода до снятия Коржакова, Барсукова и Сосковца он говорил, что даже если Коржаков расстреляет сто человек у Кремлевской стены, то и тогда Ельцин его не снимет.
Думаю, что решение о снятии этих троих ему действительно далось тяжело, а ведь этот вопрос был ключевым. Наверное, тогда к нему вернулось что-то из его старых бойцовских качеств, он понял, что речь идет о приобретении или потере власти, что вопрос стоит так: или он вместе с Коржаковым становится банальным диктатором, опирающимся на штыки и спецслужбы, или у него есть реальный шанс стать настоящим президентом. И когда вопрос встал так, то он наплевал на Коржакова.
– Но тогда зачем же он отказался от власти? Значит, получается так: я так люблю власть, что ради нее продам даже человека, который мне несколько раз жизнь спас, но потом, буквально через несколько месяцев, я эту власть настолько разлюблю, что отдам ее какому-то торговцу «Жигулями»?
А вот еще по поводу «сдачи». Персоналии можно перечислять бесконечно, но есть ключевая группа людей, очень разных, но сыгравших в его жизни очень большую роль. Наиболее яркий представитель одной группы – это Александр Коржаков, а представитель другой – Анатолий Чубайс. Эти две группы людей очень не ладили между собой, но они имели большое значение в жизни Ельцина. Являясь представителем одной из групп, я тем не менее понимаю, что нельзя, например, недооценивать роль Коржакова в подавлении путча 1993 года. Она была важной, позитивной и так далее. Трудно переоценить его роль и в августе 1991 года, когда он защищал Ельцина фактически своим телом.
Они были настоящие друзья, кровные братья, вместе водку пили, в теннис играли и так далее. Он его сдал. Хотя было множество способов сделать это более деликатно, не так громогласно и не так безвозвратно.
Лишить человека власти, сохранив при этом с ним нормальные дружеские отношения, можно, тем более что полномочия службы безопасности президента достаточно ограничены и Ельцин сам распустил Коржакова, де-факто наделив неограниченными правами. Вернуть же его в реальность было очень несложно. Ельцин этого не сделал. Он громогласно, публично и унизительно отставил Коржакова.
Возьмем Чубайса и его команду. Он всех уволил, хотя то, что сделал Чубайс для Ельцина… Без него он не был бы второй раз президентом, здесь даже обсуждать нечего.
Есть точка зрения, что он это делал ради России, ради которой никакие жертвы не бессмысленны. А есть другая точка зрения – личная власть, и только. По крайней мере личная власть и безопасность его и его семьи – это его безусловный приоритет, и поэтому все остальные люди – мусор, которым можно пользоваться для достижения этой цели. И кстати, последний его экзерсис с преемником идет в ту же копилку, потому что, в конце концов, он продал еще и дело, которое так долго делал. Какая из этих точек зрения тебе ближе?








