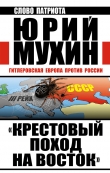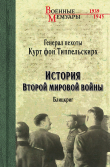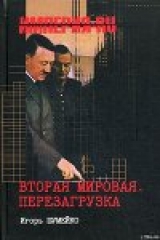
Текст книги "Вторая мировая. Перезагрузка"
Автор книги: Игорь Шумейко
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Если не жалко 35 рублей, у метро найдите «Ледокол» и – убедитесь. А лучше загляните в Интернет.
А нашим историкам я бы посоветовал обратить внимание: Резун действительно неутомимо роется в военных архивах, чутко находит факты, оказавшиеся вне поля зрения многих, и ловко преподносит их. Надо признать, что он, Резун, образно говоря, привел на поля бывших сражений Второй мировой целую новую армию читателей. Но его «исторические» книги – не конкуренты серьезным работам того же Исаева. Он в ряду Коэльо, Дэна Брауна, Донцовой, Корецкого, Толкиена. То есть, когда человек выбирает почитать: про бандитов-алхимиков-проституток-артистов – или «про войну».
Значит, нужна просто другая модель использования Резуна. Например, человек выпускает свинью на трюфельное поле, свинья сначала ищет, потом отрывает трюфели, но на этом ее «сотрудничество» заканчивается. Человек находит другое применение трюфелю, отличное от желаний его хрюкающего «сотрудника».
К появлению в Европе нового Большого Врага мы если и причастны (неудачными инструкциями немецким коммунистам), то это как бы на философском уровне «взаимосвязанности всего сущего» и примерно в той же мере, в какой причастны Польша, Мексика, Мальта, Тибет, Гваделупа…
«Приход Гитлера» – это ведь три шага, примерно равные по значению:
1) победа НСДАП на парламентских выборах,
2) назначение президентом Гинденбургом 30 января 1933 года Гитлера канцлером,
3) смерть Гинденбурга 2 августа 1934 года и предшествовавшее несколькими днями решение, что в случае этой смерти президентом станет канцлер.
А потом уже Гитлер провел еще одну государственную рокировку: сохраняя пост канцлера, присвоил себе звание фюрера, а пост рейхспрезидента отменил. И ввел положение, что все без исключения армейские офицеры обязаны были присягать на верность, но уже не конституции, а фюреру, то есть лично Адольфу Гитлеру.
Теперь вернемся к этим трем шагам наверх.
1) На парламентских выборах, действительно, Гитлеру помогло нежелание социалистов и коммунистов объединиться. Резун тут долго мусолит фамилию коммуниста Реммеле, про которого наконец выясняется только, что «он был ярый поклонник Сталина». Кошмарное разоблачение. Но ведь и по всей Европе социалисты очень трудно и редко сходились с коммунистами. Уж так они задуманы, и «Интернационалы-то» у них разные (Второй и Третий).
2) Нельзя забывать, что канцлера-то все равно назначал президент Гинденбург – иногда сообразуясь с парламентскими раскладами, а иногда и нет. Только 1932 году он, Гинденбург, 28 марта назначил канцлером Генриха Брюнинга, сформировавшего правительство и 30 мая ушедшего в отставку (по требованию Гинденбурга, в дальнейшем для краткости будем писать: «уволен Гинденбургом.)
3) Далее, 1 июня канцлером назначен Франц фон Папен – уволен 17 ноября. Далее, 3 декабря назначен фон Шлейхер – уволен 30 января 1933 года. Далее, назначен Гитлер.
Гинденбург был абсолютной и непререкаемой фигурой в Германии, а почему он ей стал? Вот вам пример на уровне «взаимосвязи всего сущего»: Гинденбурга таким, м-м… «квази-кайзером» (да простится мне этот термин) действительно сделали русские, потому что дали себя разбить под Танненбергом. Эта победа Гинденбурга в 1914 году (причем практически на месте исторического Грюнвальда, где за 500 лет до того тевтоны были разгромлены польско-литовско-русским войском) спасла Германию и дала ему такой авторитет и славу, что… Но если разматывать дальше, то и Гинденбург победил потому, что русские не отмобилизовавшись и в нарушение всех планов бросили вперед и в одиночку армии Ренненкампфа и Самсонова – по страстным французским мольбам, спасая Париж и отчасти спася его (немцы перебросили в Восточную Пруссию войска, которых им не хватило для реализации Плана Шлиффена)… Вот они, истинные силовые линии взаимосвязей в мировой истории.
НО, даже только чтобы вообразить фельдмаршала старой школы, величественного прусака Гинденбурга, советующегося со Сталиным по назначению своих канцлеров, это… это надо отступить на тысячу лет, наново переписать и переврать всю мировую историю, всю хронологию, позвать Фоменко с Носовским – и то такого, пожалуй, не представишь.
Вот чем Гитлер принципиально отличался от всех трех предыдущих канцлеров 1932 года, так это наличием у него своей собственной армии, даже двух: отряды СА Эрнста Рема (это практически полностью своя гвардия), и отряды «Стального шлема» (ветераны рейхсвера, «хозяин» – Альфред Гугенберг, капиталист, один из богатейших людей Германии).
Особенность политической жизни Германии тех лет: многие партии имели свои полубоевые отряды. И коммунисты, и даже социалисты (да-да, у них были «зеленорубашечники»). Такой вот был, говоря по-современному, «дресс-код»… Кстати, и известная фраза Гитлера «Кто хозяин на улице – тот хозяин в Германии» – это именно о той «романтике» уличных потасовок, срывах чужих и охране своих митингов. Так вот, Хозяином на улице Гитлер стал, когда к его «коричневорубашечникам», СА, мультимиллионер Гугенберг согласился присоединить своих «стальношлемовцев». Это произошло примерно в те же дни, когда экс-канцлер Папен вместе с Тиссеном, Круппом просили Гинденбурга за Гитлера.
Коммунисты (даже если их признать на 100 % сталинцами) стояли дальше всех от этих комбинаций, более того, были мишенью и главной жертвой договаривавшихся в приемной Гинденбурга сторон.
Книга «Повседневная жизнь Берлина при Гитлере», автор – Жан Марабини, хороша именно свой «недиссертационностью». В ней нет сквозной теории, но есть несколько сотен микросвидетельств политиков и «маленьких людей», дипломатов и корреспондентов западных газет в Германии. Автор словно гулял с диктофоном по улицам Берлина тридцатых годов. И он свидетельствует: в 1932 году даже немецкие евреи(!) больше боялись коммунистов, чем Гитлера, (немецкие евреи были на 90 % люди состоятельные).
Пример настоящей, признанной историками всего мира помощи Гитлеру – это его фактическое спасение «мюнхенцами» в момент самой реальной угрозы потери власти…
Военное сотрудничество СССР и Германии (еще один резуновский пункт)? Но это как раз 20-е годы. С приходом Гитлера интенсивность совместных работ снизилась. После «пакта», конечно, наоборот, значительно выросла, но это уже другое, это маневр, на который имеет право Взявшийся за Большую Войну, реальные составляющие которой на тот момент были: и Испания, и Хасан, и Халхин-Гол.
Честно сказать, за предыдущие две страницы книги мне несколько неловко. Неловко излагать столь банальные истины. Но все же в завершение, для тех, допустим, кто на этот момент прочитал только… Резуна и Дэна Брауна. И такой осведомленный историк, как Черчилль, писавший свои воспоминания в период самого жестокого противостояния с СССР, нигде и ни разу не обвинил Сталина в том, что Гитлер пришел к власти.
Повторю, что в самом широком смысле на положение в Германии влиял не только СССР, но и Греция, Тибет, Мексика, Гондурас, Мальта… Весь мир… И… Швеция, тихая Швеция.
Обычно о шведско-гитлеровских связях повторяют одно: шведская железная руда. Да, руда из Кируны была основой германской металлургии. Немцы, так обожавшие эпитет «стальной», сталь – по происхождению – имели шведскую. И если каким-нибудь «меченым атомом» проследить тот сложный путь, окажется, что осколки и пули, которые еще носят в себе ветераны войны в России, Британии, США, раньше лежали под горой… далеко-далеко, на самом севере Швеции.
Можно сказать: продавали руду, бизнес есть бизнес. Можно сказать, и что откупились бесперебойными поставками от возможного вторжения Гитлера. План такой у фюрера был – разработки того же генерала Фалькенхорста, покорителя Норвегии и Дании. И не реализовался он, возможно, по причине «неискания добра от добра». Сейчас руда идет – тьфу-тьфу! – а в случае… возможны и диверсии Сопротивления, и бомбежки англичан. Если глянете на карту, выход из Кируны – одна тонкая нитка единственной железной дороги. Это не густая сеть дорог Германии, которые, сколько их ни бомби, работали до мая 1945 года. Кируну можно было отрезать одним авианалетом. Но шведский «нейтралитет» оказался самой лучшей противовоздушной обороной путей снабжения рейха.
А если перейти от мира вещественного, материального (пусть даже и такого любимого фашистами материала, как сталь), то окажется, что и в мире идей Швеция была связана с Германией.
Великий путешественник, ученый и писатель Свен Андерс Гедин – один из главных кумиров Гитлера. Человек при, том действительно благородный, он желал мира Европе и, как многие, считал истинным миротворцем фюрера. Открыто повторял, что сам он на четверть еврей. Кроме того, был большим другом России. (И тут Резун мог бы «по-ледокольному» разоблачить: СССР и Гитлер «дружили через Гедина… и наверняка… сговаривались»). Рейхсканцлер во все годы был рад подолгу беседовать со шведом. Именно Свен Гедин открывал Олимпийские игры 1936 года в Берлине.
Герман Геринг впервые в своей жизни увидел свастику в Швеции в замке фон Розенов. Первый в Европе институт расовой биологии был открыт в 1921 году, в «шведском Оксфорде», Упсале, и это был проект правящей тогда социал-демократической партии. Еще из шведских аналогов или даже предвосхищений, предшествия подобных мер в Германии – общий учет евреев Швеции. Но списки те не потребовались… Выходит, руда, железная руда спасла шведских евреев… Да, вот вам еще пример «взаимосвязи и взаимовлияния всего сущего». В Швеции были созданы и отряды «Северной молодежи» – «Нордиск унгдум», и тоже ранее, чем гитлерюгенд. В «Северной молодежи», кстати, маршировал и Ингвар Кампрад, впоследствии – основатель всемирной сети ИКЕА (Есть идея!).
По подсчетам журналиста Боссе Шона, 500 шведских добровольцев воевало в СС, в дивизиях «Викинг» и «Норланд». Рядовые там получали 311 крон в месяц, сержанты 563 крон, капитан 1200. Средний заработок тогда в Швеции был 270 крон. Один из этих шведских эсэсовцев был даже свидетелем на свадьбе Адольфа Гитлера и Евы Браун. И, завершая марьяжной темой, вспомним и Геринга, встретившего в Швеции «любовь жизни» Карину фон Кантцов…
Это – Швеция. Ее можно бы записать, в современных терминах, в «ассоциированные члены» Объединенной (Гитлером) Европы. Может, кому-то и покажется, что факты ее соучастия в «фашистском проекте» как-то смонтированы, сведены для преувеличения, «выпячивания» ее, шведской, доли вины и ответственности. Нет, повторюсь, весь смысл этой книги в указании как раз на сходство ситуаций во всех (кроме Британии и СССР) странах Европы, и на полное сходство принятых ими решений. «Мы ценим и бережем свою материальную культуру. Мы – не фанатики. Кто-то другой должен будет пожертвовать своей недвижимостью и нас освободить».
Так что примите как доказательство «от противного»: автор не намерен «выпятить соучастие» тихой, тихой Швеции, чтоб за этим «раздутым примером» не спряталась… какая-нибудь «тихая, тихая Голландия»… А вот, кстати, пример и «голландского соучастия», подвернувшийся совершенно случайно, без какого-либо целенаправленного «поиска улик».
Одна из тяжелейших воздушных битв 1944 года на Балтике. Немецкая авиация, базируясь главным образом на Котку (Финляндия), держит наш флот в Финском заливе запертым, как в бутылке. (Вообще, нейтрализация значительных военно-морских сил исключительно авиацией – одно из главных немецких «ноу-хау» той войны.) Наши летчики долго пытаются прорвать эту блокаду, в длительных авиасражениях выявляется и главный оплот, прикрываюший базы люфтваффе – крейсер ПВО «Ниобе». 7 наших авиаполков, 132 самолета были брошены в решающий бой. В итоге «Ниобе» был все же потоплен, люфтваффе отброшено от Финского залива. Два наших летчика получили в тот день «Героя Советского Союза». И в финале драматичного описания наш автор мельком упоминает, что тот знаменитый «Ниобе» – это бывший голландский крейсер «Гельдерланд»…
И сколько таких примеров реального соучастия «Объединенной Европы» можно наверняка отыскать в анналах Второй мировой войны!
Голландская история войны упоминает о попытках обороняться, перечеркнутых «жестокой бомбардировкой Роттердама». Встречается и фраза «…но силы оказались слишком неравны», что в сочетании с тем фактом, что Гитлер, атакуя Бельгию с Францией, выделил на Голландию только 16 000 солдат, оставляет, конечно, интересное впечатление.
Справедливости ради надо сказать, подытоживая тему «влияния», что Резун по ней еще не высказался до конца. «Как Сталин создал Гитлера, как помог ему захватить власть и укрепиться – отдельная большая тема. Книгу на эту тему я готовлю», – пишет он. То есть будут и «еще цитаты». Правда обещание это он уже почти 15 лет как выполнить не может. Неужели кончились мексиканские высказывания Троцкого? Что тут посоветуешь? Вот разве… фильм недавно вышел – «Фрида». О знаменитой художнице, мексиканской революционерке, боевой подруге и любовнице Льва Троцкого – Фриде Кало. Если уж в раскрытии темы прихода Гитлера к власти стали так важны политические обозрения «Глядя из Мексики», подобно тому, как на ВВС – «Глядя из Лондона». Может, в фильме еще поискать подтверждающих цитат? Действие там происходит как раз в 1939–1940 годах, коей поры свидетельства Троцкого уже так успешно использованы в «Ледоколах». Может, и «Фрида Кало» что-нибудь добавит, типа: «Ах, если бы не Сталин, мой Левик был бы чисто второй Ленин! Второй Наполеон!» Фрида, как и Троцкий в ту пору, была «в самой гуще исторических, революционных событий», но, что еще более важно, Фрида Кало сегодня очень «раскрученная» личность (может, и поболее Троцкого), ее в фильме сама Сальма Хаек играет! (А мечтали ее сыграть, даже умоляли об этом режиссера фильма – Мадонна и Дженифер Лопес!) Для попсовой книжки это будет просто – в самую десятку, вам любой рекламщик и пиарщик это подтвердят. Когда на обложке будет: «Сенсационные новости о тайных причинах Второй мировой войны! Как говорила Фрида Кало, Троцкий говорил, что Сталин натравливал Гитлера!»
А предисловие к «Ледоколу» написал Буковский, если помните такого. Приравненный к Луису Корвалану во время одной бартерной операции, а далее совокупным западным пиаром еще и более приподнятый, до фантастических котировок, – уж он-то наверняка разъяснит Резуну всю важность «информационных поводов», важность любых привязок к громким именам, VIP-персонам. Хотя бы и в такой форме:
«Последние разоблачения Дженифер Лопес! Знаменитая мега-звезда утверждает: «Фрида Кало, чьи тайные дневники я прочла, собираясь сыграть ее роль в одноименном блокбастере, неопровержимо свидетельствует: Гитлер был всего лишь пешкой в коварных руках Сталина!»».
Два Вовы-историка (Буковский и Резун)
Некоторые главы моей книги дополняются портретами упоминаемых персон. И по мере приближения к финалу этой главы во мне нарастало некое тягостное чувство. Кажется, вот в чем тут дело. Долг историка, или, скажем, памфлетиста, требует доведения темы до предела. Опровергнув версию, которая мне кажется ложной, нужно вроде бы сказать и об авторах. Биографические и психологические предпосылки и все такое…
И вот, перебрав мысленно некоторые факты, аргументы, вдруг осознаешь совершенную безнадежность, невозможность ведения какого-либо спора, описания черт этих персон. (Зрительный образ этого усилия – вроде попытки сечения плеткой лужи какой-то жижи.) Понимаешь, что дело как раз именно в отсутствии персон. Перед тобой просто… говорящая (чавкающая) грязь… Объяснюсь, кстати, почему речь идет и об авторе «Ледокола», и об авторе предисловия к «Ледоколу». Кажется, вещи несравнимые, даже по объему. Но такое представление как раз идет от настоящих книг, с настоящими авторами, аргументами, настоящими темами для споров.
Здесь же полная безнадега в том, что все заслонено этими бесформенными и безразмерными (и бессмысленными) определениями: «диссидент», «жертва режима». И становится совершенно неважно, кто сам бежал, кого выменяли по бартеру, кто накатал книгу (1000 страниц), кто – лишь предисловие (5 страниц).
Но все же (придется) – окунемся… допустим, в Буковского.
«Смешно вспоминать теперь, но в те далекие годы антикоммунизм, да и просто негативное отношение к Советскому Союзу, были вроде дурной болезни в глазах западной интеллигенции, и честный бытописатель матерого социализма не мог рассчитывать не то что на признание своего таланта, а и просто на рецензию. Лишь немногим из нас удалось к тому времени пробить брешь в стене молчания.
Виктору же было еще труднее, чем нам. Ведь даже мне какая-то левая мразь в одном телевизионном споре осмелилась намекнуть, что, мол, «некоторые люди» могут расценить мои взгляды как «предательство своей страны». Но то было однажды, и мне, с моей биографией, легко было разделаться с той пакостью. Ему же с самого начала пришлось жить с этим бессмысленным клеймом…»
И переходя от «жалистного» к «логике»…
«… Победа революции в России была, по выражению Ленина, «меньше, чем полдела». Чтобы эта победа стала окончательной и бесповоротной, «мы должны добиться победы пролетарской революции во всех, или по крайней мере в нескольких основных странах капитала». Без их промышленного потенциала нечего было и думать о социализме. Отсюда и ленинский НЭП, и новая тактика «осады капиталистической цитадели», использования их противоречий для ускорения пришествия мировой революции, то бишь, начала мировой войны. Сталин в этом смысле был всего лишь верным учеником Маркса – Ленина».
Mory пояснить. Вся, абсолютно вся логическая цепочка Резуна сводится к следующему. Берется что-нибудь бесспорное, банальное, ну вроде: Si vis pacem – para beilum (хочешь мира – готовься к войне). И дальше ведется цепочка: Сталин готовился к войне? – Да, еще как! (далее – 130 страниц добротных, в общем, доказательств). «Так, значит, он и Гитлера поставил в канцлеры Германии – чтобы было с кем воевать!» (и об этом еще 5 страниц, тех самых, со «свежими» цитатами Троцкого 1939 года).
Так и Буковский: Сталин – верный ученик Маркса – Ленина? Да! А у Маркса есть тезис о неизбежности мировой революции? Да! А мировая революция – это ведь по сути мировая война? Верно. Ну так вот Сталин и…
Для таких силлогизмов действительно равно достаточно и 150 страниц, и двух абзацев. Но после этого Володям надо объяснить читателю, почему в настоящих книгах, настоящих историков (Черчилля, например), нет и следа подобной «логики на пальцах». Еще немного Буковского:
«Словом, понятно, что наши отечественные историки никак не могли признать изложенных в этой книге фактов, не признав природную агрессивность коммунизма и его ответственность в преступлении против человечества наравне с гитлеризмом. Но что же мешало западным историкам заметить столь очевидную истину?
Да ровно то же, что и их советским коллегам: конформизм. Ведь и здесь, на Западе, существуют могущественные политические силы, которые способны сделать глубоко несчастным любого умника, вылезшего с неугодными им откровениями. Признать, вслед за известным анекдотом, что Гитлер был всего лишь «мелкий тиран сталинской эпохи», здешний истеблишмент и сейчас еще не готов, а до недавнего времени автор такой теории был бы подвергнут остракизму как «фашист». Ни карьеру сделать, ни профессором стать, ни даже опубликовать книгу такой смельчак никогда бы не смог. Оттого-то и на Западе людей, решившихся открыто заявить себя антикоммунистами, нашлось не многим более, чем в бывшем СССР».
Вы только вообразите: «Черчилль – конформист!» В действительности трудно даже представить что-либо более несовместимое. (Вроде, м-м… «Колобок Резун перебежал не из ГРУ, а из балета Большого театра»). Самый талантливый, и уж конечно, безусловно, самый информированный летописец Черчилль был министром и до получения должности премьера в 1940 году. И, что существенно, пишет он свою историю не в момент дружбы-союза со Сталиным, между Тегераном и Ялтой, а в самый разгар холодной войны с СССР, объявленной отчасти им же. И даже близко Черчилль не считает Сталина (или немецких коммунистов) виновниками гитлеровского прихода к власти. Ах, ну тогда, значит, Черчилль – «конформист»!
И во всем у Буковского очень заметна логика человека, получившего должность в Кембридже именно «за сугубое диссидентство». Который хорошо понимает всю уязвимость своего положения: и «бартерная сделка: Корвалан – Буковский», и кембриджское его «кормление» – все лишь мельчайшие завитки большого исторического узора. Ну, подвернулся он случайной живой иллюстрацией к какому-то программному докладу о «… коммунистической угрозе и необходимости поддержки диссидентства»… но ведь все может в одну минуту поменяться… «Ведь и здесь, на Западе, существуют могущественные политические силы, которые способны сделать глубоко несчастным любого умника, вылезшего с неугодными им откровениями». Вот образ, выбранный для себя: умник, которого могут сделать глубоко несчастным, эдакий… Акакий Акакиевич Геббельс.
А другой Вова-историк, захламивший известную часть полок наших книжных ларьков, недавно, на своей примерно 15-й– 16-й книжке предпринял новый маркетинговый ход: «Я беру свои слова обратно!» Пришлось, я заглянул, прочитал несколько страниц – похоже, да: Резун следующие 10–15 книжек действительно продаст под соусом частичных самоопровержений. Перед маршалом Жуковым он уже извинился. Но вот по самой важной (на мой взгляд) теме его «ледокольных» натяжек: Гитлера на Сталина (а по сути – взваливания на СССР ответственности за Вторую мировую войну) – тут самоопровержений нет… А вообще, это забавно: новый Иуда не вешается, а лишь старательно прибавляет к тридцати еще и 31-й – 35-й сребреники – за свои «Воспоминания о Гефисиманском саде». А потом еще и 36-й – 40-й сребреники – за «Поправки к Воспоминаниям о… Я беру свои слова обратно!»
И в эту плоскость с неизбежностью, по закону растекания полужидкой субстанции, перейдет любой разговор. Потому и закончим с «вовчиками-историками». И перейдем к историку – из самонастоящих.