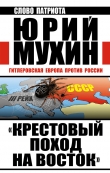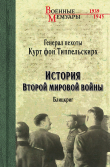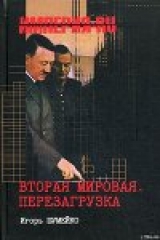
Текст книги "Вторая мировая. Перезагрузка"
Автор книги: Игорь Шумейко
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
Глава 6
Направление главного удара – фон Клаузевиц
Да, именно он, бывший полковник Русской армии, вернувшийся в прусскую в 1814 году и написавший книгу «О войне», Карл Клаузевиц.
Абсолютно всем известен его афоризм из той книжки:
«Война есть продолжение политики другими средствами».
Клаузевица почитал и Ленин (именно в ленинском пересказе тот афоризм был известен на территории «одной шестой»), и Муссолини, назвавший перевод «О войне» на итальянский «… великой, подлинно фашистской книгой». (В Италии до 1943 года «фашистский» значило, разумеется, не ругательство, а наоборот).
Мною же взамен Клаузевицу предлагается историк Брюс Кэттон, написавший: «Отличительная особенность современной войны в том, что она сама берет на себя командование. Единожды начавшись, она настоятельно требует доведения до конца и по ходу действия инициирует события, оказывающиеся неподвластными человеку. Делая, как им кажется, лишь то, что необходимо для победы, люди, не замечая того, меняют саму почву, питающую корни общества».
Только то, что мы выше называли Большой Войной, у Кэттона – «Современная война». Пусть так, но вы же не можете не признать, что весь пафос Кэттона именно в том, что война – это конец политики.
Да, в общем, об этом же писал и Энгельс, чья репутация, может, и подмочена дружбой-сотрудничеством с другим бородатым теоретиком, дававшим экономические прогнозы, сбывавшиеся с «точностью до наоборот». Фридрих Энгельс, однако, имел свой независимый международный авторитет военного ученого. Статьи ему заказывала и Американская энциклопедия. И вот что он предвидел еще в 1887 году:
«Для Пруссии-Германии уже невозможна никакая война, кроме всемирной…это была бы война невиданного ранее масштаба… 8—10 миллионов солдат будут душить друг друга и объедать при этом Европу до такой степени… крах старых государств и их рутинной мудрости… короны дюжинами валяются по мостовым, и не находится никого, чтобы поднять их».
Что, и это – «продолжение политики»? Согласитесь, что «крах их рутинной мудрости» – это явно о старых, довоенных политических планах.
Кстати, война (Первая мировая) России с Германией продолжалась и в 1917-м. Это что: «продолжение» царской политики – уже отрекшегося, арестованного царя?… Война продолжалась и даже в 1918 году – это что: продолжение «буржуазно-временной» политики разбежавшегося Временного правительства и переодетого в женское платье Керенского?
Проигравшими в Первой мировой считали себя абсолютно все – это был крах всего мира Bell Epoqe («Прекрасная Эпоха» – устойчивое обозначение двух примерно десятилетий до Первой мировой войны. Прогресс, Конгрессы…).
И даже замечание Троцкого: «Современные войны ведутся не тем оружием, которое имеется у воюющих стран накануне войны, а тем, какое они создают в процессе самой войны», – как-то косвенно говорит примерно о том же. Современная война – это всегда новая реальность.
Теперь оборотимся к анекдоту, приведенному мной в «Мюнхенской главе» этой книги, где описывается, как…
Собрались как-то в Мюнхене англичанин, француз, немец и итальянец… и немец сразу же объявил, что его войска войдут в Судеты – вне всякой зависимости от переговоров. И тогда англичанин, француз, немец и итальянец подписали договор, что действительно «пускай входит». А чешские представители Массарик и Местный (фамилия) ждали, действительно – в прихожей. А еще немец и англичанин, там же, в Мюнхене (раз уж приехали!) подписали отдельный договор, который некоторые въедливые историки называют «фактическим Германо-Британским пактом о ненападении»…
Известно, что за три дня до того, как герои мюнхенского анекдота собрались, один из них – немец, получил от американца (Рузвельта-президента) письмо с одной очень интересной фразой, которая, в общем-то, к Мюнхену отношения не имела, но была все-таки очень важной фразой, которую мы рассмотрим в главе «Право большой войны».
Так вот, писал Рузвельт-президент Гитлеру-фюреру тогда дословно следующее:»… Социальная структура каждой вовлеченной в войну страны может рухнуть». Мудрый был человек. Так о чем же это он: о «продолжении» или о Конце политики?
Но, может, истины здесь вообще нет, и прав другой гений – Мао Цзэдун, выпустивший в обращение знаменитые лозунги: «Винтовка рождает власть» (это скорее на нашу с Кэттоном мельницу), а потом, так же легко, и «Партия управляет винтовкой»?..
На кого более всего мне не хотелось бы походить в этой главе, так это на авторов книг, а чаще брошюрок (наверняка вам попадались), где «на пальцах» опровергается теория относительности Эйнштейна, законы Ньютона или вообще вся мировая история, хронология и т. д.
Я, разумеется, не возьмусь здесь, на 10 печатных листах, опровергать книгу «О войне» Клаузевица. Я просто констатирую, что кроме Клаузевица есть еще теоретики, и предложу вам на выбор самые конечные выводы их теорий (при условии, конечно, добросовестного цитирования).
По Клаузевицу, война играет подчиненную по отношению к политике роль, и только политика определяет цели, которые преследует та или иная война, масштаб войны, объем прилагаемых усилий и пр. Тем самым отношениям придается чисто иерархический характер, когда политике отводится роль вышестоящего по иерархии управляющего элемента, определяющего и направляющего ход боевых действий и военной кампании в целом.
Вот Клаузевиц дословно: «может возникнуть мысль, что политика может выдвигать перед войной требования, которые она не в состоянии выполнить; но данная гипотеза бросает вызов естественному и неизбежному предположению, что политика знает инструмент, который намерена использовать».
А вот, например Джон Киган (John Keegan): «… для многих обществ война обеспечивает больше религиозные, культурные функции, нежели чисто политические». Понятие культуры при этом определяется как «разделяемые верования, ценности, ассоциации, мифы, табу, императивы, обычаи, традиции, предания и стиль мышления, речь и художественная выразительность, придающие устойчивость любому обществу».
Вспомните тут роль Великой Отечественной в нашем сознании, в воспитании поколений!
По оценке Кигана, утверждение Клаузевица, «о войне как о продолжении… и т. д.» – «неполное, узкое и предельно непоследовательное».
Рассел Уигли (Russell Weigley): «политика имеет тенденцию становиться инструментом войны… война, начавшись, всегда имеет тенденцию генерировать собственную политику, создавать свой собственный моментум (инерцию), делать устаревшими политические цели, во имя которых она была начата, выдвигая свои политические цели… динамика военного конфликта, особенно когда она имеет тенденции перехода к тотальным формам, диктует свои ограничения и подчиняет себе политику».
«Тотальные формы» – это ведь назван еще один из синонимов, или одно из измерений того, что я условно называю «Большой Войной». «Тотальная», «современная» (у Энгельса и Троцкого), народная, отечественная (у нас), мировая (у всех).
А еще: «Великая мировая» – так, если заглянуть в периодику той эпохи, долго, примерно с 1915-го– и до 194! года называли Первую мировую. Пока наконец не поняли, что и уже идущая Вторая – тоже мировая война.
Мартин ван Кревельд (Martin van Creveld): «Если исходить из того, что война является продолжением политики, то надо признать, что война является рациональным расширением воли государства, то есть мы имеем дело не с чем иным, как банальным и бессмысленным клише. Более того, если война есть выражение воли государства, это означает, что она не затрагивает другие, иррациональные аспекты и мотивы, влияющие на войну». Согласно Кревельду, Клаузевиц описывает, каковой должна быть природа войны, но никак не реальную ее природу.
Но пока не поступало никаких подтверждений в пользу клаузевицкого постулата в виде ударов молний, гласа с небес («Сего слушайте, в нем истина пребывает!»), мы с вами вольны выбирать. Правда, вряд ли перечисленные Джон Киган, Рассел Уигли, Мартин ван Кревельд или Брюс Кэттон (упомянутый в начале главы) так уж известны, а наш Карл – это Имя, это брэнд, который раскручивали, пиарили два века, в том числе Гитлер и Муссолини с Лениным.
Да-да, и Гитлер, в последний день, в бункере, в своем политическом завещании его помянул (хотя, может, и совсем не к месту):
«… Этим я из глубины моего сердца выражаю благодарность всем вам, как единственное свое желание, чтобы вы, несмотря ни на что, не захотели отказаться от борьбы, но и дальше продолжали ее против врагов отечества, неважно где, верные убеждению великого Клаузевица».
В защиту Клаузевица Питер Парет (Peter Paret) пишет: «… происходит отрыв от исторического контекста, в котором была написана работа, и Клаузевиц выглядит «фрагментарным и противоречивым в своих поисках в силу неразвитости нашего исторического сознания».
Вот именно это добротное описание – «каковой должна быть природа войны» – разве вам не напоминает знаменитое толстовское описание предаустерлицкого военного совета?
Вейротер диктует пространную и гениальную диспозицию: «Дер эрсте колонне маршрирен… цвайтише колонне маршрирен…» – и Наполеон гарантированно уничтожается. Тут следует чье-то робкое замечание, что одно только выдвижение французов вперед на Праценовские высоты сразу же изменит исход битвы – ровно на противоположный. Вейротер изумленно смотрит на дилетанта: «Нет, такого выдвижения не предполагается».
Мишель Гендель (Michael Handel) и еще целый сонм ученых утверждают: «… изменились не наши интерпретации, а сама природа войны… наши трудности в понимании Клаузевица связаны с тем, что мы живем в реальности, которая качественно отличается от той, в которой жил и работал он».
Что и говорить, в «реальности, в которой жил» Клаузевиц, не было СС, газовых камер, печей и всего прочего. Однако фактически, он, Клаузевиц, ведь тоже участвовал в Большой Войне, «Большой» – в смысле определения, предлагаемого в этой книге, в войне из тех, что сама берет на себя командование – и участвовал, подчеркнем, весьма достойно. Как офицеру Клаузевицу Россия может быть благодарна за один существенный эпизод. В 1812 году забитая, запуганная Пруссия была вынуждена выставить и подчинить Наполеону целый корпус, который воевал с нами на рижском направлении. И офицер российской службы Клаузевиц, вступив в переговоры с прусским корпусным командующим генералом Йорком, поспособствовал его переходу на нашу сторону (правда, случилось это в период… когда Наполеон уже давно держал в кармане яд, на случай плена)…
Но в манерах и нравах участников той Большой Войны (с Наполеоном), было еще много от влияния гуманистов, рыцарства… от того же Туго Гроция. И те элементы новизны, тотальности, что потом так разовьются в войнах XX века – их Клаузевиц не разглядел.
Но вот мы вспомнили Аустерлицкий военный совет и толстовский сарказм по поводу «Дер эрсте колонне маршрирен», и уже трудно заставить себя отложить взятую для сверки цитат «Войну и мир». А ведь на страницах гениального романа, между прочим, Клаузевиц и самолично появлялся. Правда, один раз и мигом, но что это за миг…
В ночь перед Бородинской битвой… Пьер Безухов подошел к князю Андрею Болконскому и только что хотел начать разговор, как по дороге недалеко от сарая застучали копыта трех лошадей, и, взглянув по этому направлению, князь Андрей узнал Вольцогена с Клаузевицем, сопутствуемых казаком. Они близко проехали, продолжая разговаривать, и Пьер с Андреем невольно услыхали следующие фразы:
– Война (Дер криг….) должна быть перенесена в пространство (им Раум). Это воззрение я не могу достаточно восхвалить, – говорил один.
– О да (О, йа…)
– О, йа…
– Да им Раум, – повторил, злобно фыркая носом, князь Андрей, когда те проехали. Им Раум-то у меня остался отец, и сын, и сестра в Лысых горах. Вот оно то, что я тебе говорил, – эти господа немцы завтра не выиграют сражение, а только нагадят, сколько их сил будет… Они всю Европу отдали ему и приехали нас учить…
– Так вы думаете, что завтрашнее сражение будет выиграно? – спросил Пьер.
– Да, да, – рассеяно сказал князь Андрей. – Одно, что я бы сделал, ежели бы имел власть, – начал он опять, – я не брал бы пленных. Что такое пленные? Это рыцарство… Ежели бы не было великодушничанья на войне, то мы бы шли только тогда, когда стоит того идти на верную смерть, как теперь… Тогда бы все эти вестфальцы и гессенцы, которых ведет Наполеон, не пошли бы за ним в Россию, и мы бы не ходили драться в Австрию и в Пруссию, сами не зная зачем. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни…
Просто трудно прервать пересказ… Кстати, и этот Вольцоген, процокавший вместе с Клаузевицем мимо Пьера и князя Андрея – это тоже подлинный, исторический персонаж. Вольцоген был адъютантом генерала Пфуля. А Пфуль был в 1812 году автор «русского плана» войны (Дрисский лагерь… и т. д.). А ранее он же был автор плана, закончившегося Йено-Аурштедским сражением и уничтожением Пруссии за две недели…
… глядя на Пфуля, князь Андрей вспоминал и генерала Вейротера и генерала Мака (сдавшегося под Ульмом в 1805 году и сильно «подставившего» русских)… и далее за князем Андреем вступает уже сам автор, Лев Николаевич, в том известном пассаже: кто и как самоуверен (англичанин, француз, итальянец).
«… Немец самоуверен хуже всех, и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина. Таков, очевидно, был Пфуль».
И если, после всего сказанного, требуются еще пояснения: с чего это сегодня автор ополчился на покойного Клузевица, суммирую.
Именно сегодня правозащитники и все делающие ставку на политкорректность в Совете Европы, ПАСЕ, Голливуде формируют стереотипы, оформляют претензии, пестуют поколения. Если нет, не было Большой Войны со своим правом, а была так… «война – продолжение политики» (а в их сознании и «война – продолжение политкорректности»), то Россия всегда будет виноватой, объектом претензий (зачастую и официальных, финансовых претензий). Самый кричащий пример: Литва недавно определилась с суммой финансовых претензий к России «за оккупацию». Сдающая Гитлеру города, Литва, с которой можно было бы поступить и как с флотом в Мерс-эль-Кебире, но только – в Большой Войне. Которая (Большая Война) – не есть, никак не может быть – «продолжение политики».
«Большая Война» в небольшом королевстве
Судить читателям, но я для иллюстрации главного теоретического положения своей книги примеры выбираю скорее по принципу оригинальности и занимательности. Возможно, есть и какие-нибудь таблицы, диаграммы, также подтверждающие, что «война – не есть продолжение политики другими средствами». Но мне кажется, что в сфере таких не строго определенных понятий, как «война» и «политика», составление любой цепочки формальных доказательств может вылиться в бесконечный спор о терминах. Поэтому один оригинальный и выразительный факт, мне кажется, будет убедительней. Поэтому… продолжим выковыривание изюма из булочек истории.
Собственно, следующий пример – одна короткая и яркая цитата, но требующая, к сожалению, не очень коротких и, скорей всего, не таких ярких моих пояснений.
Уинстон Черчилль в своей «Истории англоговорящих народов» (A history of the English-Speaking Peoples, 4 тома, NY 1956–1958) дает такое вступление к рассказу о Второй гражданской войне в Англии:
«Расклад сил во Вторую гражданскую войну был прост донельзя. Король, палата лордов и палата общин, лендлорды и торговцы, город и крестьянство, епископы и пресвитеры, шотландская армия и Британский флот – все выступили против армии «новой модели». И армия со всеми справилась».
Пояснения здесь требуются следующие. «Расклад сил» в Первую гражданскую войну (1642–1646) был, наоборот, чрезвычайно сложным. Можно сказать, около десяти различных субъектов воевали, заключали перемирия и переходили с одной стороны на другую. Весьма приблизительно было так:
Аристократия, крестьянство, англиканский епископат, Север и Запад страны были за короля. Средний класс, купечество, флот, Центр, Юг, Лондон – за парламент.
Ирландцы, шотландские пресвитериане меняли линию фронта.
Парламент, из одной стороны – «против короля» – раскололся, и сторон конфликта стало несколько.
И посреди этой сложной политической кутерьмы Кромвель (по приказу парламента) постепенно формировал армию «новой модели».
А когда парламентские (английские) пресвитериане провели закон о роспуске армии в 1648 году, армия новой модели не подчинилась, и… далее см. выше.
Вот она, логика «Большой войны». Шесть лет, с 1642 года, идет «политическая война». «Армия новой модели» и была тем самым, по Клаузевицу, «другим средством продолжения политики». Но однажды количественный рост ее (новой армии) мощи перешел в новое качество, и… война продолжила сама себя. Все политики, бывшие враги, все действующие лица Первой войны, собираются на одной стороне. На противоположной – бывшее «другое средство» одного из них. И… Черчилль, несомненно, чувствует этот парадокс, что и позволяет ему выстроить столь элегантную фразу.
Чье негодование и даже изумление мне так хорошо понятны – так это изумление и негодование героев нашей Революции и Гражданской войны где-то в начале тридцатых. Для краткости персонифицируем их, вообразим, например, Зиновьева.
Позади такие годы… ходил по пояс в крови, хватал и расстреливал тысячи заложников. Но и белогвардейцы тоже стояли в пяти километрах от Северной Трудовой Коммуны (так одно время назывался Санкт-Петербург), были в пяти минутах от поимки и вздергивания вождя Коминтерна…
И вот, наконец, тишина и мир… страна работает. Власть сохранена. Материальные блага теперь отпускаются пропорционально пережитым рискам… Из города Зиновьевска (бывший Елизаветград) к каждой славной дате шлют трудовые рапорты, приветствия и гостинцы… По уровню «либерализации» СССР 20-х годов примерно был равен России 90-х. Свободный въезд и выезд, иностранцы гуляют, валюта конвертируема – меняй и поезжай смотреть Европу. НЭП. В ВКП(б) – легальные платформы и фракции, обсуждение различных программ, почти в парламентских формах. «Совместные предприятия» с западными фирмами, концессии. Армия сокращена в 10 раз и переведена на предельно экономный территориально-милицейский принцип комплектования, потому как – полная Победа… Вроде пересидели… И вдруг, 5–7 лет спустя, как-то все снова… Какое-то «обостренье классовой борьбы», откуда-то взялись «вредители», опять расстрелы, и уже все чаше – расстрелы «победителей». Никакой логики!..
В России в «Первую гражданскую» расклад сил тоже был сложен: белые, красные, зеленые, атаманы, интервенты, эсеры, монархисты. В ВКП(б) – несколько группировок. «Силовики» сгруппированы вокруг трех центров: Штаб Рабоче-Крестьянской Красной армии, Реввоенсовет, ЧК. Красная армия в целом не стала главной новинкой, феноменом, ключом к Победе– подобно армиям Французской и Английской революций. (Чтобы долго тут не спорить, просто напомним: кромвелевская «новая модель» покорила Ирландию, французская – вообще полЕвропы, РККА – провалилась в Польше). Похоже, по целому ряду причин, главным феноменом, главным фактором Победы в нашей Первой гражданской стала не армия, а «полиция новой модели», ЧК. Хотя она и оставалась тогда лишь одной из силовых структур, под началом вполне лояльного Дзержинского.
Но вот наша Гражданская война тоже сама берет командование собою на себя. «Полиция новой модели» вдруг выскальзывает из рук двух безусловных политических руководителей страны с 1917 года: Председателя Совнаркома и Председателя Реввоенсовета, выбирает себе в вожди начальника третьестепенной структуры (Секретариата ЦК) – и доводит Гражданскую войну до логичного (тотального) конца…
Перефразируя Черчилля, можно сказать:
…Уцелевшие эсеры и меньшевики, троцкисты, рабочая оппозиция, децисты, профсоюзы, зиновьевцы, кулаки, военспецы, группы Рюмина и Рыкова, бухаринцы, Рабоче-Крестьянская Красная армия – все выступили против «Полиции новой модели».
И «Полиция» со всеми справилась.
Глава 7
Споры историков с Резуном
Общеизвестно, что сегодня в российской военной историографии главный спор идет вокруг идеи, «вброшенной» Суворовым-Резуном:
СССР планировал нападение на Германию, и Гитлер упредил Сталина буквально на 2 недели («суворовская» дата сталинского наступления – 6 июля 1941 года).
Язык Суворова-Резуна – яркий, эмоциональный, его аргументы часто найдены в местах, «куда ранее не ступала нога историка-популяризатора», изложены всегда понятно и вроде бы убедительно. Поддержка многих западных СМИ тоже на его стороне. Вот рецензия в предисловии к «Ледоколу»: «Мнение Виктора Суворова в области обороны становится общественным мнением. Он его формирует». «Интернэшнл дефенс ревью», Женева, сентябрь 1989 г.
Но настоящие историки, российские патриоты находят теперь и не менее убедительные контраргументы, доказывая, что СССР планировал оборонительную войну против Германии. Например, Алексей Исаев, Андрей Зорин, Олег Тишков оперируют серьезными фактами и не уступают Резуну в эмоциональной убедительности.
Не хочется становиться в позу фокусника, но я считаю (и постараюсь это доказать), что по одному вопросу, главному в этой книге, обе точки зрения в общем-то верные, и главное… вполне патриотичные. Да-да, жутко выговаривать, но у перебежчика, предателя, антисоветчика Резуна главный исторический тезис – отнюдь не антисоветский.
Механика этого фокуса проста. Возьмите два обсуждаемых варианта:
1. СССР планировал обороняться от Германии.
2. СССР планировал атаковать Германию,
Добавьте третий вариант (опробованный на тот момент всей Европой!):
3. СССР планировал перейти на сторону Германии.
Потом объедините первые два варианта (ибо что обороняться, что наступать-воевать), и у вас получится:
1. СССР планировал воевать с Германией.
2. СССР планировал перейти на сторону Германии.
Конечно, все прекрасно понимают, что о переходе по «чешской модели» («упреждающая капитуляция») речи быть не могло, но ведь моделей перехода на тот момент было опробовано достаточно: по факту перехода границы (Дания), по факту бомбежки (Нидерланды), по факту высадки воздушных десантов (Норвегия), по факту реальной угрозы столице (Франция), по факту отыскания общих геополитических целей (Финляндия, Венгрия, Румыния). Теперь допустим, что «тот самый пакт» – действительно пролог к переходу в гитлеровский лагерь (в чем зачастую и обвиняют СССР), а не к яростной борьбе…
Дилетантские запросы
А кто, собственно, прав, Резун или антирезунисты?
Но ведь любой генштаб обязан планировать, просчитывать, прорабатывать одновременно все стратегические варианты. И оборона в генштабах всех европейских держав рассматривалась, как временная, вынужденная, как подготовка к наступлению. Алексей Исаев в «Антисуворове» пишет:
«… за кадром (у Резуна) остался вопрос, у кого они были оборонительные? Все планы войны крупных держав – участников двух мировых войн двадцатого столетия были наступательными. Причем наступательный характер не зависел от того, кто явится инициатором войны. Для военного планирования это было абсолютно безразлично, планы вопрос очередности объявления войны не рассматривали.
Оборонительными были только планы мелких стран, основной линией планирования в этом случае была упорная оборона в надежде на то, что могущественные союзники сокрушат напавших на страну-карлик противников.
И если дилемма – воевать или перейти на сторону врага – решена как «воевать», – то ничего принципиально взаимоисключающего в наборах «атакующих» и «оборонительных» мер нет.
И главное! Согласитесь, что при такой постановке вопроса и резуновские, и антирезуновские аргументы по сути патриотические. Один нашел сто доказательств плана грозной атаки через Румынию и Венгрию на рейх. Другой нашел сто доказательств, что планировалось стоять насмерть на «Линии Сталина». Значит, в сумме найдено двести доказательств, что СССР не планировал передать свой потенциал Гитлеру!
… А вот возражения против реальности «варианта перехода на сторону Гитлера»… О, это такой противоречивый клубок истинно героического и невыносимо гнусного, что, право, долго подумаешь, прежде чем брать его в руки.
1. Аргумент историков, дипломатов: «Всегда, во всех коалициях, все государства-участники попугивали друг друга возможностью сепаратного мира». Разыгрывать карту угрозы сепаратного мира – это чаще элемент давления на союзников, и тут еще очень далеко до реализации подобного шага…
2. Возражение, допустим, ленинградца или сталинградца 1942 года: «Да это вообще невозможно – жить под гитлерюгой».
3. Аргумент «объединенного европейца» 1942-го (или 2002 года). «Ну, мы-то хоть и не германцы, но все же культурно более близки, экономически более интегрируемы и полезны. Вот Гитлер и нашел для нас работенку (потому и заводы-электростанции взрывать – ни-ни, иначе светят каменоломни в Тюрингии). А те – скифы, им грозит полное уничтожение, пускай и воюют насмерть».
Из этих трех, конечно, «приятнее» всего поговорить с третьим.
– Мсье (пан), ваши конструкторские бюро и заводы, конечно, прекрасны, «Рено» и «Шкода» – прекрасные машины, но в плане чисто теоретического сравнения потребностей вашего бывшего управляющего Адольфа, танки Т-34 были ему гораздо более интересной и нужной вещью. Захватывая их на поле боя (это случалось, да, и часто), немцы разбирали и пытались копировать их (безуспешно), давали воевать на них своим отборным экипажам. И уж конечно уральские заводы, их производящие, и Кировский (КВ-2), были бы для вашего Адольфа гораздо более желанными объектами. Не говоря уже про те безымянные «номерные» заводы – изготовители «катюш» и Ил-2.
А насчет расово-культурной близости как гарантии от освенцимов… Фюрер был вообще странной, фантастической личностью. Х-художник. Постичь расовый тип какого-либо народа можно, только увидев (тут он прав) его подлинных представителей: крестьян и крестьянских детей. Потому-то и впечатлениям венского калейдоскопа своей юности (завсегдатаи салонов, пивных, «меблирашек») Гитлер решающего значения не придавал. А повторял фразы вроде: «Эльзасский крестьянин – чрезвычайно расово чистое существо. Что думает, делает эльзасский крестьянин – необычайно важно». В Первую мировую Гитлер воевал на Западном фронте. Потому-то он и был так потрясен (не меньше, чем Сталинградом) впервые увидев под Винницей белоголовых русских детей. «Да они же большие арийцы, чем мы!» – подавленно признавался он соратникам. Правда (фюрер есть фюрер!), изучив этот вопрос со всей дотошностью, он все же нашел, что «… к 14 годам арийский тип все же сильнее проступает в немецких детях».
То есть «чемпионат по арийскости»: детская сборная России выиграла, а юношеская проиграла (при единоличном судействе фюрера). Так что причудливый ваш фюрер мог мгновенно и самым разительным образом изменить «рейтинг» любого европейского… контингента.
Впрочем, нет, было у него и одно неизгладимое «расовое впечатление», вынесенное из школы. В «Застольных беседах» он вспоминает: «В нашем классе маленькие чехи плакали – в день, когда пришло известие о падении Порт-Артура. А я – вот с тех пор и полюбил Японию!»
Занятный психологический этюдик. Паршивец, он еще и о России-то ничего не знал, но Японию полюбил – не как покорительницу Порт-Артура, а как наказательнииу «маленьких чехов», лупивших его в школе. И далее важный вывод – в протянутые уши окружающих его «застольных» генералов: «Чехи всегда будут надеяться на «матушку-Россию!»…
Если бы!.. В 1938-м!
Дилетантские запросы
Но ведь Резун в «Ледоколе» пишет не только о сталинском плане атаки в 1941 году, но и…?
Да-да. Именно… Резун еще пишет, что Сталин чуть ли не сам усадил Гитлера в канцлерское кресло. А вот это уже – совершенно «особь статья». И «Ледокол», и все прочие военно-политические тексты Резуна определенно распадаются на две части, условно говоря, военную и политическую. Это не игра слов. Линия водораздела столь объективна, прослеживается даже в самой фактуре текста, словно под одним «лэйблом» пытались «спаять» совершенно несродные материалы: сталь и фанеру, например. «Военный» Резун, «душа пуста, мозг полон номерами дивизий», в обшем-то, вполне адекватен одной узкой теме – доказательству того, что Сталин в 1941 году планировал атаковать (или контратаковать?) Гитлера. Здесь он (Резун) неутомимый ткач, и его полотно, его собственная сеть доказательств прочны. Сотни, тысячи примеров, одни «его» склады яловых сапог на границе в 68-м и 41-м чего стоят! Здесь все его «номера дивизий в мозгу». А вот «политический» Резун, пытающийся взвалить на Сталина вину за приход Гитлера к власти – тут не плотная ткань, а пара гнилых ниток. Дико и смешно строить «доказательную базу» на цитате Троцкого: «Ах, если бы не было Сталина, не было Гитлера, не было гестапо!» Да даже если б это Резун-школьник писал реферат, его можно было бы пожурить: «Бывают цитаты-доказательства, а бывают цитаты – как бы вздохи».
Вот и самая кратчайшая цитата из начальника германского генштаба Гальдера: «… но континентальное мышление фюрера…» – это косвенное, совершенно нечаянное свидетельство. Это цитата-доказательство… Речь там шла о многих вариантах предлагаемых Гитлеру колоний, так сказать, «африканских и азиатских мюнхенских идеях». И Гальдер вздыхает, что континентальное мышление фюрера не позволяло ему всерьез даже рассматривать подобные предложения. Все мысли – о континенте, о Евразии, то есть о советских территориях. Войны на Западе – разве только необходимое обеспечение Главной войны – на Востоке…
Должен признаться: словечко «ах» в «базисную резуновскую цитату из Троцкого» я добавил сам, для довершения картины, но и так ясно, что это типа вздоха. Муж постылой жене: «Ах! Если бы не ты, я бы мог стать профессором, академиком!» И наоборот: «Ах, если бы не ты – я бы могла выйти замуж за… миллионера!» Даже этот довесок у Троцкого с первой попавшейся бытовой деталью: «… и гестапо бы не было!» – подтверждает психологический рисунок. Почему гестапо? не СС, не СД?… А это как: «… ах! ни тебя бы, ни твоих… грязных носков!»
Строить базу на таких эмоциональных «ах, если б» выгнанной в Мексику жены (или «политической проститутки», по другому известному определению) – это просто дурной тон. И вся резуновская политическая часть – это еще несколько таких же цитат Троцкого 1936, 1938 и 1939 годов. «Сталин окончательно развязал руки Гитлеру, как и его противникам, и подтолкнул Европу к войне» (ноябрь 1938). «СССР придвинется всей своей массой к границам Германии как раз в тот момент, когда Третий рейх будет вовлечен в борьбу за передел мира» (июнь 1939). И все эти «наисекретнейшие сведения», все эти «горячие репортажи» – с родины текилы, где сидит уже более десяти лет, как отставленный от дел, Троцкий.