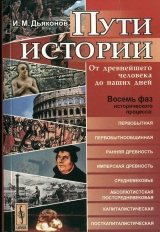
Текст книги "Пути истории"
Автор книги: Игорь Дьяконов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
Возникало региональное разделение ремесленного труда, появились мануфактуры, где могло быть занято до сотни рабочих (в Европе такое явление наблюдается лишь с XVI—XVII вв.). За счет ирригации были освоены новые сельскохозяйственные земли, введены новые сорта риса. Отрезанная на суше от внешнего мира враждебными государствами, Сунская империя успешно развивала мореплавание.
Система образования не полностью лишала возможности выдвигаться и талантливым людям из народа. Появляются ученые, энциклопедически образованные, поэты, историки, прозаики и художники – и не только мужчины, но в отдельных случаях и женщины (Ли Цинчжао, поэтесса и археолог). Возникали и частные академии.
Большую роль в идеологической жизни Китая играло учение Чжу Си, главного представителя неоконфуцианства (1130—1200). Он выдвигал учение о двух мировых принципах: начале порядка (ли) и начале материальной силы (ци). Оба начала соединяются в «великом первоначале». Хотя Чжу Си ставил вопрос о необходимости расширения знаний и свободе исследования, однако эти его мысли не получили развития. Позднейший Китай знакомится с конфуцианством именно в форме неоконфуцианства, и конфуцианское «Четверокнижие», явившееся, между прочим, главным предметом экзаменов на чин, было известно в том виде, как его отредактировал и прокомментировал Чжу Си.
Китайское национальное самосознание формировалось несколько иными путями, чем в Европе. Оно в какой-то мере вытекало из раннего конфуцианства и определялось, с одной стороны, общностью бытовой и этической культуры, опиравшейся для всех китайцев (даже тех, кто формально были даосами и буддистами) на конфуцианские начала, а с другой – представлением об обязательном совпадении границ китайской культуры с границами Китайской империи, которая претендовала на единственность – все остальные государства и народы считались подданными Китая и варварами, либо платящими дань, либо своевольно не платящими. Так или иначе, в Сунский период китайское (ханьское) национальное сознание, безусловно, уже укоренилось.
Монгольское владычество в Китае (1280—1368) приняло совершенно особую форму. После первоначального разорительного завоевания монгольская династия Юань включилась в жизнь страны. Период Юань явился поэтому как бы задержавшимся продолжением династии Сун. Расширяется сеть каналов и дорог, на дорогах устраиваются почтовые станции, государство покровительствует торговле, в том числе морской зарубежной, создается морской флот, с помощью которого совершаются нападения на соседние страны – от Кореи до Бирмы и Явы.
Начинается расцвет китайского театра, продолжается развитие прозы, а также точных наук, в частности математики и астрономии. Однако период временного расцвета общества сменяется периодом денежной инфляции и мятежей.
В 1368 г. к власти приходит Чжу Юаньчжан, освободитель Китая от монголов и основатель новой династии, Мин (1368—1644). Правитель он был жестокий, но ему удалось вернуть страну к процветанию. Он содействовал новому росту национального самосознания. Китайское мореплавание времени Минской династии по своему размаху напоминает эпоху Васко да Гамы и Колумба в Европе – китайские корабли посещают Южные моря, Цейлон, быть может Индийский океан. Торговля с другими странами, открытость внешнему миру способствуют развитию промышленности; опять появляются мануфактуры. Главным образом вследствие энергичной деятельности иезуита Маттео Риччи (в Китае с 1583 г.) христианство начало в некоторой степени проникать к китайцам; оно составляло здесь как бы недоношенный зародыш альтернативной идеологии [143]143
Иезуиты настаивали на совместимости христианства с этикой Конфуция и с конфуцианским почитанием предков, но обрели ожесточенных противников в доминиканцах и францисканцах; после длительнейших дискуссий папа Климент XI в 1715 г. издал буллу против позиции иезуитов и тем самым практически уничтожил шансы на сколько-нибудь значительное распространение христианства в Китае. Заметим, что написанные по-китайски сочинения Маттео Риччи оказали большое влияние на японское небуддистское и неконфуцианское религиозное мышление при создании в XVIII—XIX вв. новой идеологии, синтоизма, на базе державшихся архаичных верований, восходивших к третьей фазе исторического процесса.
[Закрыть]. Европейские католические миссионеры в это время познакомили Китай с новыми сельскохозяйственными культурами американского происхождения – кукурузой, бататом, арахисом, табаком.
Еще при династии Сун китайцы умели смешивать селитру, серу и уголь для создания взрывчатой смеси, при династии Юань появились гранаты и были сделаны первые попытки создать огнестрельное оружие. В XV в. минские корабли были уже вооружены пушками, хотя армию еще не окончательно перевели на ружейно-артиллерийское вооружение.
В целом можно сказать, что при Сунской и особенно Минской династии Китай вышел на постсредневековый уровень технологии и культуры. Однако, чтобы постсредневековье развивалось, необходимы были перемены в социальной психологии и идеологии, а также образование независимого класса буржуазии. В Китае не сложились условия для создания идеологии, альтернативной этике неоконфуцианства (хотя параллельно конфуцианским верованиям существовали буддизм и даоизм и даже христианство). Но главной в средневековой китайской идеологии традиционно была этика, а она и в постсредневековой фазе оставалась конфуцианской. Это содействовало подавляющему господству неоконфуцианской государственно-бюрократической системы, которая давала Китаю значительное число людей грамотных, но не самостоятельно мыслящих.
Все внешние достижения династии Мин нейтрализовались тем, что положение основной массы населения – крестьян не только не улучшалось, но и ухудшалось. Усилилась практика сгона крестьян с земли для введения новых культур или других выгод землевладельцев. Крестьяне ответили в XVII в. мощным восстанием, которое возглавил Ли Цзы-чэн. Повстанцам, поддержанным горожанами, удалось захватить Пекин. Последний минский император покончил с собой. В этих условиях китайские знатные землевладельцы призвали на помощь маньчжур.
Любой бунт имеет тенденцию приводить к власти не самые просвещенные силы.
Маньчжурское завоевание (1644—1674) явилось несомненным фактором задержки развития в Китае. Предки маньчжуров, чжурчжэни, долго находились на уровне первобытных охотников; к середине II тысячелетия н. э. они, видимо, в своей глубинной массе не ушли далее образования чифдомов. Они даже сохраняли шаманистские экстатические обряды, столь далекие от необходимой этому времени альтернативной идеологии. В любом случае по экономическому развитию они стояли намного ниже китайцев.
Второй император маньчжурской династии Цин – Канси (1661—1722) сравнивался с наиболее выдающимися государями фазы постсредневекового абсолютизма – Акбаром в Могольской Индии, Петром I в России и Людовиком XIV во Франции. Но бросаются в глаза и различия. Прежде всего, в отличие от монгольской династии Юань маньчжуры не сливались с китайцами, но всячески унижали их и подчеркивали их подчиненное положение: в знак этого всем китайцам приказано было выбривать часть головы и носить косу. Кроме того, играя на старой идее исключительности Китая, по отношению к которому все остальные государства – лишь его данники, маньчжуры герметически закрыли страну: не разрешались ни заморские плавания, ни приезд иностранцев (исключение делалось для иезуитской миссии; не случайно именно иезуиты очень содействовали идеализации «китай-щины» — chinoiserie – в Европе).
Но не одно лишь маньчжурское завоевание привело к торможению развития Китая и к задержке его в шестой фазе. Причины застоя коренились в особенностях уже минского общества и даже в ходе исторического процесса в Китае вообще. Если в Западной Европе оказавшаяся в шестой фазе интеллигенция смыкалась с буржуазными предпринимателями и результаты ее мыслительной деятельности шли на пользу капиталистическому производству, то в Китае интеллигенция проявляла себя в области подготовки к прохождению государственных экзаменов и затем вливалась в состав бюрократии (или уходила в буддистские монастыри – заповедники культуры). Побудительной силой любого бюрократического общества является импульс «ничего не надо делать». Предпринимательство в Китае было лишено всякой идеологической или социально-психологической основы; нагнетались внешние, декоративные функции власти. Приход же к этой власти маньчжуров лишил китайское предпринимательство не только всякого импульса, но и практических возможностей развития общества далее шестой фазы, хотя бы путем расширения внешнеторговых связей.
В начальный период маньчжурской династии продолжает развиваться литература. Хотя её создатели оглядывались на старину, нельзя не отметить нескольких блестящих мыслителей. В нашей стране хорошо известны под названием «Лисьи чары» замечательные ироничные и фантастические новеллы Пу Сунлина (1640—1716). Замечательны сатирический роман «Неофициальная история конфуцианского чиновничества» У Цзинцзы (1701—1754) и роман Цао Сюэцина (1715—1763) «Сон в Красном тереме». Развивается и драма. Но в 1772—1781 гг. император Цянь Лун, вознамерившись затмить всех своих предшественников составлением свода письменных памятников, приказал собрать из частных библиотек тысячи томов литературных произведений. Была проведена «унификация» письменной литературы: многие ее памятники были уничтожены или подверглись редакции; некоторые ученые были казнены.
С таким багажом, в состоянии не полностью развитого постсредневекового абсолютизма Китай встретил XIX век.
Перейдем теперь к самой восточной цивилизации Евразии – Японии.
В Японии начиная с XIV в. быстро умножается число торгово-ремесленных корпораций (дза) – процесс, соответствовавший происходившим в Италии или Центральной Европе в это же или немногим более позднее время. Множатся города – к XVI в. число их перевалило за полторы сотни. Между тем в сельских местностях происходит вытеснение мелких и средних владетелей (сёэн), и возникают княжества, возглавляемые наследственными даймё, контролировавшими не только земли, но и города. Самураи из самостоятельных хозяев превращаются в служилых людей у даймё. Никому из японцев от этих изменений не делалось лучше, социально-психологический дискомфорт резко возрастал.
В течение почти всего периода XV—XVI вв. в стране происходили крестьянские восстания.
В связи с развивающейся морской торговлей с Кореей и Китаем возникает спрос на металлы – золото, серебро и медь, горнорудная промышленность развивается во владениях даймё, что приводит не только к их обогащению и стремлению (довольно успешному) освободиться от верховенства сегунов, но и к скоплению на территориях даймё трудящегося – и недовольного – населения.
В 1542 г. в Японии появляются португальские, а в 1584 г. – испанские мореплаватели, которые организуют посредническую торговлю не только с Китаем, но и с отдаленными областями Юго-Восточной Азии. Начинается деятельность католических миссионеров, на первых порах имевших немалый успех.
На недовольство народных масс господствующий класс отвечает мерами по созданию единого, сильного японского государства. При полководцах-правителях, особенно при Хидэёси Тоётоми (1536—1598) не только жестоко подавлялись крестьянские волнения, но и урезывались вольности городов. В 1588 г. издается указ о разоружении крестьянских отрядов, а в 1595 г. – о прикреплении крестьян к земле (почти одновременно с тем, что происходило в России).
После смерти Хидэёси власть переходит в руки полководца Иэясу Токугавы. В 1603 г. он был объявлен сегуном и стал основателем новой династии, Токугава. Столица из Киото была перенесена в Эдо (ныне – Токио). Иэясу удалось уничтожить княжества даймё и создать централизованное абсолютистское государство [144]144
Уже в 1605 г. Иэясу сложил с себя звание сегуна, но фактически продолжал править страной до самой смерти в 1616 г. После него правили сегуны из его рода Токугава, по которым весь период 1603—1867 гг. называют «периодом Токугавы».
[Закрыть]. Даймё из князей превратились в областных администраторов под контролем сёгунского правительства. Все население было разделено на четыре сословия: крестьян, ремесленников, торговцев и самураев, причем последние селились в городах и получали от даймё довольствие рисом. Тем самым с независимым рыцарством было покончено. К этому времени Япония уже обладала артиллерией, хотя и очень несовершенной.
Принимались серьезные идеологические меры для замены феодального сознания (чувства принадлежности каждого к своему княжеству и земельному наделу) сознанием национальным. Зрела дискредитация сёгуната и идеализация ритуальной, общенародной фигуры императора – тэнно.
Таким образом, к концу XVII в. в Японии наблюдались уже некоторые признаки шестой фазы: огнестрельное оружие, «национальное» абсолютистское государство, нарождение буржуазии и наемных рабочих наряду со старыми сословиями. Произошел, таким образом, неполный переход в абсолютистскую постсредневековую фазу. Для полного перехода не хватало четкой альтернативной идеологии, но монополия официальной идеологии уже была частично подорвана христианским движением и проводившимися реформами учений конфуцианско-синтоистской этики: можно было уже постепенно «думать и иначе», хотя правительство пока ожесточенно сопротивлялось этому. Лишь переход в XIX в. в седьмую фазу окончательно снял противоречия ущербной шестой фазы.
Седьмая фаза
(капиталистическая)
Диагностические признаки седьмой фазы следующие: превращение естественных наук в производительную силу (изобретение паровой машины, железной дороги, парохода, затем двигателя внутреннего сгорания, электрического освещения, телеграфа, телефона и т.п.; внедрение науки в индустриальное производство и в сельское хозяйство); бурный рост вооружения в течение всего периода (усовершенствованное нарезное огнестрельное оружие, бездымный порох, дальнобойная артиллерия, бронированные корабли, сначала паровые, затем дизельные; изобретение самолета и танка, химического оружия); противостояние буржуазии и наемных рабочих как основных классов; возникновение интеллигенции [145]145
«Интеллигенция», несмотря на латинский облик, – слово русского происхождения (по-английски оно транскрибируется как intelligentsia ). Это люди, которые заняты не материальным производством, а творчеством, учением, лечением и познанием. Такие люди были в обществе всегда, например в составе дворянства, духовенства и т.д. Однако как определенный наследственный социальный слой, связанный служением нравственности и знанию, она создалась (во всяком случае, на первых порах) только в России. Западное соответствие интеллигенции — intellectuals – обычно не составляет единого социального слоя; это скорее одна из общественных функций: отец, братья, дети интеллектуала могут быть бизнесменами, фермерами и кем угодно. Однако интеллектуалы выполняют ту же социальную роль, что и русская интеллигенция, и для целей настоящей книги я применяю термин «интеллигенция» в более общем смысле, обозначая так все те слои населения, которые создают нематериальные ценности, учитывая, однако, что их создание сказывается на развитии материального производства и экономики.
Интеллигенция как социальная сила – порождение седьмой, капиталистической фазы. Однако роль ее не исчерпывается этой эпохой. Роль ее в переходе к восьмой фазе, с его научно обоснованными производственными и социальными мероприятиями, исключительно велика. И в восьмой фазе на ней лежит задача создания всего того, что материально облегчает жизнь ( gadgets , научные разработки). Кроме того, интеллигенция способствует превращению толпы в сознательные массы людей, а в восьмой фазе именно на ней лежит еще и обязанность сколь можно уберечь человечество от экологической катастрофы. Именно интеллигенция является главным носителем альтернативной идеологии, которая от седьмой привела к восьмой фазе.
[Закрыть]; тенденция (правда, еще слабая) к распаду крестьянства на те же классы предпринимателей и наемных рабочих; сохранение остатков прежних классов шестой и пятой фаз лишь на периферии общества; возросшее значение нерелигиозных идеологий, как оправдывающих и приемлющих существующий ход исторического прогресса (например, позитивизм), так уже и альтернативных (например, марксизм) – за счет ослабления традиционных религий, которые, однако, сохраняют свое официальное положение в государстве и в некоторой мере по-прежнему определяют черты национальных характеров; в государственном отношении – образование республик или очень ограниченных (конституционных) монархий; полный колониальный раздел регионов, не успевших достичь седьмой фазы, вооруженное соперничество обществ, ее достигших; создание колониальных империй и борьба за них; войны грандиозного масштаба с огромными разрушениями и людскими потерями.
Фаза капитализма впервые наступает в странах Западной Европы и в Северной Америке. Все остальные страны мира, кроме Японии, не успели дойти до седьмой фазы и в начале – середине XIX в. все еще находились в шестой, а то и в пятой фазе. Это означало не абсолютную отсталость этих обществ, а лишь небольшое в общеисторическом масштабе запаздывание, обусловленное более или менее случайными или второстепенными причинами: например, отсутствием благоприятных природных условий, как в Африке, или торможением вследствие завоеваний кочевниками, либо более поздним созданием альтернативных идеологий (на Ближнем и Среднем Востоке, в Китае, отчасти и в дореформенной России).
Еще до промышленного переворота – перехода от ручного к промышленному труду (что знаменует начало превращения науки в производительную силу и является непременным условием победы капиталистического строя) – в наиболее развитых странах происходят революции, которые создают условия для скорого наступления новой фазы исторического процесса. Первой была революция в Англии (1642—1649), историю которой мы уже излагали и которая привела не к установлению власти капиталистов, а к господству англиканской церкви (т. е. слегка реформированного католичества, независимого от римского папы) и – ненадолго – к более крайним формам протестантства, которые, впрочем, впоследствии вновь уступили ведущее место англиканству. (Лишь в Шотландии уже тогда утвердилась одна из реформированных христианских религий – кальвинизм.)
Выше я отмечал, что уже Английская революция, так же как Французская после нее и особенно Октябрьская в XX в., демонстрирует характерную для всех социальных революций модель развития: резкая смена общеобязательной идеологии ведет к развязыванию побуждения к агрессии, проявляющейся в междоусобном истреблении, с переходом власти ко все более радикальным группам и группкам, что кончается личной диктатурой.
Значение английской революции состоит прежде всего в том, что она сделала возможным появление альтернативных идеологий и тем самым косвенно способствовала развитию естественных наук и философии.
Такая важная опора существовавшего строя, как монополия католической церковной организации с ее богатыми монастырями, обширными церковными и монастырскими землями и абсолютной властью церковной иерархии, была сломлена еще до английской революции установившим свою абсолютную власть королем Генрихом VIII в первой половине XVI в. Окончательно английская буржуазия пришла к власти лишь в результате парламентской реформы 1832 г.
Своего рода революцией была и война за освобождение северо-американских колоний Англии и создание Соединенных Штатов (1775-1791). В США ведущую роль наряду с буржуазией северных штатов сыграли и плантаторы южных штатов, которые вели рабовладельческое хозяйство. «Декларация независимости» (1776 г.) и «Билль о правах» (1791 г.) легли в основу конституции США; в этих документах было провозглашено право всех людей на «жизнь, свободу и стремление к счастью», что и легло в основу лозунгов следующей, Французской революции (1789—1799).
Этапы Французской революции и наполеоновского периода излагались выше.
Из всех буржуазных переворотов именно Французская революция может считаться революцией в собственном смысле слова – единовременным социальным взрывом, сразу уничтожившим традиционные ценности и провозгласившим новые. Столь резко революционный характер переворота 1789 г. я склонен объяснять тем, что в других странах римско-католическое единомыслие было уже ранее подорвано укрепившимися альтернативными учениями реформации, а здесь революцию делали те, кто еще в юности должен был заниматься схоластическими (однако иногда со смертельным исходом) спорами о свободе воли и благодати. Вследствие наполеоновских завоеваний (хотя и оказавшихся эфемерными) идеи Французской революции распространились по всей Европе, в том числе и там, где шестая фаза не получила полного развития и буржуазия была слаба. Это, между прочим, указывает на то, что революционные идеи были не специфически буржуазными, а выражали общий социально-психологический дискомфорт.
Это не означало еще окончательного наступления капиталистической фазы исторического процесса. Европе предстояло еще пережить период докапиталистической абсолютистской реакции – господства в Европе «Священного Союза» монархов России, Австрии [146]146
Священная Римская империя германской нации прекратила свое существование в эпоху наполеоновских войн (в 1806 г.) и превратилась в Австрийскую империю, а с 1867 по 1918 г.– в Австро-Венгерскую империю. Венгерские земли, ранее в значительной степени удерживавшиеся турками, отошли к Габсбургам в конце XVII и начале XVIII в.
[Закрыть]и Пруссии, к которой примыкали Франция (Бурбоны) и Великобритания, – и подавления всех попыток новых революций [147]147
Внутри Германии были восстановлены мелкие герцогства, княжества и королевства, но наиболее мелкие из них были «медиатизованы», т. е. включены в какое-либо соседнее, более крупное королевство, с сохранением почестей для «медиатизованного» князя. Финляндия, отвоеванная в 1809 г. Россией у Швеции, была оставлена за Россией на условиях некоторого самоуправления; Норвегия была отдана Швеции на аналогичных условиях.
[Закрыть]. Лишь после парламентской реформы 1832 г. в Англии и половинчатой революции 1848 г. в Германии и Франции, после освободительной войны за объединение Италии на либеральных началах (окончилась победой в 1870 г.) и после реформ Александра II в России (1861—1864) капиталисты получают некоторую свободу рук и примерно к концу 1860-х годов приходят к власти в большей части Европы (но еще не в России, где власть стала переходить к буржуазии лишь после революции 1905 г., а затем Февральской революции 1917 г.). В США переломным моментом явилась война между северными штатами (уже капиталистическими) и южными, плантаторскими (1861—1865).
Совершенно независимо от Европы и Америки Япония переходит к капиталистической фазе в результате «революции Мэйдзи» в 1868 г. Была свергнута власть сёгунов и возвращена власть тэнно (императору). Начавшаяся как традиционная борьба между знатными родами, революция быстро превратилась в движение за национальное единство и овладение западной технологией (в первую очередь оружием). В этом движении участвовали нарождавшаяся буржуазия, рядовые самураи и даже крестьяне, и постепенно оно приняло все признаки буржуазного переворота. Были ликвидированы феодальные княжества, введена частная собственность на землю и организовано высшее образование по европейскому образцу. Шли споры о возможности перехода к парламентской системе; первый парламент с довольно ограниченными правами собрался лишь в 1890 г.
Несмотря на сохранение традиционной идеологии, буддизм потерял официальный статус. Государственной религией был признан синтоизм. Первоначально это было не что иное, как обычные традиционные культы, характерные еще для третьей фазы. Но, существуя в дальнейшем параллельно конфуцианству и буддизму (а позднее и христианству), синтоизм выработал собственные религиозно-философские основы: наряду с культом старинного верховного божества – богини Солнца был введен и культ тэнно как воплощения высших небесных сил. То обстоятельство, что это божество поселилось именно в Японии, должно было обозначать превосходство японцев и японских ценностей над всем человечеством вообще.
Технология, заимствованная из Европы, хорошо прививалась и развивалась в Японии, которая к началу XX в. стала могущественной капиталистической державой с сильной армией и едва ли не лучшим в мире флотом. Перестройка японского общества осталась мало замеченной в Европе и особенно в России, где о нем судили по путевым запискам И. А. Гончарова «Фрегат Паллада», относившимся к концу 1850-х годов.
Таким образом, седьмая, капиталистическая фаза исторического процесса установилась в широкой полосе от Атлантического до Тихого океана в середине XIX в. Эта фаза, отличавшаяся огромным ускорением технологического прогресса и оптимистической верой в его неограниченные возможности, оказалась и самой кратковременной. Она была ознаменована тяжелейшими войнами со все большими людскими потерями и все более разрушительными последствиями.
Возникавший в эту эпоху дискомфорт уже не облекался в религиозно-этические одеяния. Капиталисты испытывали дискомфорт потому, что нуждались во все новых источниках сырья и рынках сбыта, а также из-за возраставшей конкуренции с капитализмом других стран. Рабочий класс и примыкавшая к нему часть крестьянства ощущали дискомфорт от с трудом ограничиваемой капиталистической эксплуатации, а все население – от возраставших потерь в капиталистических войнах. Как и в эпоху средневековья, периодов мира не было; разница состояла лишь в том, что тогда кровопролитие происходило у всех на глазах, а теперь было отнесено в отдаленные края света. В метрополиях создавался слой населения, который войны никогда не видел и считал ее злом; армия больше, чем раньше, отстояла от населения в целом.
В то же время рост капиталистического производства в немалой мере стимулировался вывозом товаров в колонии. Мы уже видели, что голландские, испанские и португальские колонии сложились как общества не позже шестой фазы, но полный захват колоний – стран шестой, пятой и более ранних фаз – это характерная черта фазы седьмой, а отношения, складывавшиеся в это время между державами, сильно зависели от стремления к переделу колоний каждой державой в свою пользу. Вот тут-то и было поле для проявления социально-психологического импульса агрессии.
Как уже отмечалось, естественные науки в капиталистической фазе стали производительной силой. Но и некоторые гуманитарные науки пытались теперь влиять на исторический процесс. Толчок общественно-экономическим изменениям пытался дать марксизм, первоначально бывший одной из теорий капиталистических производственных отношений. «Капитал» Маркса был серьезной научной работой, но что это «не догма, а руководство к действию» – заблуждение: при всей глубине анализа и при всем том влиянии, которое было им оказано не только на общественные процессы эпохи капитализма, но и прямым образом на науку, это все-таки было «сочинение на заданную тему». Дело в том, что Маркс лишь с 1867 по 1880 г. писал «Капитал», который должен был привести к выводу об обреченности капиталистического строя и неизбежности перехода общества к коммунизму. Но сам вывод о том, что по капиталистической Европе «бродит призрак коммунизма» уже был заранее сделан Марксом и Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии» в 1849 г., т. е. задолго до начала научного труда Маркса (который и должен был доказать неизбежность победы этого призрака). «Манифест» был выпущен даже до окончательного укоренения капиталистической фазы в Европе.
После этого общего введения к истории капиталистической фазы перейдем к более подробному рассмотрению событий этой эпохи.
В Англии промышленный переворот в основном завершился в 1800-е годы. Буржуазия еще не вполне овладела государственной властью до парламентской реформы, тем не менее жизнь в стране уже с начала века определялась капиталистическим производством с такими его характерными чертами, как безудержная и бесчеловечная эксплуатация наемного труда, периодические кризисы перепроизводства и т.п.
Происходят первые выступления рабочего класса: бунты так называемых луддитов в 1811—1813 гг., сопровождавшиеся разрушением машин (парламент ответил введением смертной казни за их разрушение); в 1819 г. волнения в Манчестере, подавленные войсками (так называемое Питерлоо). Буржуазия, однако, чувствовала себя политически ущемленной: хотя страна имела парламент с двумя партиями – вигами и тори, но обе партии в основном отражали интересы землевладельцев (виги – отчасти и интересы финансовой буржуазии) [148]148
Одним из важнейших проповедников реформ с конца XVIII в. и по 1832 г. был экономист и юрист Дж. Бентам. Именно ему принадлежит формулировка цели всякого разумного законодательства как «наибольшего блага для наибольшего числа людей». Он отстаивал полное невмешательство государства в дела личности, и в частности в предпринимательство. Бентам был избран почетным гражданином Франции в 1792 г., но никогда и нигде не принимал участия в реальной законодательной деятельности.
[Закрыть].
Структура парламента (Палаты общин), исторически сложившаяся в XVI—XVII вв., совершенно не соответствовала реальным требованиям экономической и социальной жизни. Часть депутатов избиралась сельскими округами – графствами, но фактически землевладельцами из сельских местностей, причем малолюдное и отсталое графство Корнуолл имело вчетверо больше представителей, чем некоторые наиболее населенные и экономически развитые центральные графства. Часть депутатов выбиралась от городских округов (местечек — boroughs ). При этом было шесть различных типов boroughs , которые различались между собой по условиям их представительства. Иные полностью потеряли свое население, но от них продолжали выставляться депутаты в парламент, другие местечки были столь ничтожны, что избиратели полностью зависели от «местного помещика; в то же время выросшие в XVII—XVIII вв. крупные индустриальные города, такие, как Бирмингем или Манчестер, вообще не имели представителей в парламенте. Вопрос о его реформе остро стоял с 1780-х годов.
Наконец, виги внесли в парламент и в 1832 г. провели билль о реформе, который фактически означал переход власти в стране к буржуазии. Реформа, однако, удовлетворила население не полностью. Вскоре возникло движение рабочего класса – чартизм, которое выдвинуло в 1838 г. требование введения хартии избирательных прав, включавшей шесть пунктов: равные избирательные округа, всеобщее избирательное право, оплата депутатов парламента, отсутствие имущественных ограничений для избирателей и избираемых, тайное голосование и ежегодные заседания парламента. Чартизм с его всенародными петициями, манифестациями и угрозой забастовок не пережил 1848 г., однако в ходе истории все чартистские требования были в конце концов приняты.
Становление режима капиталистической экономики повсюду, и прежде всего именно в Англии, приводило к колониальной экспансии. Капиталу требовались новые рынки для производимых товаров, желательно с монополией на их продажу, расширение источников сырья и возможностей для капиталовложений. Технологическое превосходство Европы облегчило завоевание колоний в частях света, не достигших седьмой фазы.
Вся капиталистическая фаза являет картину прогрессирующего превращения отсталых частей Земного шара в колонии с более или менее бесправным населением, управляемым колонизаторами, – вплоть до полного раздела всех доступных территорий в начале XX в. Ясно, что в покоряемых странах назревал новый общественный дискомфорт, хотя он стал сказываться не в первых поколениях.
В некоторых случаях захваченные страны заселялись выходцами из метрополии. Американские колонии Англии, принадлежавшие к этому типу, отложились, создав Соединенные Штаты Америки; так же отложились от Испании и Португалии их колонии в Латинской Америке (но не в Африке). В дальнейшем Англия стала предвосхищать события, предоставляя колониям, заселенным англичанами, все возрастающую долю самостоятельности. В конце концов Австралия, Канада, Новая Зеландия, Южная Африка стали независимыми государствами, входящими в Британское Содружество наций.
Особо важную роль для Англии играла Индия.
Ост-Индская компания была создана еще королевой Елизаветой I и имела целью доставлять в Англию перец и другие пряности (они имели в прежнее время исключительное значение из-за отсутствия холодильников для мяса). Первая фактория в Сурате была основана в 1613 г., за ней последовали и другие. Остров Бомбей, перешедший к Англии как часть приданого португальской принцессы, жены Карла I, был также передан Ост-Индской компании. Ее стараниями на нем вырос город. Возникали все новые английские фактории как на западном, так и на восточном побережье Индии; в 1690 г. англичанами была построена Калькутта.
В 1702 г. была создана новая Объединенная Ост-Индская компания; до 1858 г. она осуществляла суверенитет над все большей частью индийских территорий, включая Бенгалию, Бихар, Ориссу и другие области. Первоначально владения англичан находились формально в вассальной зависимости от династии Великих Моголов, но затем зависимость прекратилась.
Владения Ост-Индской компании продолжали расти и в XIX в. В 1828 г. на принадлежавшей ей территории было запрещено сати (самосожжение вдов по индуистскому обычаю), в 1843 г. – рабство, но в целом англичане считали нужным только поддерживать законный (по местным понятиям) порядок и взимать налоги, не вмешиваясь в социальные отношения.
Экспансия Англии в зоне Индийского океана привела к столкновению с Китаем. С 1799 г. китайское правительство запретило разведение опиумного мака и импорт опиума. Англичане сочли это нарушением права свободной торговли, и в 1839—1842 гг. между Англией и Китаем разгорелась «первая опиумная война». Китай и позже настаивал на запрещении опиума, но в результате «второй опиумной войны» 1858 г. был вынужден это запрещение отменить.
В 1857—1858 гг. происходило восстание, индийских солдат Ост-Индской компании (сипаев). Оно было направлено прежде всего против тех (немногих, в общем) нововведений, которые индийцы рассматривали как европеизацию и нарушение индуистских ценностей. Непосредственной же причиной послужило использование нового ружья с патронами в «картузах», которые должны были надкусывать солдаты, когда заряжали ружье. Между тем патроны смазывались говяжьим или свиным жиром и тем самым были табу как для индусов, которые считают корову священным животным, так и для мусульман, которым запрещено употреблять свинину в пищу.







