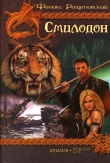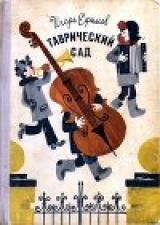
Текст книги "Таврический сад"
Автор книги: Игорь Ефимов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
СНИМАТЬ ВСЮ ЖИЗНЬ
На экране ясно были видны стоящие и идущие ноги, и перед ними прямо из земли вырывался огонь.
– Ну, это я знаю кто, – сказал Глеб. – Это Бурлыгин. Ему нравится, когда горит. Он и сам вечно что-нибудь жжет.
– Ага, чудак какой-то – зажжет спичку и смотрит. Поджигатель.
– Не надо было ему и пленку давать – зря только испортил, – сказал Басманцев.
Они сидели в кабинете физики и на маленьком экранчике просматривали уже готовые кадры. Дина Борисовна записывала в тетрадку, что снято на каждом куске, чтобы потом все собрать и обдумать, можно ли склеить из них фильм. Пока это казалось совершенно невозможным – такие разные вещи нравились ученикам 6-го «б» класса. На одной пленке, например, были сняты поливальные машины, на другой – звери в зоопарке и орел с расставленными лапами, будто в штанишках; на третьей – какой-то неизвестный старик с морщинками на лбу. У него были такие замечательные морщины, и он так ловко ими двигал, что получались отдельные буквы и даже некоторые слова. На многих пленках было вообще не понять что – метались какие-то смутные тени, и по всему экрану вспыхивали белые пятна. Четыре человека сняли саму Дину Борисовну: в школьном коридоре, на улице, в музее и даже около ее института, рядом с бородатым студентом. На ней было накинуто пальто, а студент шел рядом, держась за пустой рукав, прижимал его к груди и что-то говорил, близко смеясь и заглядывая ей в лицо. Глебу стало неловко смотреть на них вот так вместе со всеми и в то же время хотелось, чтобы показали и дальше, когда они начнут целоваться и откидывать волосы с лица друг друга, как это всегда показывают в настоящем кино. В темноте нельзя было понять, сердится Дина Борисовна или смеется, или просто вспоминает, где они так ходили и что он ей говорил в тот раз.
– А это еще что такое? – спросила она, когда появились перевернутые деревья. Они были очень хорошо сняты: можно было рассмотреть даже почки и капельки воды на ветках – очень красивые деревья, только перевернутые вверх ногами.
– Это, наверно, Толян, – сказал Глеб. – Я так и думал, что он все сделает назло. Но зато здорово снято – лучше всех.
– Кому же это назло? – спросила Дина Борисовна. – Неужели мне? За что?
– Да нет, не вам, конечно. Это он всегда такой – что-нибудь назло. «Я, – говорит, – страшно зол, не пойму только, на кого. Вот когда пойму, тогда уж я ему, – говорит, – покажу, а пока это все так, шуточки».
Дина Борисовна включила свет и прочла названия всех кусков, которые были сняты.
– Ну и наснимали, – сказал Басманцев. – Как же мы все это склеим? Может, по алфавиту?
– Нет, давайте так, – сказала Дина Борисовна, – будто кто-то ходит по городу – и вот что он видит.
– А кто?
– Пуговица, – сказал Косминский. – У пуговицы четыре глаза, и она все видит.
– Какая еще пуговица?
– На пальто. Я сегодня пришивал на пальто новую пуговицу и подумал: «Вот новая пуговица; еще ничего на свете не видала, то-то удивится на улице».
– Да-да, – сказала Дина Борисовна. – Пуговица смотрела-смотрела, и было столько впечатлений, что она чуть не оторвалась к концу дня и еле висела на одной нитке.
– Тогда и деревья опрокинутые можно. Будто пуговицу повертели, и она увидела все вверх ногами.
Начать решили с пустых утренних трамваев, которые снял со своего балкона Дергачев; и потом поливалки на улице, и школа – все отлично приклеивалось одно к другому. Глеб обрадовался этому, наверно, больше всех – ему до сих пор казалось, что опять у них все сорвется и, главное, у Дины Борисовны, а теперь он был так рад и горд – будто он сам придумал такой замечательный сюжет.
– Какой фильм получится – просто прелесть, – зажмурясь, сказала Дина Борисовна. – Только бы успеть, а то времени у нас всего ничего.
Глебу дали резать пленку, Косминский писал названия и прицеплял их к каждому кусочку, а Басманцев все склеивал в таком порядке, как говорила Дина Борисовна. Пока они работали, пришел еще Дергачев и попросился помогать, но ему не дали.
– Дина Борисовна, – сказал он. – Вот я прочел эту книгу. Спасибо.
– Ну что, понравилось тебе?
– Да, очень понравилось. Я ее за три дня прочел – не мог оторваться. Так интересно, и переживаешь здорово, а кого нужно убить – непонятно. Все вроде хорошие.
– Вот видишь, вот видишь, – сказала Дина Борисовна.
– Да, вижу. Только я еще хотел вам сказать – можно?
– Ну конечно, давай. Выкладывай все свои мысли.
– Нет, я уже не мысли. Можно я пересниму свою пленку? Мне сегодня одна вещь больше понравилась – я хочу теперь ее снять вместо трамваев.
– Ну вот, – воскликнула Дина Борисовна, – я так и знала, что кто-нибудь передумает! Разве ты не знаешь, что мы и так опаздываем.
– Знаю, только я быстренько – хоть сейчас. Вы же сами говорили, что нужно самое лучшее.
– Но у тебя такие красивые трамваи, и когда поворачивают, у них солнце бьет из окон. Мы их уже вклеили первым кадром.
– Нет, а есть еще лучше. Я видел.
– Ну хорошо, расскажи, что ты видел.
– Я ехал в автобусе и смотрел через верхнее стекло – мне это страшно понравилось. Сначала видны провода и светофоры, а выше дома – все дома нашей улицы, а я их не мог узнать, будто попал в другой город. Можно, я вот так сниму – через верхнее стекло.
– Да они закопченные всегда, – сказал Глеб. – Через них ничего не видно. Разве только солнечное затмение.
– Нет, бывают и чистые.
– Дина Борисовна, что дальше клеить? – спросил Басманцев.
– Подожди, Федя, тут Дергачев хочет переснимать.
– Да мало ли что он хочет! Работали, работали, и вдруг является. Что ж нам теперь его одного ждать, да?
– А я не один, – сказал Дергачев. – Нас там много. За дверью.
Он подошел к двери, открыл ее, и в кабинет, прячась друг за друга, вошли Свиристелкин, Сумкина и еще несколько человек.
– Ну, – грозно сказал Басманцев, – и вы тоже?
– А я хотела и не виновата, и Глеб тоже видел; мы только приготовились, а потом пришла мама, и Тобика я специально купала, – быстро заговорила Сумкина. – А маму я, конечно, больше люблю, пусть не думают, только она для меня все делает, а я для нее ничего…
– Да подожди ты со своим Тобиком, – сказал Дергачев. – Дина Борисовна, мы же не виноваты, что сначала нравилось одно, а теперь уже другое. Можно, мы переделаем?
Дина Борисовна молчала и глядела в сторону, на блестящий шарик прибора, будто хотела рассмотреть положительный заряд внутри него.
– Ну что, смеялись? – прошептал Свиристелкин.
– Когда? – спросил Глеб.
– Когда она с бородатым. Это я снимал.
– Так это ты. Да, здорово смеялись. Прямо катались от смеха.
– И вот опять я чего-то не додумала, – сказала Дина Борисовна. – Конечно, с каждым днем вам будут нравиться все новые и новые вещи – с этим уже ничего не поделаешь. Вот сейчас я вам разрешу, а завтра вы опять придете и скажете, что вам еще что-то понравилось, что тогда?
– Нет, мы не придем.
– Нам больше уже ничего не понравится.
– Ничего в жизни? Плохо тогда вам придется.
– Ну не в жизни, а еще не скоро.
– Разрешите нам, Дина Борисовна.
– Слишком много всего оказалось, – сказал Дергачев. – Я бы только снимал и снимал.
– Ну хорошо, – сказала Дина Борисовна. – Я разрешаю, только это уже пойдет в следующий фильм.
КОНТРОЛЬНЫЙ УРОК
Непонятно было, откуда все узнали, что будет контрольный урок для Дины Борисовны, – сама она никого не предупреждала. К этому уроку готовились два дня, повторили все старые параграфы, а новые заучили почти наизусть. Басманцев даже предложил мелко-мелко написать на картах трудные даты, фамилии и порядковые номера королей, а Косминский принес с собой толстенный том, под названием «История царской тюрьмы» – вдруг спросят про тюрьмы, тогда и пригодится.
Дина Борисовна пришла такая же, как и в первый раз, – черная и с белым воротником. За ней вошли Татьяна Васильевна и еще одна неизвестная учительница или кто – очень тонкая, в зеленом пиджаке со значком на отвороте и чем-то похожая на немецкого офицера из кинофильма. Они сели на заднюю парту, немного пошептались и начали озабоченно оглядывать весь класс, словно кого-то искали.
Первым Дина Борисовна вызвала Косминского. Она пыталась сделать вид, будто ей безразлично все, что происходит, и от этого сразу становилось ясно, как она волнуется, – раньше у нее не бывало такого безразличного вида.
Косминский отвечал сначала хорошо, но под конец начал путать Яна Гуса и Яна Жижку: то у него Яна Гуса сожгли, то он вдруг опять ожил и повел своих гуситов против немцев – ничего нельзя было понять; а Дина Борисовна его все не поправляла. Глеб исподтишка махал ему рукой и закрывал пальцами один глаз, чтобы напомнить про Яна Жижку, потом оглянулся и увидел, как учительница со значком что-то пишет у себя в блокноте, а Татьяна Васильевна шепчет ей на ухо и тоже пишет.
«Эх, Косминский, – подумал Глеб, – ну что ты наделал! Ох, я тебе и дам же после урока».
В это время Косминский кончил, и Дина Борисовна сказала:
– Ну молодец, отлично. Только я немного не поняла, – кто же был полководцем гуситов?
Косминский удивленно посмотрел на нее, потом глаза у него вдруг начали расширяться – видно, он вспомнил – и заорал:
– Да нет же, нет! Это Ян Жижка, Дина Борисовна, Ян Жижка был полководцем!
– Ну хорошо, я так и поняла, что ты оговорился. Конечно, Ян Жижка.
Но Косминский никак не мог успокоиться и, садясь на место, все стукал себя по лбу и бормотал:
– Я же знал, что Ян Жижка, одноглазый такой, железный слепец.
Потом вызывали еще двоих, и они получили тоже пятерки. Дина Борисовна, видимо, немного успокоилась и новый материал начала вовремя. Она говорила медленно, стараясь не увлекаться, и, по правде сказать, это было не так интересно, как тогда, на первом уроке про Роджера Бэкона.
«Уж если тогда поставили пару, что же будет теперь», – подумал Глеб.
Он опять оглянулся на учительницу со значком, но ничего не мог понять по ее лицу. В классе было очень тихо, все внимательно слушали, только Косминский время от времени переживал и качал головой. Некоторые держали на парте открытые учебники, будто собирались подсказывать Дине Борисовне, если она что-нибудь забудет или неправильно назовет дату. Когда урок кончился, Татьяна Васильевна и незнакомая учительница сразу вышли из класса, а Дина Борисовна немного задержалась; но все почему-то испуганно молчали; и так она дошла до двери среди полного молчания – словно произошел несчастный случай или кто-то умер.
Глеб выглянул в коридор и увидел, как они все трое вошли в кабинет Сергияковлича.
– Кто со мной, айда! – закричал он и побежал вниз по лестнице, а за ним побежали еще несколько человек. Они выскочили на улицу и окружили телефонную будку, из которой звонили уже несколько раз, когда нужно было узнать, что происходит в кабинете.
– Слушаю, – сказал в трубке Сергияковлич.
– Не откажите в любезности, – сказал Глеб настоящим басом – ни у кого в классе так не получалось. – Попросите, пожалуйста, к телефону Андрея Афанасьевича.
Андрей Афанасьевич как раз должен был находиться в другом конце школы, и, пока его найдут, пока он дойдет до кабинета, трубка будет лежать рядом с телефоном – и все будет слышно.
– Хорошо, – сказал Сергияковлич. – Сейчас я кого-нибудь пошлю.
Трубка громко стукнулась о стекло на столе, и сразу же Глеб услышал голос Татьяны Васильевны.
– …И методически это было не совсем верно, – говорила она. – Я бы обязательно сделала в этом месте нажим, как вы думаете?
– Пожалуй, – сказала незнакомая учительница. – Но тут еще другое. Мне показалось, что дети у вас очень запуганные, – никто не перешептывался, не вертелся, и потом этот мальчик, как он испугался, когда ошибся. Не надо было их так запугивать.
– Во дает! – прошептал Глеб. – Говорит, что мы запуганные.
– Ну, а в общем-то как, в общем? – спросил Сергияковлич.
– По-моему, вполне можно поставить четверку, – сказала незнакомая учительница.
– Конечно, конечно четверку, никак не меньше.
Глеб поднял четыре пальца и тут же быстро прикрыл ладонью трубку, чтобы на том конце не услышали, как закричали и радостно засвистели около телефонной будки.
– Ну, поздравляю, поздравляю вас, – говорил Сергияковлич. – Я был уверен, что у вас все будет в порядке. Не надо только бояться. Вот и прекрасно, я очень рад за вас. А вы сами рады? Довольны?
– Да, конечно, – сказала Дина Борисовна, но голос у нее был не очень веселый. – Я вам очень благодарна, вы так за меня болели все время. Только знаете, сегодня я почувствовала одну неприятную вещь. Может, это покажется странным, но мне было стыдно ставить им отметки, – будто раздаешь какие-то призы.
– Да, это действительно странно Как же можно без отметок.
– Нет, я, конечно, понимаю, что без них, наверно, нельзя, но вот у меня было такое чувство. И потом, кажется, я не очень хорошо рассказывала.
– Нет, рассказывали вы неплохо. Только вот дети – они очень запуганные, – повторила учительница со значком.
– Да никакие мы не запуганные! – закричал Глеб.
– Что вы сказали? – спросил Сергияковлич, поднимая трубку. – А вот как раз и Андрей Афанасьевич.
– Не надо нам Андрея Афанасьевича. Никакие мы не запуганные.
– Ах… это вы.
– Да, это мы. Мы не запуганные! Мы исторические, вот какие! – крикнул Глеб своим настоящим голосом и повесил трубку.
Я хочу в Сиверскую
ПОЧЕМУ МЕНЯ НЕ ПУСТИЛИ В СИВЕРСКУЮ
Когда я вернулся из школы, мамы еще не было, и я сначала обрадовался, но не очень, потому что все равно ведь, подумал я, она скоро вернется и все узнает.
Мне было так плохо, что я даже забыл посмотреть из окна, как летит снег, вверх или вниз, а сел на стол и начал раскачиваться взад и вперед, хотя ничего такого уж страшного не произошло, и троек я получил меньше, чем Фимка, и по поведению тоже было хорошо, и даже были две пятерки – по истории и по географии. Некоторые прямо завидовали мне, но это, конечно, неважно, потому что мама скажет, что ей совершенно безразлично, как кончает четверть какой-то Фимка или всякий другой ученик нашей школы. Она возьмет табель, наденет очки и начнет водить ногтем по отметкам, а потом придет в ужас. Но не сразу за все, а будет приходить в ужас за каждую тройку в отдельности, а это будет гораздо дольше, чем если бы за все сразу и хуже всего, если под конец она скажет, что не пустит меня на каникулы к Вадику в Сиверскую. Это будет настоящая гибель. Уже три месяца я думал, как поеду в Сиверскую; а вчера еще от Вадика пришло письмо, и после письма мне уж просто невозможно до чего захотелось к нему поехать.
Я достал из-под книг это письмо и прочел его еще раз.
«Здравствуй, Саша! – писал Вадик. – Теперь уж ты обязательно к нам приезжай, потому что папа уехал на полгода и мы с Танькой остались совсем одни, как я давно мечтал, и тетя хотела жить у нас, а папа сказал: «Пусть поживут сами, а ты их покорми и больше не вмешивайся». То есть он не так сказал, а подлиннее, как они умеют, чтобы не было обидно, и тетя согласилась. Мы теперь все делаем сами, так что ты обязательно приезжай на каникулы. Я подметаю и колю дрова, и топлю тоже, хоть они такие сырые, что из них уже растут грибы, а Танька ходит в магазин и вообще все зашивает, но у нее еще не совсем получается, потому что она мне пришивала пуговицу и зашила карман, и теперь в него ничего не лезет. Я тебя поведу на один трамплин; с него все падают, и я тоже, а Кадыра один только не падает и страшно воображает, но мы ему еще покажем, так что ты приезжай.
В нашем доме теперь еще живет Володя-электрик. Он очень образованный, потому что каждый день ездит на работу в Ленинград два часа туда и два обратно, и всю дорогу в поезде читает, а это получается по четыре часа каждый день (кроме воскресенья). Мы обязательно к нему сходим, и он даст нам конденсатор для приемника, а остальное у меня уже есть. И он бы нам еще больше помог собрать приемник, только у него родилась дочка, и он теперь все время играет на гитаре, а как перестанет, дочка просыпается и плачет. Так что ты обязательно приезжай.
Жду ответа. Вадим».
Вот какое письмо.
Я еще больше стал раскачиваться, так мне захотелось в Сиверскую. Вадик – это такой гениальный человек, я даже иногда удивляюсь, чего он со мной дружит. Потому что он и на лыжах, и на коньках, и в лесу все знает, и приемник; и все мне объясняет, а я только слушаю, открыв рот, и больше ничего. Он, правда, говорит, что мне интересно рассказывать, но я ему не верю, потому что как же это может быть, что рассказывать интереснее, чем слушать.
Я хотел уже сесть писать ему ответ, но тут услышал, что пришла мама, и едва успел соскочить со стола.
– Ну, здравствуй, – сказала мама. – Как дела?
– Вот, – ответил я и протянул ей табель, чтобы уж поскорее все кончилось и решилось.
Мама открыла табель, потом взяла очки за дужку и потрясла, чтобы они открылись.
– Это что?! – вскрикнула она, когда дошла до первой тройки. У нее был такой испуганный голос, что я даже не понял, о чем это она, и спросил:
– Где?
– Вот, вот здесь. Будто не знаешь. Что это такое, я спрашиваю?
– Ничего, – ответил я осторожно. – У Фимки еще больше троек, и ничего.
Мне в этот раз ужасно не хотелось с ней ссориться, и я больше ничего не стал говорить.
– Меня не интересует твой Фимка, – сказала мама; и я загадал, что если она не хлопнет ладонью по столу, то все обойдется, но она, конечно, хлопнула.
«Конец, – подумал я тогда. – Теперь уже наверняка не пустят».
Мне сделалось так обидно, что я даже наступил себе на ногу незаметно.
Я ведь сам всем рассказывал, как мне хочется в Сиверскую, а мог бы наврать, что не хочется, и тогда, может быть, меня отправили бы туда в наказание, а теперь уж наверняка не отправят.
– Как же ты хочешь стать ученым, – сказала мне мама и снова стала вспоминать все, что я успел натворить за этот год и за прошлый тоже, и как расстроится папа, когда получит письмо с такими отметками. Но тут я уже и слушать дальше не стал, потому что папа говорит, что у него самого образование среднее-заочное, и он поэтому не может вмешиваться в мое воспитание, и что, конечно, хорошо, если я стану ученым, но вообще это еще ничего не значит, потому что ученый тоже может быть негодяем.
Я подумал, что хорошо бы и мне получить заочное образование, такое же, как у Володи-электрика.
– И это ученик пятого класса, – расслышал я вдруг мамин голос, потому что раньше она всегда говорила «ученик четвертого класса», а к «пятому» я еще, наверное, не успел привыкнуть и поэтому расслышал.
– Ни в какую Сиверскую ты не поедешь, – сказала мама.
– Ой! – вскрикнул я.
Я не хотел, а так как-то вырвалось само.
– Вот тебе и «ой». Не поедешь, пока не исправишься.
– Я исправлюсь, – тихо сказал я. – Я обязательно исправлюсь. Только можно я сначала поеду? Мне тогда легче будет исправиться.
– Глупости, – сказала мама. – Я посмотрю еще, как ты кончишь третью четверть, и тогда решу, можно тебе ехать или нет. И все. Больше никаких разговоров.
Я даже ничего не смог ответить, так мне стало плохо. Наверно, я немного еще надеялся и только теперь, когда все пропало, мне стало плохо по-настоящему.
– Я постараюсь, – сказал я наконец и ушел за свой стол.
Я вырвал из тетради чистый листок и стал писать Вадику ответ, потому что я уже заметил, что если тебе плохо, нужно написать об этом в письме, и тогда станет немного легче.
Я НАЧИНАЮ ИСПРАВЛЯТЬСЯ
Когда я дописал письмо, мама включила а радио и стала слушать последние известия. В последних известиях всегда говорят по очереди то мужчина, то женщина, и мужчину я очень хорошо представляю, потому что он нарисован в окне парикмахерской в нашем доме, а женщину не представляю и только вижу, что она с косами и меньше ростом, чем микрофон, а больше ничего. Оттого, что я все описал Вадику в письме, мне и вправду стало легче, и я решил, что надо не сидеть сложа руки, а действовать и добиваться своей цели.
– Мама, – сказал я, – можно, я уже сейчас начну исправляться? Может, что-нибудь нужно сделать?
– Хорошо. Сходи, пожалуйста, за хлебом, а то на утро не хватит. И не сутулься так, – добавила она, когда я уже выходил. – Держись прямо.
– Да я забываю все, – сказал я.
– А ты не забывай. Иди и все время думай, что нужно держаться прямо.
Во дворе у нашей парадной стояли двое незнакомых мальчиков и с ними девочка. Я этому ужасно удивился, потому что такого в нашем дворе никогда не бывало; стоят два мальчика и девочка, и мальчики девочку не бьют и не ругают – странно как-то. Ведь их двое, а она одна; и она им ничего не сможет сделать, я знаю, только обидится и уйдет.
«Видно, они не хотят, чтобы она уходила». Я хотел еще немного понаблюдать за ними и тут вдруг заметил, что опять забыл держаться прямо. Я быстро набрал воздуху, расправил плечи, как только мог, и вышел на улицу,
Снег сегодня летел вниз, но не очень, потому что начинался ветер, и из-за этого ветра люди шли по улицам без всякого интереса. Я уже заметил, что зимой, особенно по утрам, когда взрослые идут на работу, они совершенно ничего не замечают, и им можно отдавать честь, кланяться, показывать язык, – что хочешь можно делать, а они все равно тебя не заметят; и это бывает очень обидно. Может, они думают о своих делах, а может, просто еще немного спят, я не знаю, и мне некогда было сейчас об этом думать, потому что нужно было исправляться и не сутулиться.
«Нужно держаться прямо-прямо, – думал я, – как столб, а на столбе висят фонари, а в них лампочки; а если лампочки перегорят, их надо заменять; приезжает машина с подъемником, и в ней люди – постучат ключом по перилам, и шофер их поднимает; и я бы тоже так хотел, чтобы меня поднимали, но мне же нельзя сейчас об этом думать – нужно все время думать, как бы не сутулиться».
Больше я уже почти не отвлекался, только раз вспомнил про Сиверскую, и так обошел весь квартал и не остановился даже посмотреть на мальчиков во дворе, а прошел мимо них прямо-прямо и так же прямо вошел в комнату.
– Ну, – сказала мама и заглянула мне за спину.
Я тоже попытался посмотреть, что там такое, и тут только сообразил, что забыл купить хлеб. «Вот дурак», – подумал я про себя.
– Ну, что же ты, – спросила мама, – забыл?
– Забыл, – ответил я.
– Как же так?
– Не знаю, – сказал я. – Я все время думал, как бы не сутулиться, а про хлеб забыл. Видно, я не могу помнить про все сразу.
– Да, – сказала мама. – Нелегко тебе будет исправляться.