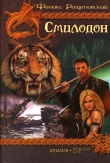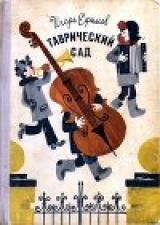
Текст книги "Таврический сад"
Автор книги: Игорь Ефимов
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Таврический сад
ГЛАВА 1
ИСТОРИЯ С НЕМЦАМИ
Я всегда был такой же, как все, обыкновенный, только меня никуда не принимали. Это у меня была единственная особенность: если мне куда-нибудь очень хотелось, то я уже заранее знал, что ни за что не примут. А может, наоборот – туда-то мне и хотелось, куда не всех принимают. В школу, например, свободно принимали всех, и я ничуть не переживал, потому что я и по возрасту подходил, и по здоровью, и был уверен, что примут. А вот когда Фортунатов собрал в нашем дворе снайперский отряд, чтобы стрелять на меткость из трубки, и сказал, что меня не примет, – вот тогда мне стало очень тошно. То есть такое чувство внутри, будто зажгли спичку и сразу же крепко прижали. Хоть кричи. Только я кричать не стал, я поднял свою трубку и, ни слова не говоря, выпустил в них без разбора полный заряд зеленой бузины – все, что у меня было во рту и в кармане. Конечно же, они не стерпели – бузины у них было гораздо больше, – и, в общем, вышло так, что я стал для них первой мишенью. Но зато после этого я слышал, как Фортунатов их всех уговорил, сказал, что ну его (то есть меня), лучше его принять, а то он какой-то ненормальный и странный. А я ничуть. Просто я не выношу, когда меня не принимают, это для меня хуже нет.
Вот, например, Толик Семилетов – он действительно странный.
Когда он только приехал в наш двор, он уже и тогда был такой странный, что его сразу хотели поколотить всем скопом. У него была непохожая клетчатая одежда, вся на резинках (говорили, что из Латвии), и еще он часто засматривался. Он любого мог засмотреть до смерти – уставится и глядит молча прямо в глаза. А если отойти в сторону, он все равно глядит на то же место, будто ты еще там. Я однажды обошел его сбоку и нарочно наступил на ногу. Он только сказал: «Извини, пожалуйста» – а головы не повернул. Вообще он часто извинялся – перед нами и то извинялся, если толкнет или испачкает случайно. Но не это главное. Невозможно передать, какая у него была самая главная странность, в чем она выражалась.
Взять хотя бы историю с немцами.
Тогда еще много оставалось разрушенных с войны домов, и напротив нас тоже был один – в него, говорят, попала бомба и потом еще два снаряда. Этот дом восстанавливали пленные немцы, и нам очень нравилось, что все так по справедливости – сами разрушили, сами пускай и восстанавливают, но мы боялись, что они снова заложат в дом замедленную мину, замуруют ее прямо в стену, а потом она через несколько лет взорвется вместе с жильцами и новоселами. Мишка Фортунатов сказал, что нужно следить за немцами и разоблачить, и мы, все ребята с нашего двора, бегали по очереди дежурить на чердаке – оттуда все было хорошо видно. Немцев было очень много: одни выкладывали стены, другие подносили им снизу кирпичи и какую-то грязь на носилках (теперь я знаю, что это называется раствор), третьи непонятно чего делали, но тоже ходили взад-вперед по доскам и мерили все шнурками; конечно, конвойным было за ними не уследить, а мы сверху видели каждую пуговицу и обязательно должны были заметить любую мину, даже очень маленькую.
Каждому хотелось первому заметить мину и поднять тревогу. Мы часто ссорились из-за очереди дежурить на чердаке, но Мишка Фортунатов всегда поддерживал дисциплину и справедливость и без очереди никого не пускал. И Толика Семилетова он тоже назначил, хотя он и странный, чтоб все было по справедливости. Вот тут Толик и показал себя, свою невероятную странность: сказал, что он дежурить не пойдет, что все это ерунда и никакой мины у немцев нет, потому что где же они ее достанут?
Это же надо было так сказать!
Как это? Немец и вдруг не достанет мину? Немец без мины – это не укладывалось у нас в голове. Да для любого немца нет и не может быть ничего проще, чем достать мину или, скажем, снаряд. Мы вообще не могли себе представить немца, у которого бы не было в руках или в карманах какого-нибудь пистолета, ножа, бомбы, снаряда или хотя бы обоймы с патронами. Наоборот, непонятно было смотреть на них сверху и видеть, как они пересмеиваются между собой, едят в перерывах суп, читают журналы, вытряхивают песок из ботинка, – все время казалось, что они притворяются.
Но сказать, что немец не достанет мины, – это уже было дальше некуда.
Мы стали окружать Толика, чтобы побить его, наконец, за все. Уже не было никаких сил выносить его странности. Но он вдруг достал из кармана два электрических провода и сказал, что ударит током каждого, кто к нему подойдет, – попробуйте только суньтесь. Сзади его было не окружить, он прижался к поленнице, а провода тянулись из кармана далеко вперед, и когда он соединял их голые концы, там проскакивали и трещали белые искры. Мы постояли-постояли вокруг него и ушли на чердак дежурить. Очень уж противно, когда тебя дергает током. Толик потом всегда ходил с этими проводами, и никто долго не мог догадаться, что у него в кармане трофейная батарейка, – искры были очень электрические, и сам он жмурился, словно от страха. Так его ни разу и не побили.
А с немцами тоже все скоро кончилось, – наверное, из-за меня.
Я дежурил в тот раз на чердаке вместе с одной девочкой, с Люсей Мольер, а был вечер, и немцы работали при электричестве. При электричестве и так плохо видно, а тут еще эта Люся. Она мне просто покоя не давала, хватала за шапку и вертела мою голову во все стороны, чтобы я смотрел.
– Вон тот? А вон тот? Смотри, что он там делает? А этот?
– Да не верти ты меня, – сказал я ей наконец. – Будешь еще вертеть – прогоню домой в куклы играть.
У нее действительно было много кукол, и она до сих пор в них играла. Правда, всегда в одну и ту же игру – в очередь. Выстроит всех в очередь и каждой чего-нибудь дает. Дает и отводит в сторону. Дает – ив сторону. И говорит при этом: «Вот тебе хлеб. А тебе макароны. А это мыло».
Над ней много смеялись, но потом мама мне сказала, что неизвестно еще, во что бы я сам играл, если б жил здесь в блокаду, как Люся, и я перестал. Я и другим сказал, чтоб перестали, и они согласились, только Мишка Фортунатов возражал и боролся за справедливость, потому что он сам тоже был здесь в блокаду. Он добился, чтобы ему одному было можно, но все равно не смеялся. Наверно, просто забыл. Да и чего тут смешного? Она была, в общем-то, дружная девчонка и веселая – пусть играет у себя дома во что хочет. В конце-то концов.
Но вот дежурить с ней была сущая морока. У меня уже через полчаса руки тряслись и голова как-то дергалась – все под ее влиянием. И вообще все эти дежурства довели нас всех уже до того, что нам хотелось, чтобы они подложили мину. Так часто бывает. Когда чего-нибудь долго ждешь, пусть даже плохого или страшного, то начинает хотеться, чтобы поскорей. Я смотрел на какого-нибудь немца и думал:
«Ну пожалуйста, ну что тебе стоит. Подложи сейчас, в мое дежурство. Достань из кармана и подложи. Ах, не подкладываешь?! Вот ты как! Мало вас били, фашистов проклятых. Вот вырасту, я тебе еще покажу!»
И когда я увидел того немца, я чуть с чердака не свалился от радости. Я еще раньше за ним следил, потому что он стоял один в стороне с пилой в руках и кому-то кричал, – видно, звал, чтобы помогли пилить. Но никто к нему не подошел, и тогда он начал пилить один. Я потому и запомнил его, что он пилил один, – водит пилу за одну ручку, а другая болтается как хочет. Туда прямо идет, а назад дрожит, как макаронина, если ее быстро всасывать губами. Потом я забыл про него, а когда вспомнил и снова посмотрел, его уже не было. Куда же он мог подеваться? И вдруг вижу, что он лежит там же за досками и будто бы копает в снегу руками. А потом и копать перестал – притаился, где его никто не видит, и выжидает.
– Ага! – закричал я. – Ага! Дяденька часовой! Товарищ солдат! Смотрите, там немец мину прячет! Смотрите!
Часовой стал озираться, увидел наконец меня и побежал, куда я показывал, и с другого конца другой часовой тоже. А я словно взбесился от радости – полез на крышу и начал на ней скакать и визжать, скидывая вниз снег ногами. Потом побежал по лестнице и звонил во все звонки, а во дворе кто-то уже кричал: «Поймали, поймали!». Наверно, Люся Мольер.
Дальше долго не помню, что было (помню только, что сердце очень колотилось), и вдруг сразу: мы стоим у ворот того дома, где работали немцы, и к ним задом подъезжает санитарный автобус, а мы никак не можем понять, зачем санитарный. Или он кого ранил из наших? Или взорвалась мина? Взорвалась, а мы так орали и не слышали.
Тут ворота приоткрылись, и его вынесли в щелочку – того самого немца, Я его еле-еле узнал из-под бинтов и ваты, а может, и не узнал тогда, а только после, когда нам часовой сказал, что это тот самый, – он лежал за досками, потому что его ранило пилой. Пила застряла, а он нажал на нее с разгона, она изогнулась и лопнула прямо ему в лицо. Все потому, что он пилил в одиночку. Те немцы, которые клали его в автобус, все наклонялись к нему и звали: «Герберт, Герберт!» – но он не отвечал. А мы еще никак не могли понять, и, когда автобус отъехал, кто-то даже сказал:
– Так и надо.
– Ишь ты, – сказал часовой, – и ребятишки-то… тоже… – и вздохнул.
А другой закричал:
– Уходите отсюда, ребята, уходите! Нечего вам тут смотреть.
И потом, уже войдя в ворота, сказал тому, первому:
– А пилы-то поржавели все. Старье. Доложить надо.
– Докладывал. Да где же теперь новых достать. Небось вся сталь вот сюда пошла, на пилы и не осталось ничего, – и он похлопал себя по штыку.
Они ушли, а мы после того еще пару раз подежурили и бросили. Не то чтобы обсуждали и договорились, нет. Просто бросилось как-то само собой, и все.
ГЛАВА 2
УЗУРПАТОРЫ
В ту зиму было много интересных событий со всякими последствиями, и некоторые последствия оказались потом даже интереснее и важнее самих событий.
Во-первых, в нашу с мамой комнату приехали три нахалки.
Так рассказывал всем дядя Павел (он говорил не «приехали», а «узурпировали»), хотя трех там, конечно, не набиралось – младшей было всего два с половиной годика, если говорить честно. Они пришли днем, когда мама еще не вернулась с работы, и я сразу понял, что это мать и дочь, настолько они были похожи, а дочь еще тащила по полу узел из валенок и тряпок, который потом тоже оказался дочерью – дочерью-внучкой. Старшая мать-бабушка – поставила чемодан и сказала: «Вот мы и дома». Потом подошла к окну, расцарапала замерзшие гляделки пошире и закричала:
– Смотри, смотри, Надя, – наш термометр! И «Гастроном» тот же самый, и вывеска уцелела – будто вчера еще там покупала. Господи, просто не верится.
Она заходила по комнате, все щупала, узнавала и ахала, пока не наткнулась на меня. (Меня-то уж она никак не могла узнать.) Я разогревал на плитке лапшу и по своей дурацкой привычке улыбался им обоим, будто ничего не случилось и я еще ничего не понимаю, как маленький.
– Мама, наверное, скоро вернется, – сказал я. – Вы посидите пока.
– Нет, я не могу сидеть, – сказала старшая мать-бабушка. – Сколько лет, сколько лет! Ведь я знаю здесь каждый уголок, каждую трещинку в полу. Сколько километров я по нему исходила, если просуммировать в общей сложности.
– Не надо ничего суммировать, – вежливо сказал я. – Не трудитесь. Потому что это вовсе не ваш пол.
Наверно, я по-прежнему улыбался, и она подумала, что я такой уж дурачок или просто шучу.
– Ну как же не наш! Я помню каждую дощечку, каждый гвоздик. Вот здесь раньше скрипело – знакомый скрип половиц.
– Это не ваш пол, – снова сказал я, глядя вниз на лапшу. – Вы его в первый раз видите.
– Ты, пожалуйста, не спорь. Если взрослые говорят, – значит, кончено. Надя, скажи ему.
– Ах, мама, подожди, – сказала Надя. – Мы ему все объясним, только пусть он сначала поест. Ешь, мальчик, ешь, а то остынет.
Она разматывала свою дочку и уже размотала одну руку и пол-лица.
– Когда мы приехали, здесь не было никакого пола, – сказал я упрямо. – Его сожгли в блокаду на дрова. Все сделал заново папин друг, солдат Иванов. Он приезжал в отпуск и сделал нам пол, дверь и рамы на окна. И термометр тоже он привез, и я сам его привинчивал. А вы если не знаете, то и не говорите. Вот.
– Видишь ли, ты еще очень мал, чтобы с тобой можно было серьезно спорить. Солдат Иванов тут совершенно ни при чем, он не играет никакой роли.
– Как это не играет! – воскликнул я. – Хорошенькое дело. Это солдат-то Иванов?! Это вы тут ничего не играете.
– Ах!..
Я подумал, что она сейчас завизжит на меня или заплачет, и прямо сжался, но тут Надя перебила ее:
– Мама, хватит тебе. Иди лучше помоги мне.
Они вдвоем взялись за шубку и вытряхнули из нее маленькую девочку в шерстяных чулочках. Девочка сразу же побежала чулочками к зеркалу и запела, показывая на себя пальцем: «Царь, с царицею простяся, на добра коня садяся…» Потом ни с того ни с сего поскользнулась, шлепнулась на попку и, сказав сама себе: «Спокойно. Только не йеветь» – поползла, поползла, под стулья, под стол – еле удалось ее оттуда достать. Никогда еще не видал таких отчаянных девчонок в ее возрасте, она мне сразу понравилась – единственная из всех троих.
Когда, наконец, пришла мама, они все сидели на нашем диване и пили молоко с бутербродами, передавая друг другу бутылку. Мать-бабушка жевала не открывая рта, и за ее щеками что-то быстро каталось, выпирало и ворочалось, будто искало выхода. Невозможно было оторваться. Мама вошла, как всегда улыбаясь (это я от нее научился), а увидев трех нахалок, заулыбалась еще сильнее, словно она их всю жизнь ждала и теперь просто счастлива видеть.
– Здравствуйте, – сказала мать-бабушка. – Вы нас не знаете, и мы тоже с вами не знакомы, но до войны мы жили в этой самой комнате и вот теперь наконец, слава богу, вернулись. Меня зовут Ксения Сергеевна, это моя дочь Надя, а это внучка Катенька.
– Очень приятно, – сказала мама, не переставая улыбаться.
«Ничего себе, приятно, – подумал я. – И еще улыбается».
Мне хотелось подойти к маме и подвинуть ее губы и глаза на строгое, неулыбающееся место, чтобы она поскорее поняла, чего хотят эти тетки, и прогнала бы их с треском из нашего дома.
– Конечно, вы должны нас понять правильно, – сказала мать-бабушка, Ксения Сергеевна. – Я не собираюсь упрекать вас, что вы незаконно заняли нашу комнату, или жаловаться в высшие сферы и инстанции, потому что вы же не знали, не могли знать, кто настоящие хозяева и живы ли они вообще. А мы на самом деле живы и ничуть вас не осуждаем. Даже наоборот. Всем сейчас нелегко, и люди должны помогать друг другу. Поэтому я, конечно, разрешу вам с сыном пожить вместе с нами, пока вам не дадут другую комнату, такую же или даже больше. Пожалуйста, живите. Хотя надеюсь, что это не протянется больше месяца, – все будет зависеть от вашей энергии и настойчивости.
Наконец-то мама перестала улыбаться. Она всегда была слишком тактичной, как говорил дядя Павел, а с новыми и незнакомыми людьми – просто до невозможности.
– Но простите, – сказала она. – Это же ни на что не похоже. Какая-то фантастика.
– Нет, это жизнь. Настоящая грубая жизнь как она есть. Действительность интереснее любого романа, вы же знаете.
– Вот так действительность! Действительность как раз состоит в том, что мы с сыном живем в этой комнате и имеем на нее все права. Мы – семья офицера: мой муж служит в Австрии и скоро вернется. Вам лучше будет с ним поговорить обо всех тонкостях и документах.
– Да о чем тут говорить? Вы же интеллигентная женщина, я это вижу, я это точно чувствую. Неужели вы станете унижать себя разговором о формальностях, обо всех этих ордерах, прописках, печатях и гербовых сборах?
Мама ужасно покраснела и промолчала. Видимо, она как раз собиралась унизить себя таким разговором и не успела.
– Но простите, – сказала она. – Откуда же я могу знать, что вы жили именно в этой комнате? Ведь я с вами совсем не знакома. Вы приходите с улицы и говорите. Почему я должна вам верить?
– Ну, это очень просто доказать. Это могут подтвердить все соседи.
– Они живут здесь столько же, сколько и мы. Это был совсем пустой дом.
– Но я знаю тут каждую щелку, каждое окно. Проверьте, если хотите.
– Сколько на нашей лестнице ступенек? – быстро спросил я.
– Боря, замолчи, – сказала мама. Видимо, она очень волновалась. – Я сама тут еще мало знаю. Как же я могу вас проверять?
– Эта комната площадью двадцать пять квадратных метров, ведь правильно?
– Да, что-то около того.
– Подумаешь. На глаз видно! – крикнул я.
– Через дорогу «Гастроном», за углом Таврический сад, под окнами остановка третьего автобуса.
– Нет, – сказала мама, – третий автобус тут не ходит.
– Но раньше-то ходил, ведь ходил же, правда, Надя?
Надя все время сидела нагнув голову, будто ей было чего-то стыдно, а тут закрыла лицо руками и отвернулась. Может быть, даже заплакала.
– Да вот ведь что! – закричала Ксения Сергеевна. – Сейчас все ясно станет на свои места, сейчас я вам докажу. Идемте-ка за мной, идемте.
Мы вышли за ней в коридорчик, и она в темноте уверенно прошла в угол (может, и правда жила здесь когда-нибудь), пошарила по стене между чьим-то корытом и велосипедом и сказала:
– «Здесь. Конечно, это здесь».
Там была незаметная закрашенная дверца, такая железная форточка, которую я раньше никогда не замечал.
– Это старый заброшенный дымоход. Согласитесь, что я никогда бы не узнала о его существовании, если бы не жила здесь. Ну согласитесь.
– Да, конечно, – сказала мама.
– Но мало того. Если вы откроете дверцу, то нащупаете внутри две заслонки – наверху большая, а под ней еще одна, поменьше. Так вот, на той, поменьше, выцарапано одно слово. Ася. Да-да, Ася. Ася – это я. Пожалуйста, проверьте.
Она так торжествовала, так была уверена в победе, что я подумал: «Ну, все, мы пропали».
Мама медленно открыла дверцу (оттуда еще вытекло немного старого, очень заброшенного дыма), засунула руку, пошарила – там что-то звякнуло, и вот вылез черный круг с железной петелькой наверху.
Ксения Сергеевна улыбалась куда-то в сторону и выстукивала пальцами по корыту.
На маму было жалко смотреть. Я думал, что она заплачет.
«Ну и что! – хотел закричать я. – Что с того, что они раньше тут жили? А теперь живем мы. И нечего с ними разговаривать и искать старые заслонки с петельками; пусть уходят по-хорошему, откуда пришли».
Мама вдруг вынула руку из стены и сказала:
– А больше там ничего нет. Никакой Аси.
– Как нет?! – закричала Ксения Сергеевна, отталкивая маму. – Пустите!
Она до самого плеча засунула руку в дыру, заморгала, прижалась щекой к стене, потом попыталась засунуть голову, но голова уже не лезла.
– Этого не может быть, этого не может быть, – повторяла она и шуровала так, что сажа летела оттуда во все щели и прямо ей в лицо.
Меня просто корчило от смеха. Мама тоже кусала губы и изо всех сил изображала лицом сочувствие. Она всегда учит меня сочувствовать чужим несчастьям, но сама не выдерживает, если смешно.
Надя первая повернулась и пошла обратно в комнату. Кажется, она даже вздохнула с облегчением, что все кончилось и ей не надо больше ничего переживать.
В комнате ихняя Катенька, про которую все забыли, успела оторвать со стены календарь, повалила все стулья, утянула со стола сегодняшнюю газету и теперь спала, завернувшись в нее, возле самых дверей. Как много успевают маленькие дети – и всего за несколько минут! Видимо, потому, что они совсем не раздумывают. А у нас всегда куча времени уходит на раздумывания.
Надя подняла ее с пола, отнесла на диван и начала потихоньку одевать. Голова у нее не держалась во сне и руки тоже, но в пальцах она по-прежнему сжимала газету; потом, так и не просыпаясь, заплакала.
– Сколько ей? – тихо спросила мама.
– Два года семь месяцев, – ответила Надя.
– А куда?.. Куда вы сейчас пойдете? В гостиницу?
– Какая уж тут гостиница, – вздохнула Надя.
– Но куда же? К папе? Где ее папа?
– Какой уж тут папа…
В это время вошла Ксения Сергеевна – ее еле было видно из-под сажи.
– Надя, – растерянно сказала она, – Надя, все исчезло… Там в самом деле ничего нет. Ничего нашего здесь не осталось, ничего. Подумать только.
– Одевайся, мама. Ты видишь, мы уже готовы.
– Ах да, конечно. Подумать только – ничего. Как это могло случиться?
Одеваясь, она все бормотала и искала глазами по потолку и стенам. Катенька плакала во сне как заведенная, – казалось, каждый раз вот-вот уже перестала, а на самом деле она просто набирала новый воздух для следующего рева. Мама смотрела на них как-то странно.
«Ну чего она, чего? – подумал я. – Ведь они уже уходят. Сейчас уйдут насовсем, и кончено. Потерпи еще немного».
– Может, достать ей еще один платок – шерстяной? – спросила Ксения Сергеевна, беря чемодан.
– Не надо. Сейчас на вокзалах и ночью топят, сейчас хорошо. Вполне можно ночевать.
И они пошли к двери.
Я посмотрел на маму и вдруг увидел, что все – ей не дотерпеть. Знаю я это ее выражение. Очень давно в шесть лет, у меня был нарыв на колене, и его нужно было вскрыть, а я катался по полу, визжал и не давался врачу. Тогда она схватила меня, зажала между колен и держала все время, пока мне там резали и прочищали. С тех пор я его и запомнил, это выражение на мамином лице, оно было очень бесповоротное.
И теперь вот тоже.
Они еще не дошли до двери, когда она подскочила к ним и начала зачем-то вырывать чемодан у Ксении Сергеевны.
– Нет-нет, – кричала она, – так нельзя! Куда же вы? Да еще с ребенком. Нет, я вас не пущу.
Ксения Сергеевна не отдавала ей чемодан, и тогда она забежала между ними и дверью и обеими руками принялась отпихивать их, отодвигать назад в комнату. Они упирались, но не сильно, – видно, здорово уже устали, а Катенька тем более проснулась и ревела теперь во весь голос. Они еще немного поупирались, говорили, что нет, зачем же, если мы им не верим, а потом вдруг разом сняли пальто и сели обратно на диван.
И в тот же день они нас совершенно узурпировали и начали жить в нашей комнате.