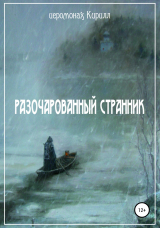
Текст книги "Разочарованный странник"
Автор книги: Иеромонах Кирилл
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Служили два товарища.

Осенью 1978 года я был призван на службу в ряды Советской Армии. На призывном пункте в г. Железнодорожном нашу группу погрузили в небольшой автобус и повезли в неизвестном направлении. Вначале ехали в сторону Москвы. Когда наш «пазик» свернул с МКАДа на Ленинградское шоссе, кто-то из призывников спросил сопровождающего нас сержанта:
– А мы куда едем, товарищ сержант?
– На север…, – ответил он. Мы притихли. Перед глазами у нас сразу поплыли грустные заснеженные пейзажи с белыми медведями. Но через некоторую паузу сержант добавил с ухмылкой:
–…Московской области. Все сделали облегчённый выдох. Пунктом нашего назначения был город Солнечногорск, 1-е Высшие офицерские курсы «Выстрел».
Приехали вечером. Войдя в казарму, первое непривычное впечатление – жуткий грохот сапог по деревянному полу. Такие же, как и мы новобранцы, но уже переодетые в военную форму, были на одно лысое лицо и ходили по расположению туда-сюда, как будто что-то искали. Со временем я с этим свыкся, потому что стук сапог, запах ваксы, солдатский мат, команда «рота подъём», папиросы и батон с маслом стали моей повседневной жизнью на долгие два года.
Первый месяц карантина на плацу и спортплощадке из нас вытряхивали «мамины пирожки», которые улетучились из памяти в первую же неделю. Ежедневно мы как одержимые шагали по полковому плацу, впечатывая что есть мочи каждый шаг в асфальт, сбивая каблуки. На весь плац раздавалась только одна команда сержанта: – «Выше ножку!» И мы отчаянно шагали, поднимая ногу как гимнасты, подражая солдатам кремлёвского караула у мавзолея Ленина.
В карантине у новобранцев основным занятием было изучение Устава. Мы рассаживались каждый на своей прикроватной табуретке посередине казармы, зубрили устав и отвечали на вопросы сержанта, который проводил занятия. Потом было бесконечное подшивание белых подворотничков к гимнастёрке, чистка сапог до зеркального блеска, натирание полов и отбой-подъём по секундомеру.
По вечерам я, как художник, был нарасхват у «дедов», то есть у старослужащих, для оформления дембельских альбомов и рисования портретов с фотографий их любимых девушек. Однажды один сержант из разведроты, грузин, не то, чтобы попросил, а приказал нарисовать у него на груди портрет Сталина: – Татуировку буду делать, – гордо сказал он. Мне нашли подходящую картинку с профилем И. Сталина, которую я срисовал шариковой ручкой на левую грудь сержанта. Нашёлся и специалист по татуировкам, ловко выполнивший свою работу тонкой гитарной струной и тушью.
Приближалась середина декабря. Нас снабдили ломами и лопатами и повели к главному корпусу рыть траншею. Почему кому-то именно в это время так приспичило рыть траншею – неизвестно. На улице было минус 35°, и земля по твердости нисколько не уступала граниту. Хотя на руках у нас были рукавицы, но сквозь них сразу чувствовался холод промерзшего железа лома. Портянки в сапогах примерзали к стелькам и казалось, что пальцев на ногах нет (надевать носки было не положено). Мы по очереди бегали в главный корпус погреться. И всё же я заболел. Из лазарета я вышел через неделю, накануне принятия присяги.
Позже, читая о колымских ссылках наших новомучеников и исповедников, из этого небольшого опыта я уже мог реально представить, каково это на морозе долбить ломом мёрзлую землю и замерзать в траншее без всякой надежды на возможность хотя немного погреться.

Декабрьский день воинской присяги выдался очень морозным. В этом году зима вообще была суровой и снежной, что новобранцам доставляло много хлопот. И в связи с тем, что на улице стоял чуть ли ни сорокаградусный мороз, командование решило провести принятие присяги в помещениях казарм. Но вначале мы выстроились на плацу, чтобы пройти торжественным маршем, после чего разошлись по расположениям. Приехавших на день присяги родственников разместили в полковом клубе.
После принятия воинской присяги и окончания карантина я был распределён во взвод обеспечения учебного процесса офицерских курсов, для чего, собственно, ещё на призывном пункте всех нас отбирал приехавший с курсов «Выстрел» подполковник с сержантом. И когда я уже стоял перед столом призывной комиссии, которая распределяла призывников кого куда, вдруг вошёл этот подполковник, что-то шепнул председателю комиссии и забрал меня с собой. Как потом говорил уже игумен Мефодий, вспоминая эту и подобные ситуации, происходившие с нами: «Мы с тобой всё время оказываемся на гребне волны», то есть на грани.
Взвод наш поместили в расположении роты химзащиты в качестве третьего взвода этой роты, хотя приписаны мы были к курсам. Конечно, полковые нас недолюбливали и всячески пытались унизить нас, придраться к чему-нибудь, выразить своё презрение, потому что мы штабные. Но, как было замечено, это качество присуще людям недалёкого ума, которым кроме как положением старослужащего похвастаться больше было нечем. Именно они воспитывали молодое пополнение неуставными методами, а попросту – издевались. Нам повезло: наш командир взвода был из интеллигентной московской семьи, отслуживший уже полтора года, и будучи «дедом» в обиду нас никому не давал.
И вот впервые меня назначили дневальным. Дневальных должно было быть двое, а кто-то из сержантов назначался дежурным по роте, у которого дневальные были в подчинении. Вместе со мной вторым дневальным назначили рядового Сидорова Дмитрия, занимавшего в расположении второй ярус кровати прямо надо мной. Поэтому иногда при команде «рота подъем» он прыгал сверху прямо мне на спину. В обязанности дневального входила уборка расположения, поддержание порядка и стоять возле тумбочки. Напротив входа в расположение роты находилась тумбочка с телефоном на ней. Так вот один дневальный должен был стоять «на тумбочке», отвечать на телефонные звонки, а при входе командира роты вытягиваться по струнке, отдавая честь, и громко подавать команду: «Смирно! Дежурный по роте на выход!» В то время как второй дневальный наводил порядок, либо отдыхал, потому что дневальные заступали на суточное дежурство и ночью должны были попеременно стоять «на тумбочке». Именно в это дежурство произошло наше с Димкой знакомство, переросшее в настоящую большую дружбу на многие годы – на всю жизнь.
Во взвод обеспечения учебного процесса были отобраны специалисты по радиотехнике и электронике, телевизионщики, киномеханики и трое художников, двое из которых были я и Дмитрий. Нас определили на службу в главный корпус офицерских курсов, где на цокольном этаже у нас была мастерская, в которой мы вдвоём трудились до окончания срока службы. Нет, мы, конечно, тоже участвовали в стрельбах на полигоне, бегали по полной выкладке. Но основную часть времени проводили у себя в мастерской, а при большой нагрузке и срочности выполнения задания, бывало, что сутками из неё не выходили.
Как-то раз, проводя генеральную уборку в мастерской, мы нашли в ящике шкафа отрез чёрного бархата. Нам вдруг пришла идея сшить себе из этого бархата шапочки для удобства работы. Мы так и сделали.
Сегодня, глядя на фотографию тех лет, где мы с Дмитрием сидим в мастерской в этих шапочках, дрожь пробегает по телу – это были настоящие скуфии! Но в то время мы не придали этому никакого значения и даже представить себе не могли, что спустя десять лет, в алтаре Михайловского собора Псково-Печерского монастыря, облачая нас в подрясники послушников, на голову нам наденут точно такие же «шапочки» из черного бархата.

Как правило в армии перед уходом в запас назначают так называемый дембельский аккорд, то есть работа, которую необходимо выполнить за пару месяцев до «дембеля». Моя аккордная работа не сказать, что была прям дембельской. Приступил я к ней летом, а увольнение в запас ожидалось только в ноябре. Тем не менее я выполнял эту работу под условием того, что после её завершения уже никаких особых заданий у меня не будет. И, надо сказать, что работа эта была не простой и особенной – изготовление памятника на братскую могилу.
На выбранное место возле полигона, недалеко от нашего расположения, привезли огромную семитонную гранитную глыбу. Из этого гранита мне предстояло сделать памятник на братскую могилу куда-то под Брянск на то место, где во время войны фашистами была уничтожена деревня вместе с её жителями. Это был даже не приказ, а просьба самого начальника курсов «Выстрел» семидесятилетнего дважды героя Советского Союза генерал-полковника Д.А. Драгунского. Он лично пришел осмотреть привезённый гранит и дал мне список известных ему фамилий погибших семей, которые должны быть высечены на памятнике.
Вначале я сделал эскизный проект памятника и заказал необходимые твёрдосплавные инструменты для работы по камню. Скарпели, закольники, шпунты, бучарды различной формы и размеров заказали в Мытищах на заводе художественного литья. Весь остальной инструмент так же был закуплен и доставлен к месту работы. Как только из Мытищ привезли инструмент, я взял себе помощника и сразу же приступил к работе.
Перед этим у меня была возможность опробовать инструмент на мраморе, изготовив памятник на Ваганьковское кладбище отцу одного генерала, погибшего во время войны 1941-45 годов. Но так как мне нужно было осмотреть место для установки памятника, то этот генерал дал свою чёрную «Волгу», и я поехал в Москву. Подъезжая к Ваганьковскому кладбищу, я увидел огромное скопление народа у его входа. Мы с водителем вышли из машины и стали пробираться сквозь толпу людей, потому что нам нужно было пройти в глубь кладбища к нужному нам месту. И тут мы увидели могилу, даже не могилу, а гору цветов с гитарами на ней. Только тогда мы узнали о том, что умер Владимир Высоцкий и только что состоялись его похороны. Вернувшись в войсковую часть, мне сначала никто не поверил, что умер В. Высоцкий. Но потом трагическая новость подтвердилась.
Теперь, после мягкого и вязкого мрамора, нужно было привыкнуть к твёрдому и сухому граниту. От удара скарпели мелкие гранитные брызги посекли мне стёкла в очках, но зато были целы глаза. Иногда я надевал специальные защитные очки, но в них было очень неудобно, они потели и не было видно мелочей. Приступая к работе, я помнил слова Микеланджело о том, что «каждый кусок камня имеет статую внутри себя и задача скульптора обнаружить её». Для этого приходилось сначала откалывать большие куски камня от лежащей глыбы, а затем постепенно подбираться к тому, что было заключено внутри.
В процессе работы Д.А. Драгунский приходил посмотреть на то, что у меня получается. Один раз взяв в руки скарпель и молоток генерал спросил, указывая в нижней части гранита:
– Здесь можно попробовать, я не испорчу?
– Можно, товарищ генерал-полковник, пожалуйста, – ответил я улыбаясь.
Он слегка ударил несколько раз скарпелью по граниту, затем вернул инструмент и сказал:

– Ну вот, я к этому тоже руку приложил.
Сложнее всего было высекать буквы на отполированной до зеркала гранитной площадке, потому что ошибиться и неточно стукнуть скарпелью означало испортить работу. Но всё получилось как нельзя лучше: к концу лета работа была закончена и памятник отвезли на место его установки в Брянской области. Наверное, он до сих пор где-то там и стоит.
Два года службы в армии пролетели очень быстро, хотя вначале казалось, что они будут длиться бесконечно. За это время мы возмужали, дружба наша окрепла, мы научились любить свой дом и узнали настоящий вкус хлеба. И вот долгожданный "Приказ Министра обороны об увольнении из Вооруженных Сил СССР в ноябре-декабре 1980 года военнослужащих, выслуживших установленный срок службы". И уже 1 ноября нам выдали все необходимые документы и поблагодарили за службу. Пасмурным осенним вечером мы с Димкой вышли за ворота войсковой части и отправились домой, к своим родным и близким, которые всё это время нас ждали.
Загорские дали.

С началом лета для советских детей открывался оздоровительный сезон в пионерских лагерях. И как только наступали каникулы колонны автобусов с табличками «Дети» начинали тянуться из Москвы в пригородные зоны отдыха.
Пионерский лагерь нашей организации располагался в живописной лесной зоне Загорского района возле деревни Хомяково. Если пройти от автобусной остановки вдоль деревни вглубь леса, то дорога в конце концов упрётся в ворота с надписью названия пионерского лагеря – «Юность». Когда-то и я отдыхал в этом пионерском лагере будучи школьником. Но теперь с середины мая я отправлялся туда в командировку для приведения в порядок наглядной агитации и художественного оформления лагеря.
На зимний период все подрамники и щиты с красочными рисунками демонтировались и складывались в помещении клуба до следующего года. И вот наступил момент, когда всё это снова нужно доставать, подкрашивать, поновлять и устанавливать на своих местах.
Открыв двери клуба, изнутри пахнуло холодной сыростью. С двумя ребятами, которые мне помогали, мы вынесли щиты с элементами оформления на улицу и разложил их на футбольном поле для просушки и сортировки. Конечно, краски с прошлого года поблёкли и всё нужно было прописывать заново. Работы было много. После подкрашивания щиты монтировались на своих местах: портреты пионеров-героев помещались в стенды на одноимённой аллее; вдоль беговой дорожки устанавливались в металлические рамы щиты с олимпийскими пиктограммами видов спорта; на стенах столовой тоже были какие-то изображения с пионерской символикой; на корпусах отрядов, на въезде – везде. А главное, в первую очередь нужно было зашпаклевать и заново покрасить белой краской статую Ленина, стоящую в полный рост в клумбе на площади, потому что перед заездом детей вначале приезжала важная комиссия из райкома партии вместе с руководством нашей организации и проверяла готовность лагеря к оздоровительному сезону. При входе на территорию лагеря их встречало изваяние вождя пролетариата с протянутой рукой.

Наш пионерский лагерь был очень хорошим, с огромной территорией среди леса, с оборудованным прудом для купания, с просторными жилыми корпусами, со своим стадионом, с уникальным по архитектуре клубом, с павильоном «Умелые руки», с медпунктом, со своей котельной и большим деревянным зданием столовой, в котором ещё размещалась, кухня, Пионерская комната и радиорубка.
Лагерь был основан в 1955 году и место его расположения выбирали очень тщательно. В то время все граждане СССР со школьной скамьи помнили слова В.И.Ленина о том, что «коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны». Поэтому Минэнерго СССР была очень богатой организацией. Место для строительства пионерского лагеря выбирали, облетая на вертолёте окрестности Загорска (Сергиева-Посада).
В этом году я готовился к сдаче вступительных экзаменов в Московское Высшее художественно-промышленное училище им. С.Г.Строганова (сейчас это уже Академия). На самом деле ещё до службы в армии я хотел поступать в Московский художественный институт им. В.И.Сурикова. Но начальник нашей художественной мастерской, Виктор Емельянович, как раз в это время трудился над дипломной работой, завершая обучение на вечернем отделении Строгановки по специальности «Проектирование мебели». Он и меня подключил к этой работе, которую я выполнял с удовольствием, получая огромный опыт. Виктору Емельяновичу было уже почти пятьдесят лет, и он пользовался большим авторитетом среди начальников подразделений, изготавливая мебель для их кабинетов. В то время не было такого разнообразия офисной мебели, как сейчас, да и сам термин «офисная мебель» отсутствовал. Нашей организации принадлежала небольшая столярная мастерская, оборудованная деревообрабатывающими станками, и Виктор Емельянович с помощником столяром-краснодеревщиком кроме офисной мебели изготавливал в этой мастерской ещё и бытовую мебель для квартир по собственным проектам.
Как-то в процессе работы над дипломом Виктор Емельянович, стоя у кульмана, мне и говорит:
– Зачем ты хочешь поступать в институт Сурикова? Ну, напишешь ты свои картины. И куда ты потом их будешь девать, кто их у тебя будет покупать? Поступай в Строгановку на художественное конструирование. С этой специальностью ты везде найдёшь работу, всем будешь нужен. А я тебе помогу подготовиться к поступлению.

И вот так, с подачи Виктора Емельяновича, летом 1982 года я успешно прошёл предварительный просмотр и подал документы в МВХПУ им. С.Г. Строганова на вечернее отделение по специальности «Художественное конструирование».
Июль выдался жарким во всех смыслах. Приходилось во время экзаменов по рисунку и живописи, которые длились по нескольку часов, выходить из аудиторий в туалет, чтобы намочить футболку холодной водой и затем мокрую надеть на себя. И видимо во время этих водных процедур я немного простудился. А тут ещё на работе просят срочно поехать в пионерский лагерь, и подкрасить указатель на повороте в сторону лагеря. И между экзаменами, накануне дня памяти преподобного Сергия Радонежского, мне на один день удалось выехать в Загорск. Заодно, подумал я, схожу на вечернее праздничное богослужение в Лавру.
Доехав от Загорска до деревни Хомяково, я вышел из автобуса и пошёл по асфальтовой дороге вдоль деревни. Солнце пекло по-африкански. И тут мне пришла мысль разуться и пройти по горячему асфальту босиком, чтобы прогреться в надежде избавиться от простуды. Сняв башмаки, я пошлёпал, подпрыгивая по раскалённому как сковорода асфальту. Дотерпев до опушки леса, я сошёл на обочину, потому что от боли дальше идти не мог. Присев на траве я посмотрел на стопы ног – там были волдыри от ожогов. Свернув на прохладную лесную тропинку, кое как ковыляя я побрёл к лагерю. «Прогрелся называется! Вот дурень!» – ругал я себя. В чаще леса тропинку пересекал небольшой ручей и усевшись на бревенчатый мосток я опустил ноги в воду. Мне даже показалось, что вода закипела от моих раскалённых пяток. Сидя на мостке, я увидел лежащую неподалёку сухую сосновую ветку, которая вполне могла сойти за клюку.
Конечно, своим видом калики перехожего, я рассмешил сотрудников лагеря, которые сидели под навесом на хоздворе и курили. Но потом они прониклись сочувствием, помогли загрузить в лагерную машину банки с краской и отвезли меня к облезлому указателю. После того, как я там всё сделал как надо, машина отвезла меня обратно в лагерь.
Хорошая летняя солнечная погода была мне не в радость – стопы ног горели огнём. Пообедав с пионерами, я сидел на веранде столовой и думал о том, как мне теперь добраться до Загорска, да ещё в Лавре отстоять всенощное бдение? И тут я твёрдо решил, что несмотря ни на что я поеду, будучи абсолютно уверенный в том, что преподобный Сергий обязательно меня исцелит. Я попросил снова отвезти меня к указателю, возле которого была автобусная остановка.
Впервые Троице-Сергиеву Лавру мне довелось посетить, когда в этом самом пионерском лагере я отдыхал летом 1974 года. Это была моя последняя поездка в лагерь, потому что мне уже исполнилось шестнадцать лет, я заканчивал школу и был переростком. Нашему первому отряду устроили экскурсионную поездку в Троице-Сергиеву Лавру. Но, тогда я ещё не был воцерковлённым человеком и никаких впечатлений, кроме эстетических, я не получил. Единственное, что мне запомнилось, так это то, что я заходил в Трапезный храм, и ещё то место в храме, где я стоял.
В этот раз около Троицкого собора, в котором покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского, было столько народа, что, помолившись снаружи возле стены храма я сразу пошёл в Успенский собор, где через пол часа должно было начаться праздничное богослужение. Как ни странно, людей в храме было не так уж много, так что я смог с правой стороны пройти вперёд до самых перил перед солеей и там остановился. Стоял я как на горящих углях, стиснув зубы от боли, и с надеждой глядя на украшенный цветами образ преподобного Сергия, просто повторял: «Преподобный отче Сергие, исцели меня и дай силы выстоять богослужение…»

И вот отворились Царские врата, и архидиакон возгласил: «Восстаните!» Этим возгласом началось всенощное бдение, с пением лаврского хора, узнаваемого с первых нот. К этому времени весь храм уже был заполнен молящимся народом. Служба шла своим чередом. Внутри у меня было так благостно и светло, что преподобный Сергий казался мне каким-то близким родственником, родным дедушкой, с которым я давно не виделся и вот теперь мы снова встретились.
Начинался полиелей. Священство торжественно вышло со свечами в руках на середину храма. Запели величание: «Ублажаем тя, преподобне отче наш Сергие, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.» Прочли Евангелие и началось елеопомазание. Народ зашевелился и стал продвигаться к иконе преподобного Сергия, где стоял какой-то архиерей и святым елеем помазывал народ, оставляя кисточкой крестообразный масляный след на лбу. Вместе со всеми стал продвигаться и я. Пройдя немного я вдруг остановился, как бы очнувшись от происходящего и ничего не понимая – боль в ногах исчезла! Я приподнялся на носочках, опустился на пятки, ещё раз, покачался туда-сюда. Ничего нет, и даже как будто вовсе ничего и не было! К иконе преподобного Сергия я подходил сам не свой, совершенно обессиленный и словно в забытьи …
По окончании богослужения я отправился к железнодорожной станции, по пути ещё раз взглянув на Лавру со смотровой площадки и мысленно поклонившись преподобному Сергию. Купив билет до Москвы, я сел в вагон электрички и поехал домой готовиться к следующему экзамену.








