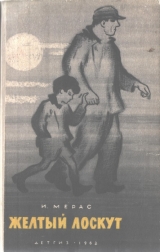
Текст книги "Желтый лоскут"
Автор книги: Ицхак (Ицхокас) Мерас
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
КОЛБАСА

Хоть дни ползут медленно, а время бежит. Кажется, давно ли была пасха, а уже яровые убирают. Гляди, придет и такое утро, когда за окном станет белым-бело от снега, морозец прихватит… Тогда домой. Скорей бы только!.. Ох, и славно же будет! Рванут быстрее кони Суткене, кнут вытянется струной, заскрипят полозья саней, и подкачу я вместе с моим заработком к батрацкой жибуряйского имения.
– Ну что, сынок, дома худо, без дома туго? – чмокнет в щеку отец Диникис, как в праздник, когда братец Алексюкас остался за меня стадо пасти, а я побывал дома.
– Ага, – отвечу, как тогда, уписывая за обе щеки картофельную запеканку с хрустящей, поджаристой корочкой. А потом спохвачусь: – Нет, не худо! Право же!
На самом деле, где можно так отогреться, отоспаться, всласть поесть, как дома?
– Отмаешься нынешний год, и будет! – сказал в тот раз Диникас. – Дома останешься, авось с голоду не помрем. Оно, конечно, спокойнее, меньше на глаза попадаться, пока эта заваруха не кончится. Хоть не знает нас здесь никто, а все же так вернее. Правда, сейчас будто потише стало, не ищут больше евреев.
– Мне нравится пасти. Хорошо там, не жалуюсь, – проговорил я краснея.
– Куда как хорошо! Знаю, знаю, – нахмурился отец, оторвал уголок газеты и стал свертывать самокрутку.
Потом посмотрел на мать. Она тихо сидела напротив, подперев голову рукой, и глядела на меня. Отец вдруг с живостью спросил:
– Мать, а гостинец где?
– Да какой там гостинец, разок лизнуть.
– Давай, чего ждать, больше не станет.
Диникене тут же вернулась из чулана. В руках у нее было что-то завернутое в тряпицу.
Развязала, отвернула один краешек, затем другой и за хвостик вытащила кусок колбасы.
– Хорош гостинец? А? – беспокойно заерзала в углу сестренка Марике.
Молча взял я этот шматок колбасы и хотел было поднести ко рту. Но вдруг спохватился и сказал:
– Так и вы…
– Ишь чего надумал, – непривычно повысил голос отец. – Получил и ешь! Нечего выдумывать.
И откуда у меня такая слабость к колбасе?
Вот у моих хозяев Суткусов колбаса так колбаса! Такая духовитая, нос прямо щекочет. Нанюхаюсь ее вволю каждый день, таскаючи полдник для толоки[7]7
Толока – помочь, работа крестьянским обществом для кого-нибудь за угощение.
[Закрыть]. Нарочно иду медленно, не тороплюсь. Вытащу из кармана корочку хлеба и заедаю этот запах. Вот и получается, будто я колбасы наелся. Мне-то хозяйка полдника не дает. Мол, подпаску ни к чему – не работник ведь!
Вот Александр, тот бы угостил. Я даже ему признался, кто я. А он отвел взгляд в ту сторону, где по утрам восходит солнце, золотя верхушки кленов, и тихо затянул:
Эх, Волга, Волга, – мать родная…
И, глядя вдаль, спросил не то меня, не то себя, не то верхушки кленов:
– А где-то сейчас мои дети?.. – И повернул ко мне голову. – Ты, Бенюкас, меня не чурайся. Я тебе только добра хочу. У меня тоже двое детишек. Девчушки, близнецы… Шалуньи такие. Ты меня не бойся.
– Да я и не боюсь. Чего там? Я еврей, ты русский. Пленный. Оба мы такие.
– Оба такие… Оба, говоришь… Русский, еврей. Постой, давай подумаем. Разве только нам с тобой плохо, а литовцам разве всем одинаково хорошо? Нет, дружок! Только такие, как Суткене, как сыр в масле катаются. Ты еще, дружище, мал, идеология у тебя незрелая. Подрастешь – ума наберешься.
Да, Александр дал бы отведать колбаски. Другое дело, что и ему, как пленному, полдника не посылали. Его морили голодом похлеще моего. Да и для батраков на харчи эта жадюга Суткене больно прижимиста. Лишь толоке в страду подсунет кусок получше. И то разве по доброте сердца? Не раз вдалбливала она мужу своему, Юозапасу:
– Недотепа ты этакий, заруби себе на носу: какая жратва – такая и жатва.
Бывало, принесу полдник, толока уплетает, даже за ушами похрустывает. А мне хоть бы кто кусочек! Где там! Еще и зубоскалят! Дескать, издревле записано пастуху ноги еле волочить, а с голодухи чтобы помер кто, такого ведь не бывало. Опять же, в брюхе урчит – сон не возьмет, за скотиной лучше присмотрит.
Как там с этой идеологией, шут ее знает. Только вот Александра-то уже нет. Однажды ночью сбежал. В лес. Сговорился с малоземельным бедняком Шалкаускасом – и поминай как звали.
А до того пробрался он ко мне в каморку, разбудил:
– Дай листок бумаги и огрызок карандаша, да поживей!
Я зажег лучинку, посветил, и он написал: «Вернутся Советы, иначе поговорим». Литовскими буквами вперемежку с русскими.
Я смотрел во все глаза.
– Ухожу, – объяснил он. – Обижать станут, беги к Шалкаускасам, не таись, расскажи. И ждать не стану, пока наши вернутся.
Листок с надписью сунул в дверную щель сарая, топорищем прижал, а сам словно в воду канул.
Утром, ясное дело, мне досталось. Схватила меня Суткене за глотку:
– Не ты ли, поросенок этакий, ему бумагу дал? Откуда у русского карандаш? Не у тебя ли взял? Вернутся, вишь, большевики, как же!
– Я, – говорю, – ничегошеньки не знаю.
Ни слова не добилась от меня Суткене. На том дело и кончилось тогда.
Но вот однажды… Время близилось к полднику. Скоро приплетется мать Суткене, настырная старуха с морщинистым лицом, горбоносая, остроглазая. Да, никак, уже шлепает.
– Кхе, кхе, пастух, а пастух! Давай я тут побуду, а ты беги, полдник неси. Кхе, кхе…
Я бегом пустился, даже не оглянулся на овец. А они, черти, чуть в свеклу не забрались. Ну и пускай сама гоняет. А то старая карга, когда ее зятек Юозапас меня лупит, от смеха даже трясется.
– Уже и прилетел. Ишь какой прыткий! – встретила меня хозяйка, не успел я отворить дверь кухни. – Овцы на огороде – он пяток не подымет, а домой словно леший шпарит… Не готово еще. Мог бы попасти, так нет того, чтоб старого человека уважить. Таких подпасков у меня сроду не было. Не пастух, а сущая кара господня… Если что и делает, все вкривь и вкось… Смотри, отнесешь еду, оставайся помогать, валки разбивать. Иисусе Мария, работы невпроворот, конца и края не видать, передохнуть некогда, а он прохлаждается… – И пошла, и пошла…
Хозяйка, бывало, как заладит, так до одури. Но я уже столько всякого наслушался, что слова ее вроде гороха об стенку. Шерстит, ну и пускай. Я и ухом не поведу.
Тем более, что я был занят другим… Суткене укладывала в корзину колбасу. Тонко нарезанную, духовитую колбасу… Я втягивал в себя ее заманчивый запах и глаз не сводил с коричневой прозрачной шкурки, туго набитой мелкими кусочками мяса и сала.
– Ступай в чулан, хлеба принеси, а я сбегаю в предбанник за сыром, – велела Суткене.
Насилу подняв на стол огромный каравай хлеба, я посмотрел в окно – дверь бани отворена, хозяйки не видно. А что, если… Всунул руку в корзину, взялся двумя пальцами за тонкий ломтик… Нет, не надо. Не удержусь, тогда и для толоки ничего не останется. А вдруг эта сквалыга хватится, может, пересчитала, кто ее знает.
Как на грех, я споткнулся о лестницу, которая вела на чердак, а на том чердаке окороков, сала, колбас горы…
Не помню, как взобрался наверх. Дыхание перехватило, да так, что с места не сдвинусь. И сколько же тут этих колбас! Толстые, пузатые круги. Жерди даже сгибаются под их тяжестью. Сдается, вот-вот треснут пополам. Набрался я храбрости, обошел раз, другой. Как назло, ни одной штуки початой, все целые! От которой тут кусочек отхватить? Мне бы только самую малость… Разве откусить? Потом бы хлебную корочку потер. Только и всего… Да, маленького кусочка колбаски, если только натирать хлеб, хватило бы, пожалуй, до самого праздника всех святых!
Когда я собрался спуститься вниз – было поздно. Оттуда уже доносилось:
– Пастух, а пастух, и куда тебя нечистый понес? Время полдник нести!
Хлопнула дверь чулана, потом и наружная. Ищет…
– Пастух!..
Но я прямо онемел от страха и не отзывался. Суткене грозно шипела, приближаясь к кухне:
– Погоди, погоди, а не забрался ли он на чердак, пока я в предбаннике замешкалась? Иисусе Мария, не испытывай моего долготерпения… Вроде не воровал до сих пор…
Заскрипела под тяжестью толстой хозяйки лестница.
– Фу, фу!.. – отдувалась она.
А я стоял, оцепенев от испуга. В голове было пусто, только противная дрожь била меня.
– О Иисусе! Он же тут! – вылупила глаза Суткене. Потом сгребла меня, вцепилась в волосы и изо всех сил стукнула лицом о балку. – Так-то за добро благодаришь?
Снова стукнула о балку, а там уже колотила, дубасила после каждого слова по чему попало.
– Вор… в доме! Иисусе! Никак, по миру пустить нас хочет. Вор! И куда только, думаю, колбаса девается… Так вот куда! А жрет, свинья, больше всех. Как семиглавый змей… Самый прожорливый из всех батраков, и все мало, все мало… Вот и держи жиденка, отблагодарит тебя, как же! – лютовала Суткене.
Я стиснул зубы и молчал.
– Ну что, будешь еще воровать, будешь?
Корзину с полдником я едва волочил. Ноги не шли. Даже корочку, как обычно, не стал жевать.
Кто я теперь? Вор… Боже, разве я воровать полез? Только крохотный кусочек хотел отломить, чтобы хлеб потереть…
Когда я доплелся до ярового поля, где работала толока, солнце стояло низко. Завидев меня, все закричали:
– Живей, живей, поторапливайся!
– Смотрите, еле ноги волочит!
– Давно в животе урчит, а он будто провалился…
Но все равно я не в силах был двигаться быстрей.
Лишь только я подошел поближе и руки потянулись к корзине, ругань стихла. А Винцас Шалкаускас подбежал и схватил за локоть:
– Кто это тебя так?
Я понурил голову.
– Весь в синяках и ссадинах, даже глаз не видно. За что же тебя? Не потрафил кому?
Винцас отвел меня в сторонку, посадил на сноп.
– Скажи за что. Нашкодил, скотину упустил?
Винцас говорил со мной так ласково, с таким сочувствием и жалостью, что я не сдержался и заплакал. А потом, давясь от слез, все рассказал.
Винцас не стал меня успокаивать, утешать. Насупился, посерьезнел, даже посуровел. Потом, будто вспомнив что-то, осторожно коснулся пальцем моего лба, носа и спросил:
– Очень больно?
– Очень…
Тогда вскочил и заторопился:
– Идем, идем к нам!.. Хоть тряпку с холодной водой приложим. Полежишь, отойдешь. Тьфу, гадина, ей еще и по стерне босиком побегай на уборке, – так и велела, злыдня?
– Да… Наказала помогать косцам.
– Идем!
Мать Винцаса, не переставая охать и всплескивать руками, принялась за мои ссадины и шишки, прикладывала холодные примочки, чем-то смазывала. Дала выпить какой-то горькой настойки и уложила на лавку.
Когда толока закончила работу, Винцас проводил меня до проселка и на прощание сказал:
– Не тужи, братец, не пройдет ей это даром, – и зашагал не оборачиваясь.
Вернувшись, я не пошел даже ужинать, так все ныло. Забрался в каморку на свой лежак под холодное домотканое одеяло.
Забежала после работы в поле Зосе, служанка Суткене.
– Полежи, полежи, Бенюк, я тебе потом принесу поесть.
Разбудил меня истошный крик хозяйки:
– Господи боже милостивый!
Может, полицаи?
Нет, послышался знакомый голос:
– Здорово, хозяюшка! Неужто не признала?
– Признала… За чем пожаловали, благодетели?
Никогда я не слышал, чтоб Суткене так жалостливо разговаривала. Будто кто помер или при смерти лежит.
– Мы так, запросто, – снова произнес тот же знакомый мужской голос. – Шли и решили завернуть…
Александр!.. Александр!
Я выскочил на кухню. У стола, как богатырь, стоял бывший русский пленный. При свете керосиновой лампы тень его мощной фигуры не только вытянулась во всю стену, но еще и на потолок взобралась.
Я хотел было кинуться, прижаться к нему, но он глянул в мою сторону и бросил:
– Не путайся тут теперь. Ступай-ка в свою каморку.
Я ушел. Сел на край своего лежака, расстроенный. Разве о такой встрече с Александром мечтал я по ночам? И чего это он вроде свирепый со мной? А с хозяйкой уж больно по-хорошему разговаривает. Неужто он попал не к тем, настоящим партизанам? Или не в тот лес подался?
Чуть приоткрыв дверь, я прильнул к щелке.
– Где Юозапас?
– Дрыхнет, где ему быть! – уже спокойнее ответила Суткене.
– Нализался самогону, верно?!
– Что с ним поделаешь! Наскребет горстку-другую зерна и нацедит стаканчик… Может, вам по чарке? – засуетилась Суткене.
– Нет, пить неохота. Но вот если бы колбаска нашлась на закуску, – другое дело.
– Ни крошки! Где там, всю фрицы забрали, – махнула рукой хозяйка. – Мясного ничего не осталось… Сыром могу попотчевать. Отменный сыр, так и тает во рту.
– Благодарствуем, сыра не любим.
– Тогда уж и не знаю… – снова заерзала Суткене и прислонилась к плите.
– Значит, говоришь, ничего мясного нет. Так? А молочное нам не подойдет…
– Нет, я бы с превеликим удовольствием…
– Тогда посидим, отдохнем, и всё.
Молчание.
– А чего пастух-то ваш весь в шишках и ссадинах? – опять заговорил Александр. – Даже в темноте синяки блестят. Пчелы искусали, что ли?
Когда разговор пошел по новой колее, Суткене воспрянула духом. Подошла поближе и, навалившись на стол, доверительно вполголоса начала:
– Сладу нет, вором стал. Вот и схлопотал…
– Ай, ай, ай…
– Ей-богу… Сама поймала. Повадился таскать колбасу. И куда, думаю, девается колб…
– Стало быть, есть колбаса. Только нам пожалела, хозяйка. Ну, как ты с нами, так и мы с тобой. Вацис!
– Слушаю.
– Полезай наверх. Что найдешь мясного, волоки сюда.
– Ничего не осталось, кусочек один…
Заскрипела лестница, ведущая на чердак.
– Погоди, погоди, лучше я сама… Знаю, куда положила. Припрятала кусок для Юозапаса…
– Мы не из господ, слуг нам не надо. Сами как-нибудь управимся.
– Иисусе Мария! Грабят! Воры! На помощь! Святая дева! По миру пустят… Нищими оставят… – заскулила Суткене.
– Цыц! – еле сдержался Александр. – Коли батраков голодом морить вздумаешь, все подчистую заберем. А рукам волю дашь – скотину угоним. Не так мы далеко, проверим и живо порядок наведем.
Суткене сникла. Плюхнулась на лавку и стала хватать ртом воздух, словно в бане на самой верхней полке.
– Стасис! Отведи-ка хозяйку в горницу. И чтоб оттуда ни ногой.
Когда Стасис спровадил хозяйку, Александр отворил дверь моей каморки.
– Где ты там? – спросил он, пробираясь ощупью в темноте.
– Здесь… Здесь я.
Чиркнул спичкой, подошел ко мне. Сел рядом. Сердце сразу отошло.
– Такие-то, брат, дела-делишки. Разукрасила тебя, голубчика… Ну и ну… Чего это ты не пожалился, как я велел?
– Где уж… Лес далеко, Суткене рядом.
– А дошло, даром, что далеко…
– Не Винцас ли Шалкаускас сказал?!
– Шшш… – закрыл он мне рукой рот. Потом спросил: – Хочешь с нами в лес?
– К вам? В лес?
Перед глазами сразу пронесся образ далекого леса, с островком среди трясины и привольным синим небом над ним. В то же время я видел и другое: батрацкую жибуряйского поместья… Диникис сидит, сворачивает самокрутку, подмигивает мне: «Дома худо, без дома туго, а?..»
Мать гладит рукой мои вихры: «Вернулся, сынок…»
– А Диникис, а Диникене? Они мне теперь за родителей, совсем как родные.
– Родители, правильно говоришь, – похлопал меня по плечу Александр. – Ну что ж, твоя воля. А я тебе за дядю, ладно? И не забывай, братец, мы в обиду тебя не дадим. Никогда!
– Товарищ Александр! – послышалось за дверью.
Александр, видимо, хотел еще поговорить со мной, но резко поднялся и вышел.
Я пошел следом. Заглянул на кухню. Господи! Там на рядне целая гора всякой всячины – сало, колбасы, окорока…
Александр поманил меня рукой.
Я подошел, не спуская глаз с этой сказочной горы.
Александр взял из кучи круг колбасы и надел мне на шею, как бусы. Один, потом другой, третий… До самого носа…
– Беги скорей и спрячь, – шепнул он. – Нам пора. Беги, да побыстрей.
Я выбежал и так запрятал колбасу, что ни одна собака не разнюхает.
Себе отломил только крохотный кусочек и засунул в карман, чтобы хлеб натереть.
Партизаны ждали меня.
Когда я, запыхавшись, вернулся в дом, Александр легонько тронул мой шишковатый лоб.
– Будь здоров, дружок. Будь здоров. Спать пойдешь, лампу задуй.
И партизаны, словно растворившись в теплой синеве летней ночи, исчезли. Только с неба глядел месяц да легкий, свежий ветерок доносил хриплый лай хозяйского пса Рудиса.
Я лег, но сон не шел. На сердце было тревожно и грустно. А может, лунный свет мешал уснуть. Тогда я вытащил из кармана шматок колбаски, откусил, потом понюхал, опять откусил, а в ушах, казалось, все еще звенел голос Александра:
«В обиду тебя не дадим. Никогда!»
Серп луны заглянул в окошко, дернул бородкой и дружески мигнул мне светленьким глазком. Я ему ответил тем же.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Меня дернули за плечо. Я вздрогнул и проснулся. Так каждое утро. Будила хозяйка. Торопила выгонять стадо. Очень часто, почти каждую ночь, мне снились немцы и верзилы-белоповязочники. Они выслеживали меня, травили собаками, а я убегал, прятался в канавах и кустах. Сны были страшные, их обрывала тяжелая рука хозяйки. Но всегда чудилось, что это меня схватил полицейский или его огромный волкодав впился мне в плечо своими длинными, острыми клыками и вот-вот уже волокут меня к песчаным ямам… Я вздрагивал.
На этот раз я с трудом продрал глаза. Спросонья ослепил свет керосиновой лампы, и я только глубже залез под одеяло. Поздней осенью и то не дает поспать, ведьма.
Снова почувствовал на плече руку. Но тут же над ухом – голос Зосе:
– Вставай, Бенюк, вставай!
– Разве время скотину выгонять? – спросил я. – Холодно как.
Покосившись на дверь, она ответила:
– Да нет же. Видишь, снег выпал? Первый снег.
Я мгновенно вскочил и натянул штаны. Подбежал к окошку, уткнулся носом в стекло. И уже не мог оторваться от того, что увидел за окном. Даже перестал ощущать, как зябко в холодной, сырой каморке, до того красиво кружились на узкой полоске, залитой светом лампы, трепетные, легкие, словно пух одуванчика, снежинки. Подбежал пес Рудис, встал на задние лапы, передними уперся в наличник. И на его нос садились и таяли белые крохотные звездочки.
Зосе притворила дверь и, встав рядом, обняла меня. Я ощутил тепло ее руки. За окном всё кружились, кружились снежинки, и мне стало так радостно. Казалось, лучше на свете не бывает.
– Пойди в горницу и скажи хозяйке, чтоб домой отпустила. Ведь так порядились – от снега до снега. И пускай отвезут.
Я обернулся к Зосе.
– Вот хорошо бы! Может, сестру найду, – уже год, как не виделись.
Зосе всплакнула.
Не знаю, почему: то ли ее тронул мой голос, ломкий, детский голос, прерывистый от радости и надежды, то ли она просто пожалела меня, сироту, что от ранней весны до поздней осени промаялся на выгоне, а тут еще вокруг шныряют немцы, рыщут их подручные с белыми повязками и никогда не известно, кого черт принесет.
– Зосе, где ты запропастилась битый час? Подымай пастуха. Скоро обед, а он дрыхнет. Пускай хоть коровам корму задаст, – завела свою обычную волынку Суткене. – Скотину корми, пастуха корми… Боже святый!
Теперь-то плевать на брань хозяйки. Похоже, что привык к этому за год, как к хлебу насущному. На рождество и Зосе домой уйдет. И кого тогда Суткене жучить-то станет?
Когда я снова выглянул в окно, Рудиса уже не было, но на первой пороше остались большие и очень отчетливые следы его лап.
Следы! Меня даже пот прошиб. Как идти домой, если на снегу, как отпечатанный, остается след? Вдруг полицаи увидят?! Сразу поймут, что это я, Бенюкас, прошел.
В дверь просунула голову хозяйка:
– Зосе, неси скорей капусту. А ты задай корм коровам. Покуда продерешь глаза, скотина с голоду подохнет.
Когда хозяйка скрылась, Зосе, опуская камень в бочку с капустой, стоявшую у моего изголовья, сказала:
– Не робей только, поскорей убирайся из этого зверинца.
– Я свое отработал, можно и уходить. Дай в последний раз коров покормлю.
Пока таскал коровам корм, я размечтался, как возвращусь домой, в батрацкую жибуряйского поместья, как мы, семеро ребят, усядемся вокруг большой кошелки с картофелем, начистим его вдосталь… Потом Диникене натрет картофель на терке и настряпает вкусных картофельных вареников с творогом… Эх, и варенички же будут, пальчики оближешь! Вдруг к ним еще сыщется топленое маслице или сальце… Хоть разок обмакнуть… А мне, может, еще и шкварка-другая перепадет. Хлеба-то заработал, на всю зиму хватит… Опять же одежонка… Обязаны дать, кроме двух центнеров ржи, картошки, еще и шерстяной домотканый костюм добротной валки с ворсинками. Так уговаривались с хозяевами.
Смущала только моя деревянная обувка – клумпес. Они оставляли след после каждого шага и будто насмехались надо мной. Я и топтал и сбивал их, а они, словно издеваясь, следили за каждым моим шагом. Тогда мне в голову пришла чудесная мысль – возьму-ка метлу и поволоку за собой до шоссе.
Только бы домой, домой!
Когда я вернулся в избу, поставив в сенях большую ольховую метлу, все уже заканчивали есть. Суткене – ни дать ни взять, тройной сноп жита, схваченный перевяслом посередке, – топталась у станка, налаживая тканье. Зосе убирала со стола порожние миски, грязные ложки. Батрак Еронимас не спеша натягивал поношенный, залатанный пиджачишко, топоча сапогами, измазанными навозом. За столом сидели только двое: старуха, мать хозяйки, истово обгладывающая своими кривыми желтыми клыками жирный мосол, да Юозапас, молодой, красномордый, второй муж хозяйки. Взяв лучинку, он расщепил ее и, заострив, стал ковырять в зубах.
Я сел за стол, робко озираясь вокруг. Надо было начать разговор с хозяйкой, да на ум не шло, как к этому приступить. Половником помешал жидкое остывшее варево, отряхнул оставленную на столе деревянную ложку и придвинул к себе.
Суткене покосилась в мою сторону и в первый раз за все время вдруг сказала:
– Зосе, принеси пастуху похлебки погорячей…
Застучали Зосины клумпес, и, схватив миску, девушка улыбнулась мне, дружески подбадривая.
Я отпихнул ложку, еще раз оглянулся и шагнул к хозяйке.
– Уже снег… – сказал я, глядя на нее.
Она перебросила челнок и, с издевкой посмотрев на меня своими колючими глазами, перевела взгляд на Юозапаса:
– Пошел бы в баню, что ли, брага твоя пригорит.
Тот, продолжая ковырять в зубах и не оборачиваясь, лениво кинул:
– Онике присматривает за огнем.
– Как бы не так, присматривает! Что она понимает, мокрая курица! Не возьмет никто порыжелый самогон! Только зерно пустим на ветер.
– Сам выпью, – огрызнулся Юозапас. – И брось командовать. Меня в гроб не вгонишь, как покойного Игнотаса.
Глаза Суткене потемнели и впились в меня.
– Ну, снег… Так что, ежели снег?
– Домой хочу. Уговор-то до первого снега, – ответил я, опустив голову и крутя пуговку своей старой курточки.
Суткене как стукнет мне по пальцам челноком:
– Пуговицу оторвешь, сопляк! Домой, значит, надумал. Еще сто раз этот снег растает. А подморозит, овец на пожне пасти будешь.
У меня слова застряли в горле. Ранней весной, когда еще снег не стаял, я не мало нахолодался, бегая за овцами, а сейчас, в мороз, снова за ними маячить по стерне?!
– Порядились-то до снега, – пролепетал я, не сдаваясь.
– Молчи, не с тобой рядили! – окрысилась Суткене. – Живет, как у Христа за пазухой, так нет… Сунешься домой, не ровен час, сцапают да в песчаные ямы… И жалованье напрасно положила такое большое. Прошлый год у нас был подпасок из евреев, так и половины не дала.
Меня обуял страх, но я не сдавался:
– Уже снег ведь…
– Жалованья не дам, – грубо отчеканила Суткене и стала подстригать оборвавшиеся нити.
Старуха продолжала грызть свой жирный мосол. Я подошел к столу, взял ломоть хлеба, набил им рот. Но кусок не шел в горло. Я с тоской смотрел в окно, где от талого снега посреди двора разлились серые пятна луж.
– Все равно уйду, – бормотал я, и слезы подступили к горлу.
Целый день пришлось таскать хворост. Когда к вечеру я, никем не замеченный, залез за печку, прикорнул, согревая застывшие руки и ноги, из горницы показалась голова хозяйки.
– Зосе! – кликнула она.
Но никто не отозвался. Зосе осталась в хлеву.
Я еще больше сжался, чтобы хозяйка не увидела меня и не стала бранить, что без дела сижу.
Уверенная, что на кухне никого, кроме нее с мужем, нет, Суткене сказала:
– Юозапас, запрягай коня и поезжай в Лёляй…
– А зачем это вдруг в Лёляй? – медленно растягивая слова, спросил он.
– Полицая привезешь…
– Зачем он тебе?
– Подпаска отдадим. И ни одна собака не пикнет.
– Да как же так, все же человек, хоть и еврей…
– Поезжай, раз говорю! – прикрикнула Суткене. – Видно, хочется тебе этому лягушонку жалованье заплатить?
– Вроде и не выходит иначе…
– Я хозяйка в своем доме! Зерно проросло, картошка сгнила, так, может, последний кусок этому сопляку отдашь?
– А если «пленник» дознается?
– Не дознается, дуралей, уже темно, кто увидит. А заявится – скажем, домой отвезли его, пастьба-то окончена.
Я обмер от страха и удивления. Едва опустела кухня, я проскользнул в каморку, подождал, пока Юозапас уедет со двора, и, когда затих стук колес и никого поблизости не было видно, кроме Рудиса, дружелюбно повиливавшего хвостом, я выбрался из хутора и пустился наутек.
Бежал я по вязкому полю напрямик в жибуряйское поместье. И впопыхах даже забыл про спрятанную загодя в сенцах большую ольховую метлу.








