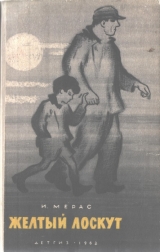
Текст книги "Желтый лоскут"
Автор книги: Ицхак (Ицхокас) Мерас
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Ицхокас Мерас
Желтый лоскут


Я ВИДЕЛ ГРАНАТУ

С грохотом взрывов, оставляя позади дымящиеся груды развалин и развороченные мостовые, фронт откатывался на восток.
Мы должны были уехать, бежать отсюда. Так говорила мама. Но отец все медлил, выжидал. Он служил в банке, всегда ходил с огромной связкой ключей от железных сейфов, в которых хранились деньги и еще невесть какие ценные вещи. Отец ждал, что эти сейфы вывезут, куда-то бегал, что-то доказывал, с кем-то бранился, а дома все больше молчал и только без конца курил – папиросу за папиросой. Но банка так никто и не вывез. Загрохотали орудийные залпы, разрывы снарядов, и городок потонул в пламени пожаров. Мы едва успели выбраться из дому и укрыться рядом в саду.
Полдня мы прятались в этом саду да в канавах по обочинам дороги. Сестренка жалась к маме, я – к отцу. Каким-то чудом ни один осколок не угодил в нас, хотя разрывы ухали совсем близко – рукой подать.
Потом все смолкло.
Когда мы поднялись из канавы, то оказались возле дома переплетчика Менделя.
По улице шли танки с крестами на бортах.
Мамины большие черные глаза стали еще больше. В них трепетали искорки страха. Она все сильнее прижимала нас к себе. А в кармане у отца позвякивали никому не нужные теперь ключи от разбомбленного банка.
Городок сурово глядел из пламени. Улицы дрожали от лязга машин и топота солдатских сапог.
Мне было страшно и любопытно.
Переплетчик Мендель выглянул в окно из-за занавески и только тогда отворил дверь.
– Да хранит вас господь! – воскликнул он, пропуская нас в комнату. – Отчего вы не бежали? Я – человек маленький, старый, и дни мои сочтены. Но вы, реб[1]1
Почтительное обращение (евр.). Здесь и дальше примечания автора.
[Закрыть] Юдель, – сказал он, обращаясь к отцу, – вы не только еврей, но и видное лицо. И со всей семьей у немцев…
Отец ничего не ответил.
Мама, глотая слезы, рассказала все, как было с ключами от банка.
Прежде я нередко приходил к реб Менделю. В его маленькой мастерской всегда пахло клейстером и еще чем-то терпким; на полу лежали кипы переплетенных и растрепанных книг. Мне нравилось смотреть, как он брал стопки листов, сшивал, смазывал, подрезал, и из беспорядочной бумажной груды рождалась красивая, плотная книга с золотым тиснением на переплете. Эти разрозненные, растрепанные листы и готовая красивая книга мне всегда почему-то напоминали соседского младенца. Вот он лежит, сучит ножками, машет ручонками, а реб Мендель берет его, туго пеленает и аккуратно свивает.
Переплетчик любил петь печальные еврейские песни и вперемежку рассказывать забавные истории. При этом он сам смеялся так, что его белая борода подрагивала, а я тянулся схватить ее серебристые пряди. Тогда он начинал еще пуще смеяться, в отместку пытаясь мазнуть мне по носу клеем…
И никогда мне не приходило в голову, что реб Мендель – старый человек.
Но сейчас, в зловещих отсветах пожаров, рассеявших обычный сумрак комнаты, я вдруг увидел, что реб Мендель уже старый-престарый: лицо его изборождено глубокими морщинами, глаза ввалились и руки трясутся. Никогда раньше не замечал я, что у него такая сгорбленная спина и совсем седая борода…
Все время, пока с грохотом и лязгом мимо проходили фашистские войска, я, дрожа всем телом, тянулся к отцу, старался в его глазах прочесть, что будет дальше, и ни одной слезинки не проронил. А сейчас, глядя на постаревшего Менделя, я почувствовал, что к горлу подкатил комок…
– Куда ты? – испуганно воскликнула мать.
– Во двор, сейчас вернусь, – ответил я.
Пока взрослые продолжали разговор, решая, что предпринять, как быть дальше, я проскользнул в дверь и тут, забравшись в укромный уголок под навесом, дал волю слезам, скорее безотчетно чувствуя, нежели понимая, что сегодня не только постарел реб Мендель, но кончилось и мое детство.
В это время скрипнула калитка, и с улицы вошел какой-то парень. Оглянувшись, он одним прыжком подскочил к дому, вдоль стены прокрался к ступенькам, которые вели в сени, подсунул что-то, выпрямился и воровато стал озираться по сторонам.
Это был сын почтового чиновника, гимназист Миколас. На его левом рукаве белела повязка.
Будь то не Миколас, я бы вылез из своего тайника и спросил, чего это он делает под чужими крылечками. Но Миколаса я терпеть не мог и к тому же боялся его. Он частенько распевал гадкие частушки про евреев. А однажды, когда я возвращался из школы, он выхватил мои книги, кинул наземь и затоптал их в грязь.
Когда Миколас убрался со двора, я подбежал к ступенькам. Но там ничего не оказалось, кроме зеленой жестяной бутылки. Из ее затычки торчало колечко с металлической цепочкой. Такую странную бутылку мне видеть раньше не доводилось. Хотел было потянуть за колечко, да побоялся, как бы чего не натворить. Скорее всего Миколас эту бутылку взял не спросясь, а теперь вот вернул ее на место.
Но тут послышался испуганный голос мамы:
– Беня, Беня!..
– Я здесь, мама. Погляди, какая бутылка! Никогда такой не видел.
– Куда ты запропастился? Иди сюда быстрей! – продолжала взволнованно мама, втаскивая меня в комнату. – Надо уходить, а тебя нет. Время-то теперь какое…
Мы распрощались с реб Менделем. Он заморгал влажными глазами.
– Да благословит вас всевышний! Только полем идите, полем… Фронт ведь близко…
Вдруг в сенях хлопнула дверь.
– Руки вверх! – гаркнул, входя, немец. – Евреи?
Мы подняли руки.
– Евреи! – ответил отец, шагнув вперед.
– Ни с места! Сдать оружие! – скомандовал другой.
Немцев было трое. Четвертый – гимназист Миколас. Они стояли, сгрудившись в дверях и вытянув шеи. Глаза у них горели точь-в-точь как у котов, выслеживающих из засады воробьев. Запыленные, в серо-зеленых мундирах, с направленными на нас дулами автоматов…
А на пряжке ремня полукругом: «Gott mit uns[2]2
Бог с нами (нем.).
[Закрыть]».
Вот они какие вблизи… Так почему же бог с ними?
– У нас нет оружия, – наконец вымолвил переплетчик.
– И откуда ему быть у нас? – сказал отец.
Я тоже поразился. На самом деле, откуда у отца или старого Менделя может быть оружие? Они же не военные. У меня, правда, было ружье, игрушечное, но оно осталось дома.
Начался обыск… У отца и Менделя отобрали часы, разворошили комод, обнюхали все уголки.
Никакого оружия не было, нашли только серебряные чарки для вина, которые хранились в застекленном шкафчике от пасхи до пасхи.
Потом мужчин выгнали во двор, а нам приказали оставаться в комнате. Охваченные страхом и тревогой, мы кинулись к окошку. Солдаты носками сапог чуть поковыряли землю вдоль забора, а гимназист ринулся к крылечку, вытащил из-под ступенек ту жестяную бутылку.
– Вот граната! – закричал он. – Граната!..
– Кто здесь хозяин?
– Я, – спокойно ответил Мендель. – Это не наша граната, я ее никогда в глаза не видел.
– Молчать, проклятый еврей! – рявкнул другой немец, должно быть старший. – Марш!
Он пихнул старого Менделя так, что тот едва удержался на ногах. Отец кинулся к немцу… Глухо прозвучал выстрел. Правая рука отца повисла. Вся четверка бросилась на отца. Его свалили на землю…
Мама крикнула не своим голосом:
– Юдель, Юдель!..
Сестренка заплакала. Я стоял у окна, словно пораженный громом, не в состоянии двинуться, ничего не соображая, ничего не слыша. Стоял и смотрел, как избивают отца, почти мертвый от страха, что его могут убить…
Отца не убили. Окровавленного, избитого заставили подняться и скрутили ему руки. А реб Менделю на шею повесили гранату, найденную под ступеньками крылечка.
И погнали отца и переплетчика Менделя в сторону еврейского кладбища. Отец обернулся, посмотрел на окна.
– За меня не бойтесь… Бегите отсюда… Прощайте, родные мои… – беззвучно шептал он, пытаясь при этом плечом вытереть окровавленное лицо.
Тогда я вырвался во двор и закричал:
– Подождите, остановитесь! Гранату подсунул Миколас. Я видел! Это не наша граната! Не наша!..
Тут Миколас подскочил ко мне, замахнулся револьвером. Мелькнула белая повязка на его руке, и у меня потемнело в глазах…

КОГДА НЕ ХОЧЕТСЯ ЕСТЬ

В те дни самым большим горем было наше. Мы потеряли отца. И жили мы теперь не в городке, а на небольшом хуторе, который раньше арендовал Лейзер, в Мажунай. Только вот назывался он сейчас иначе – лагерь.
Подобных новоиспеченных лагерей вокруг городка Жибуряй появилось еще несколько. Сюда согнали таких, как мы, то есть тех, кто не успел бежать в ту сторону, куда отошли наши.
Мужчин оставили в Жибуряй, в бывшем складе Зунделя. Только крохотные оконца склада забрали вторым рядом решеток.
У нас решеток не было. Да и как они могли быть, если двор-то без окошек!
Не было окон и в тесной клети и в узком сарае с широким дверным проемом, где едва уместилось несколько женщин с детьми.
У нас решеток не было. Зато была ограда из колючей проволоки. Ею был обнесен двор. И стерегли нас молодчики с белыми повязками на рукаве и длинными винтовками на плече. Там, по ту сторону изгороди, они бражничали, горланили, стреляли ворон, а здесь ходили надутые, как индюки, всюду совали свои носы, вылавливали девушек и куда-то уводили.
Женщины не переставая плакали. А мы с мамой – нет. Мы уже выплакались. Проходя мимо нас, люди опускали голову и умолкали на полуслове. Наше горе было самым большим.
Но исподволь росло другое чувство – голод.
– Кто умер, – мертв. Ему уже ничего не нужно. А живой человек, он есть хочет, – пытался шутить реб Мойше, единственный мужчина в нашем лагере. – Так что, как ни вертись, хвост все позади, – неизменно заканчивал он.
В закромах Лейзера не осталось ни зернышка, а на огороде, который частично оказался за колючей проволокой в лагере, – ни картофелинки, ни даже самой вялой редиски; и, как назло, ни один прошлогодний клубень не дал побега хоть какой ни на есть молодой поросли.
Каждое утро спозаранку, еще солнца не видать из-за кромки леса, в дальнем конце огорода, в густых зарослях крапивы, мы находили буханку хлеба или еще чего-нибудь… Но хлеба было мало, а ртов так много.
И однажды, когда ветер донес запах колбасы, я тронул маму за руку, посмотрел ей в глаза и против своей воли сказал:
– Я есть хочу…
Мама молча притянула меня к себе. Я и не ждал от нее ответа. С того самого дня, как расстреляли отца, она почти не разговаривала, только изредка тихо-тихо с ее губ срывалось слово-другое.
Рядом с нами, прислонившись к стенке клети, сидела молодая женщина, Бейльке, с грудным ребенком на руках. Худая, с ввалившимися щеками, в расстегнутой кофточке, она то прикладывала малютку к груди, то укачивала, баюкая его. Ребенок на мгновение затихал, опускал ручки, но потом еще сильнее принимался чмокать ротиком, теребить и царапать грудь матери.
– Воды побольше пей, Бейльке, воды, говорю я тебе, – взволнованно убеждала ее мать, беззубая, старая женщина. – От воды молока прибавится.
Вода! Вода Мажунайского колодца… Что может быть вкуснее? Пили ее все, и стар и млад. Пили по нескольку раз в день, и хотелось еще. Пока из колодца вытаскивали полное до краев ведро и капли со звонким всплеском падали обратно в его темную глубину, вокруг сруба выстраивались люди. Томимые жаждой и голодом, они ждали живительной влаги.
Земля сочувствовала нам. Земля щедро поила нас водой, и оттого-то, может, так жалобно стонал колодезный журавель, что не мог наполнить ведро ржаным черным хлебом, или сухими корками, или хотя бы картофельной шелухой…
А небо щетинилось, лохматилось рваными, словно клочья кудели, облаками. Они слились и закрыли ясное солнышко сплошной темно-сизой тучей, которая вскоре пролилась крупными каплями холодного дождя.
Мама развязала небольшой узелок – все наше имущество, – вынула оттуда мое пальтишко и теплое платьице сестренки.
В этот не по-летнему холодный день мы все уверовали в чудо, – в кармашке своего платья сестренка нашла сложенную вчетверо красную ассигнацию, тридцатку.
Говорят, что одна беда – не беда. Оказывается, и одно чудо – не чудо. Следом произошло и второе: лагерная стража отпустила нас – маму и меня – в город, хлеба купить. Сестричку оставили в лагере. Как залог.
Все нас провожали до ворот и еще долго стояли у ограды, глядя вслед.
Дорога была длинная – пять километров. А может, и не такая длинная, но мы были голодные. Пройдем немного, и я спрашивал:
– Мама, ты не устала?
– Устала, – шептала она в ответ.
Мы ненадолго присаживались на мокрую траву у обочин канав – и опять в путь.
Кругом тишина, покой, может, и войны-то нет? Пряно пахнет сеном, вдали на лужайке желтые заплатки курослепа, одуванчиков. Желтые заплаты…
У нас на груди тоже желтые заплаты – лоскуты в виде шестиконечной звезды.
Значит, война…
Только две недели прошло с того дня, как она началась. А сдается, что давно-давно носим мы эти желтые лоскуты… Носим с того самого дня, как в лагерь на велосипеде привезли такой приказ…
Родной городок встретил нас руинами и голыми, черными от дыма печными трубами. Они торчали торчком, будто кто-то курил огромные глиняные люльки и потом воткнул их в землю чубуками вверх.
А школа где? Она ведь стояла на пригорке, у шоссе!.. Светлая, с широкими окнами… И от всего этого ничего не осталось. Даже дымохода.
Почти дотла сгорел весь городок. Лишь кое-где виднелись редкие домишки, хоть и закоптелые, но все же целехонькие. Вот бы нам поселиться в такой, пускай и задымленной, хибарке… И славно же в ней, наверно, жить. Без колючей проволоки…
Вдруг грубый окрик и здоровенный кулак толкнул нас.
– Жидам по тротуару ходить запрещено!
Мама остановилась как вкопанная, только крепко обхватила меня. Я почувствовал, как быстро-быстро колотилось ее сердце и трепетало все тело.
И как мы могли забыть, что мы уже не люди!
Дальше пошли по мостовой.
Хорошо хоть по ней ходить можно.
Мы торопились в поисках какой-нибудь лавчонки, но там, где раньше были лавки и ларьки, сейчас остались лишь наглухо закрытые ставни, а то и груды развалин.
В полном изнеможении, уже совсем потеряв надежду, мы вдруг увидели за углом на улице толпу людей. Оттуда доносился знакомый запах…
– Мама, селедка!..
Мы бегом кинулись к ларьку. Увидев наши желтые звезды, люди невольно расступились.
– Мне парочку… – прошептала мать.
Продавщица, не глядя в нашу сторону, отрезала:
– Евреям продавать не буду! – но тихо добавила: – Запрещено.
– Я уплачу. Хоть одну, хоть кусочек… – умоляла мама, протягивая продавщице чудом найденную тридцатку.
– Отпускать не буду! – опять громко огрызнулась та.
Мама, верно, не заметила, что рядом на тротуаре, не спуская глаз, за всем происходящим наблюдал полицейский.
Из маминых рук выпала красная ассигнация. Я едва успел подхватить ее.
Потом мы поплелись назад в лагерь, где нас с таким нетерпением ждали…
– Бенюк! – вдруг услышал я знакомый голос, и чья-то рука легла мне на плечо.
– Римук, здорово! – обрадовался я.
Вот так неожиданная встреча! Да еще с кем? С лучшим, можно сказать, закадычным дружком, сыном нотариуса. Пока их семья жила с нами в одном доме, мы с Римукасом были неразлучны и целые дни проводили вместе. Но даже потом, когда семья нотариуса переехала на другую улицу, мама всегда знала, где искать меня, если я пропадал до позднего вечера, – у Римукаса.
– Куда идешь? – спросил он.
– Домой… Нет, в лагерь. Мы ходили за хлебом.
– А где же хлеб?
– Не достали.
– Не достали? Вот так да! Пошли к нам. У нас в кладовке запасы – во какие! – И он как можно шире развел руками.
Я вопросительно посмотрел на маму, но она не успела ответить.
– Римук, Римук! – раздался женский голос, и тут же появилась запыхавшаяся от бега жена нотариуса. Она, видимо, очень спешила и схватила сына за руку. – Идем, идем скорее!
– Это же Бенюкас! Им хлеба надо…
– Да замолчи ты! – задыхаясь, выпалила жена нотариуса и силой потащила за собой моего лучшего дружка. – Не ровен час, увидит кто… Знаешь, что тогда будет? Знаешь?!
Римукас затрусил бочком-бочком, то и дело оборачиваясь удивленно и испуганно.
Я взглянул на маму и тихо сказал:
– Мама, мне уже не хочется есть…
И снова потянулась длинная лента шоссе, ведущего в Мажунай. И снова, едва пройдя немного, я спрашивал:
– Мамочка, а ты не устала?
– Устала, – еле слышно отвечала мама, и мы останавливались для передышки.
Так ни с чем мы бы и вернулись, если бы… не шум у перелеска, на полдороге от лагеря. Оттуда доносились звуки губной гармоники, громкий смех, стук жестяной посуды вперемежку с одиночными выстрелами. А вскоре меж деревьев замелькали сизо-зеленые мундиры. Немцы… Но дорога была одна. Только вперед. Ни вправо, ни влево, ни назад.
Не оглядываясь по сторонам, втянув головы в плечи, мы старались незаметно проскользнуть мимо, однако тут же услышали грозное:
– Halt! Halt![3]3
Стой! Стой! (нем.)
[Закрыть]
Вмиг нас окружили. Оглядывали с ног до головы, будто мы свалились с луны.
– Juden?[4]4
Евреи? (нем.)
[Закрыть]
Перестали трещать выстрелы. Только аппетитный запах супа доносился из дымящихся солдатских котелков.
Суп…
– Хочешь есть? – спросил меня по-немецки подошедший солдат с револьвером в руке.
Я не осмелился поднять на него голодных глаз.
– Я знаю, что надо делать! – хлопнул он себя ладонью по лбу и побежал куда-то, но тотчас же вернулся с кирпичиком хлеба в руках. – Ваш сын хочет есть, – обратился он к маме. – Я вам отдам хлеб, только с условием. Положите его себе на голову и станьте там у рва. Идет?.. Только смотрите, чтоб хлеб не свалился! – добавил он осклабившись.
Зачем это? Я ничего не понимал. Мама утвердительно кивнула. Немец поставил хлеб маме на голову, проверил, хорошо ли держится, и начал отсчитывать шаги в обратную сторону.
Мама застыла. Я съежился и закрыл лицо руками.
– Чем не Вильгельм Телль? – загоготал фашист, и вся солдатня вторила: «Ха, ха, ха!»
Гулко прогремел выстрел, даже в ушах зазвенело. Я с трудом оторвал заледеневшие ладони от глаз.
Мама продолжала стоять, а буханка хлеба лежала в грязи на дороге.
– Мама! Мамочка!..
Я подбежал к ней, но она не шевельнулась и, словно окаменев, уставилась в одну точку.
– Идите, идите, – подал голос один из солдат, стоявший все время в сторонке.
Мама подняла хлеб, и мы пошли.
Она очистила с поджаристой корки черные комочки приставшей грязи, отломила горбушку и подала мне.
Есть мне теперь совсем не хотелось, но, взглянув на маму, я откусил кусочек и нехотя стал жевать. Жевал и не чувствовал вкуса, только ощущал, как хрустят на зубах песчинки.

ТОЛЬКО ОДНА МЕЛОДИЯ

Туман поднялся над речкой Жвине и пошел стелиться вдоль ее левого берега. Сначала вроде прозрачной легкой дымки, он, все сгущаясь, превратился в пушистое белесое облако. Зыбкое и подвижное, оно быстро затянуло побережье, даже речки не стало видно, и наконец, просочившись сквозь кусты, заволокло лужайку, а там вмиг докатилось и до нашего хутора.
Из сарая вышел Мойше Кровельщик. Остановился посреди двора, потеребил пальцами черную как смоль бороду и проговорил:
– Радуйтесь, женщины, пляшите, дети, – завтра будет погожий день!
– Погожий? И солнце? – подбежал я к Мойше.
– По солнцу стосковался?
– Ага…
– И солнце, обязательно будет солнце. Только, может, увидим его, а может, и нет…
– Отчего не увидим, раз тучи рассеются?
– Да ты не огорчайся, это я так себе. Мало что старику в голову взбредет… – А потом добавил: – Мне и сейчас уже жарко.
– И мне!
Обложные тучи еще скрывали небо, а густая мгла застелила речку, но я ничего этого уже не замечал. Я будто забыл про ненастье и дожди, так донимавшие нас последнее время, и мне лишь чудилось завтрашнее солнце, его горячие лучи. Проворнее зашевелились озябшие пальцы, приятное тепло разлилось по всему телу.
Я верил Мойше. И все верили ему. Одна за другой из сарая и клети выходили женщины, а за ними высыпали ребятишки. Видно, и им уже стало теплее. Расселись кто на травке, кто на опрокинутой колоде, а кто на трухлявых досках. Женщины постарше открыли свои толстые замусоленные молитвенники и нараспев принялись читать псалмы.
Так каждый вечер они взывали к богу, уповая на его помощь. Просили, молили, упрекали и опять молили. Но до сих пор он оставался глух к мольбам. Может, наши молитвы не могли пробиться сквозь толстую завесу туч? Тогда авось нынче, в канун погожего дня, они найдут в небе хоть самую малую щелочку. А может быть, завтра, когда уже ничто не заслонит солнца…
Женщины тянули псалмы, то и дело отрываясь, чтобы утихомирить плачущих детей; скорбные, надсадные голоса дрожали от слез и горькой обиды, от мук и страха неизвестности. Они просили если не воли, то хотя бы, чтоб их поскорей отправили в Люблин на работы, как это не раз обещали.
Мойше Кровельщик в молениях участия не принимал. Сегодня, как и в прежние вечера, он тихо сидел, опираясь на свою толстенную дубовую палку, и, покачивая головой, глядел вдаль.
Мойше считали человеком с причудами. Это я и раньше слышал, еще до войны. Только не понимал почему. К примеру, отчего это к его имени прибавили Кровельщик, а не реб, как принято именовать уважаемых старцев у евреев? Неужто оттого, что он в синагогу не ходил? Но мацу-то он на пасху всегда ел. А может, потому, что в таком преклонном возрасте – а ему было за семьдесят – он совсем как молодой лазил по крышам и покрывал их гонтом даже лучше других кровельщиков? Или потому, что волосы у него были белые-белые, а борода черная как уголь? Над этим он и сам нередко смеялся:
– Борода, вишь, моложе головы – вот и поседеть не успела.
Неловко сознаться, но и я, был грех, вместе с другими мальчишками часто гонялся за ним, выкрикивая злую дразнилку:
Чертова борода.
Как смола, черна.
Чертова борода,
Как галка, черна.
Но Мойше этого мне не припоминал. То ли забыл, то ли, как и я, вспоминать не хотел.
Здесь, в лагере, я убедился, что он вовсе не чудак, и не Мойше Кровельщик, а настоящий реб Мойше, отец Берке. Стоило заглянуть в его добрые карие глаза, и сразу делалось легче и спокойнее на душе.
Только вот страшновато становилось, когда он двигался. Высокий и такой худущий, чуть не тоньше своей палки, ходит и сгибается. Казалось, вот-вот надломится, как сухая ветка. Верно, потому его, единственного мужчину, и оставили в нашем лагере.
Пока женщины читали псалмы, мы с ним устраивались где-нибудь поодаль в укромном уголке. Реб Мойше усаживался, опираясь на свою палку, а я – рядышком. Вперившись в одну точку, он раскачивался и думал свою Думу.
Я знал, о ком думал старик в эти минуты. О своем сыне Берке, о его судьбе.
Мойше молчал, но лицо его все время менялось. Губы то раскрывались в широкой улыбке, то сжимались. И печальные глаза устремлялись к кому-то невидимому с упреком, а в разлете бровей залегала глубокая складка тревоги. Но миг, и лицо снова светилось улыбкой. Да ненадолго.
Опять тесно смыкались губы, вскидывалась борода – Мойше ненавидел.
Тогда я легонько касался его руки и просил:
– Расскажите, реб Мойше.
– О чем же тебе рассказать-то? – спрашивал он, хотя отлично знал, каким будет ответ.
– О Берке.
– О Берке? Тебе еще не надоело слушать?!
– Нет, не надоело!
Он начинал всегда одними и теми же словами, будто утешая самого себя:
– За правду пошел мой Берке… За правду…
Помолчав, он продолжал:
– Давно, еще совсем мальчонкой, щупленький, вихрастый, вроде тебя, тоже все правду искал. Пытливый, неугомонный такой… Все ему знать хотелось. Бывало, сядет со мной за стол и ну приставать с вопросами: «Отчего, говорит, у Левиных фабрика, автомобиль, а ты все по крышам да по крышам лазишь, без роздыха гонтину к гонтине подгоняешь, а денег у нас ни копья? Это что, справедливо? Пусти и меня на крышу, авось оттуда виднее…» Хорош бы я был. А вдруг, не дай бог, свалится, ногу сломает или и вовсе насмерть разобьется?.. Ни-ни, ни боже мой. Единственный сын, сирота… Без матери… И вишь что надумал – на крышу!.. Шли годы. Пришел сороковой. Раз он и говорит мне: «Знаешь, отец, хоть я и не лазил на крышу, а правду все равно нашел». – На этом месте реб Мойше всегда глубоко вздыхал. – И на тебе, война! Мало горя видели. Первый день войны… И что же сделал мой мальчик, как ты думаешь? Взял винтовку, пришел домой и говорит: «Тяжело мне, отец, тебя оставлять одного… но сам видишь… Ухожу». Ну и что же ты думаешь? На крышу я его не пускал, а теперь прямо на фронт идет. Что было делать? – Мойше опять глубоко вздохнул. – Благословил. Как благословил? Да очень просто, как положено отцу. Обнял, поцеловал в лоб и сказал: «Иди, сынок. Только воротись живым и здоровым». Что я мог поделать? Сын ведь пошел воевать за правду.
Так Мойше кончал свой рассказ.
Тогда я принимался за расспросы:
– Говоришь, с винтовкой ушел?
– С винтовкой, дитя мое. Взял на плечо и ушел.
– Плохо.
– Отчего же плохо? – удивлялся он.
– С винтовкой, видишь ли, пока нацелишься… Я бы ему лучше коня дал да острую саблю. Ворвется Берке в самую гущу немецких полчищ и давай рубить направо, налево… Всех уложил бы до одного.
– Недурна и острая сабля, – соглашался Мойше.
– Ну конечно, – продолжал я, свято веря в это, – Берке, наверное, дали коня и острую саблю.
– Дали, наверное дали… – Мойше опять смотрел в одну точку. – Несется теперь мой сынок, как сокол, и крушит врага.
Тогда я придвигался совсем близко к Мойше и испуганно шептал:
– Не ранили бы…
Старик ничего не отвечал. Молча ждал, пока женщины закончат псалмы, и тогда приносил свою скрипку. Скрипку, что всегда пела только одну мелодию.
Никогда не слышал я другой такой мелодии, которая печалила и утешала, веселила и вызывала слезы, которая так много говорила без слов.
Вот и сейчас, когда женщины устали от чтения псалмов, реб Мойше взял в руки свою старенькую, потертую певунью-скрипку и коснулся смычком ее струн.
Все затихли. Ни слова, ни шепота, даже грудные младенцы и те перестали пищать. Только одна эта задушевная мелодия, срываясь с туго натянутых звонких струн, лилась, пробивалась через мглу хмурого вечера и далеко разносилась во все стороны от лагеря…
Мойше играл, и лицо его все время менялось. Губы то раскрывались в улыбке, то сжимались. Печальные глаза устремлялись к кому-то невидимому с упреком, а в разлете бровей залегала глубокая складка тревоги, вскидывалась борода.
Мойше ненавидел.
И мне казалось, что старик рассказывает о нас и о своем сыне.
Вот скрипка тяжко застонала – не от нашей ли боли? А может, стонет на поле брани раненый Берке? Может, бойцу так худо, что он опустил саблю…
Дерись смелее, Берке! – хотелось подбодрить его.
Но вот скрипка издает вздох облегчения и рассыпается веселыми бисерными нотками, – это звучат взмахи сабли.
Мойше устремил свой взгляд вперед, туда, где меж тяжелых сизых туч появился узенький просвет, розовый от заходящего солнца. И снова полилась песня, зовущая к борьбе.
Мелодия оборвалась.
– Чего вы слезы льете, женщины? – воскликнул Мойше и поднял руку со скрипкой. – Еще придет наш день, придет! Только не надо вешать голову. Не надо отчаиваться и опускать руки.
– Молчать! – вдруг бешено рявкнули у ворот. – Митингуете?
Во двор ввалилась орава с белыми повязками. Впереди шел их вожак и немец в черной форме с черепом на рукаве мундира.
Меня пробрал мороз… Где же горячее солнце, что обещал нам реб Мойше? Зачем ждать завтрашнего дня, пускай бы оно сейчас показалось…
– Стой! Ни с места! – взревел вожак, увидев смятение среди женщин.
Потом, подбоченясь, раскорячился против реб Мойше и загнусавил, коверкая на еврейский лад слова:
– Ну, чертова борода, митингуешь? Коммунист! Какой такой ваш день еще наступит? Их день, – показал он на женщин, – наступит в Люблине – ха, ха, ха! – а вот твой, видать, уже сегодня!
И, повернувшись, вытянулся в струнку, взял под козырек и что-то стал объяснять немцу. Тот утвердительно кивал головой, а потом вскинул руку и визгливым голосом заорал:
– Лопату!
– Лопату! – эхом повторил белоповязочник. – Живо!
Когда принесли лопаты, старший ткнул одну Мойше в руки и указал на ближнюю лужайку:
– Иди копай!
Мойше с удивлением поднял свои карие глаза.
– Копай! Яму копай! Такую, чтоб тебе впору.
Реб Мойше печально улыбнулся и принялся за работу – спокойно, не спеша, будто давно ждал такого приказа.
Когда неглубокая яма была вырыта и старик оперся на лопату, чтоб смахнуть со лба пот, немец снова взвизгнул:
– Разрешаю последнее слово!
– Разрешаю последнее слово! – эхом повторил верзила с белой повязкой.
Реб Мойше окинул нас своим грустным взглядом, словно прощаясь, потом взял в руки скрипку… Треснуло дерево. Я вздрогнул – мне показалось, что это надломился сам старик.
Но нет! Он снова всех оглядел и тихо произнес:
– Не склоняйте головы, не опускайте рук!
Затряслись плечи у женщин, и реб Мойше сказал уже громче:
– Не плачьте, женщины! Наш день придет, непременно придет! Вы вспомните Мойше Кровельщика… Красная Армия принесет вам избавление!
И в одно мгновение, да так стремительно, что я едва успел разглядеть, старик взмахнул лопатой и ударил черного немца по черепу. Тот взвыл от боли и, левой рукой держась за голову, правой нажал на взведенный курок револьвера.
Реб Мойше пошатнулся, оперся о край ямы, будто отдыхая, и тут я заметил, что его желтая звезда на груди, этот желтый лоскут, с левого краешка начал темнеть.
– Мойше, реб Мойше, встань! – завопил я не своим голосом.
Женщины испуганно ахнули, подхватили меня и втащили в самую гущу толпы.
Я поднял голову, чтоб еще раз встретить взгляд своего доброго друга, но увидел только сплошную стену спин да над головами чуть посветлевшее, мглистое небо.
Значит, завтра и впрямь будет погожий день.
В ушах у меня звенели последние аккорды скрипки. Они звали в бой. Это сражается Берке! А мы? Чего мы стоим и ждем?
Женщины уже не плакали, не вздыхали, даже не молились. Они стояли плечом к плечу, живой стеной заслоняя детей.
Может, и у них в ушах еще звучали последние звуки скрипки реб Мойше…








