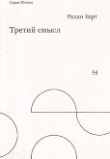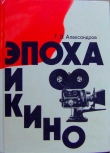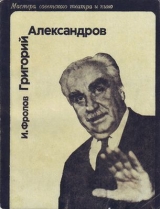
Текст книги "Григорий Александров"
Автор книги: И. Фролов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
Мы не знаем, были ли героини Орловой комсомолками, но всем ходом сюжетного преображения персонажа и глубоким психологическим осмыслением ролей она умела выразить передовое общественное мировоззрение.
Большинство героинь Орловой не проходят неизменными от начала до конца. Перед нами рост, развитие, путь к признанию и славе... Актриса показывала женщин, жизненный путь которых менялся под воздействием преображающих лучей революции. Большей частью это были девушки из «глубинки», из народа, которые вырастали в знатных людей. Народная духовная фактура создаваемых актрисой образов, если можно так выразиться, делала её органичной в любом обличье. В начале фильма «Светлый путь» у зрителя не возникало ощущения, что перед ним одетая в крестьянскую одежду интеллигентка, а в конце он не сомневался в наличии у этой уверенной в себе женщины-инженера соответствующих профессиональных и интеллектуальных данных. Причем Любовь Орлова не старалась скрыть некоторые отрицательные черты своих героинь: неуклюжесть, недостаток культуры... Наоборот, она по-опереточному подчеркивала их, словно бы говорила зрителю: смотри и запоминай, какая я сейчас, а потом сравни с тем, какой я буду в конце фильма! Как правило, все неуклюжие замарашки Орловой обладали здравым смыслом, лукавством, неиссякаемым оптимизмом, которые и позволяли им добиваться признания.
В «Волге-Волге» неспособность Стрелки мириться с несправедливостью ставит ее во главе самодеятельного коллектива. Простота и наивность уживаются в ней с настойчивостью и упорством. По-женски доверчивая и уступчивая, она оказалась человеком завидной силы воли, не пасующим перед препятствиями. В нелегкой борьбе с Бываловым Стрелку поддерживает святая вера в то, что она борется за правое дело. А правда рано или поздно возьмет верх!
В «Светлом пути» актрисе удалось убедительно показать не только начальный и конечный этапы перерождения, но и сам сложный процесс. Хотя судьбой и характером Таня Морозова отчасти напоминает Анюту из «Веселых ребят», актриса внесла в образ немало своеобразного, свежего.
Несмотря на полное внешнее сходство героинь «Весны», Любовь Петровна сумела показать их отличительные черты. Печатный шаг и властные жесты достигшей известности ученой и неуверенная походка, робкая жестикуляция и эмоциональная непосредственность начинающей артистки. Перед нами два человека, которых не спутаешь, даже когда они стоят рядом, в одном кадре. Но Орлова должна была подчеркнуть не только непохожесть своих героинь, но и сходные признаки. Ведь Шатрова призвана исполнить роль ученой, перевоплотиться в нее. С этой сложной и деликатной задачей Любовь Петровна справилась великолепно. Вот молодая актриса в роли Никитиной старается казаться серьезной, «сушеной акулой», как прозвали сотрудники института своего коллегу, но не может найти верный тон. Она то переигрывает, то срывается на непосредственность. Трудно найти более убедительные штрихи, подчеркивающие различия в характере актрисы и ученой.
Во время войны в «Боевых киносборниках» наряду с созданием оригинальных типажей, вроде Антоши Рыбкина, как бы «воскресли» лучшие образы советского довоенного кино. И вот вместе с такими персонажами, как Чапаев, Максим, в одном из киносборников (№ 4, авторы конферанса А. Раскин, М. Слободской и Г. Александров, режиссер Г. Александров) появилась Стрелка. Она, как и прежде, ездила на велосипеде, но теперь уже по передовой. Кроме толстой почтовой сумки на ремне девушка возила прицеп с кинопередвижкой и показывала бойцам киноновеллы сборника.
Думается, что на успешное вторичное появление на экране не может рассчитывать случайный, не получивший общественного резонанса персонаж. Для этого он должен завоевать популярность.
После войны Любовь Орлова продолжала успешно выступать как в кино, так и в театре, где проявила незаурядный драматический талант. И все же вершиной ее творчества остались лучшие довоенные кинороли с каскадами эстрадных и цирковых номеров. В них она достигла вершины, о которой может мечтать любой художник. В них она не просто актриса, а полпред эпохи в советском киноискусстве.
Однажды с группой товарищей по курсу я побывал на квартире учителя. Студенты в гостях у классика советского кино!
Хозяин был весел, остроумен и, видимо, хотел расшевелить нас. Но в его облике и манере, несмотря на большую, по сравнению с аудиторией, легкость и свободу, все же преобладал деловой настрой. Мы ни на минуту не могли забыть, что пришли сюда для продолжения институтских занятий.
Григорий Васильевич рассказал какую-то забавную историю. Но мы перестраивались медленно. Один из студентов, самый бойкий, поддержал веселый тон и стал рассказывать что-то вроде невинного анекдота с упоминанием женщин. Григорий Васильевич полушутливо прервал:
– В этом доме только одна женщина – Любовь Петровна. И о других не говорят.
– Особенно при Григории Васильевиче, – подхватила Орлова.
Все заулыбались. Атмосфера начала разряжаться.
7. Временем мобилизованный
Однажды наш шеф достал из вместительного добротного портфеля – своего постоянного спутника – несколько сшитых листов, густо заполненных машинописным текстом.
– Я получаю от зрителей очень много писем, – по обычаю вкрадчиво начал он. – Вот это пришло совсем недавно. Оно показалось мне поучительным, и я решил ознакомить вас с ним.
И стал читать:
«Добрый день, товарищ Александров! Не сомневаюсь, что сейчас Вы работаете над каким-нибудь новым замечательным фильмом. Знаю Вас – большого, очень умного, всегда блестящего художника, поэтому и пишу Вам. Я не имею никакого отношения к искусству и хочу лишь, чтобы через мое посредство лишний раз в Вашу дверь постучалась сама жизнь. Не знаю, принесет ли это какую-нибудь пользу, все же мне хочется рассказать вам пару незатейливых, но, как мне кажется, стоящих внимания историй из студенческой жизни».
Далее рассказывались то трогательно-лирические, то озорные студенческие эпизоды: занятия, общественные дела, отдых на летней студенческой даче в Звенигороде... Намечались образы, конфликт и сюжет будущего фильма. Слушая об остроумных проделках студентов, мы смеялись. За чтением прошел час.
«Мне будет жаль, если я не смогла заинтересовать Вас. Желаю Вам всяческих успехов. Полагаюсь на Ваш вкус и опыт. Мне хотелось бы знать, что письмо это нашло Вас».
Выдержав паузу, учитель обратился к нам:
– Теперь скажите, почему на этом материале нельзя создать комедию?
Видимо, события, изложенные в письме, находились вне творческих интересов Григория Васильевича. Но отношение к ним могло быть различным. Поэтому мы растерянно молчали.
Мастер продолжал:
– Во-первых, здесь выведен отрицательный профессор. У зрителей возникнет естественный вопрос: чему может научить такой педагог? И второе. Студенты потешаются над своим воспитателем и даже устраивают нечто вроде организованного противодействия. Это может послужить нехорошим примером. Что будет нести такой фильм в массы? Непочтительное отношение к идейным и организационным руководителям? Искусство должно воспитывать у молодежи высокие нравственные принципы, благородные идеалы, социалистические нормы отношения к законам общежития и к людям.
Убедившись в том, что мы усвоили эти истины, Григорий Васильевич закончил:
– Возьмите письмо и ответьте на него. Объясните студентам, почему рассказанное ими не может лечь в основу произведения искусства. Это будет творческое задание вам.
И вот это письмо, подписанное студенткой биологического факультета МГУ Ириной Павловной Новицкой, сейчас лежит передо мной. Пусть простит нас всех Ирина Новицкая за то, что мы подвели ее любимого кинорежиссера. Напрасно ждала она от него ответа, благо наш мэтр не ставил за это задание оценок и даже не проверил его выполнение.
Искусствоведы любят пофилософствовать по поводу трагических столкновений личности с эпохой, в которых выявляются незаурядные натуры. Родился не в свое время, говорят они, или раньше времени... Куда реже они углубляются в анализ благополучной или удачной биографии, в рассмотрение прямых и опосредованных контактов человека со своим временем.
Между тем гармоническая связь личности с эпохой, особенно личности художественной, может дать исследователю, богатый материал – исторический, социальный и психологический.
Творчество Александрова, как мне кажется, по духу своему тесно связано с атмосферой предвоенных лет нашей страны. Главное, наиболее выпукло выраженное в его произведениях, – не быт, не характеры героев и не их взаимоотношения, а общий настрой. Творческий пафос режиссера при кажущемся тематическом разнообразии, а иногда проблематической нечеткости его картин – молодость, ликование, сияние улыбок...
«Какой запас веселости у этих русских, – писали не без зависти о фильмах Александрова за границей, – сколько жизни и бурной радости»1.
Музыка в картинах Александрова – свидетельство творческой одаренности персонажей, и, кроме того, она всегда – выражение праздничности и торжества. А праздничность стала идейным фактором фильмов.
«Легко на сердце от песни веселой...»
«И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет...»
Свои произведения Александров адресовал в первую очередь молодежи. Он говорил на самом близком этому поколению языке – языке бодрого оптимизма и безграничной уверенности в свои силы, в свое будущее.
«Мы все добудем, поймем и откроем...»
«Для нас пути открыты все на свете...»
Эти черты, присущие советской молодежи, обретали общегосударственный, даже исторический смысл. Вся страна переживала период весеннего расцвета и чувствовала себя по-юному восторженной и счастливой. А у молодых свои законы, своя психология.
Пустяковый повод вызывает у них дружный смех. Однако это иногда кажущееся беспричинным веселье имеет более чем веские причины. Юность неосознанно и самозабвенно радуется самому факту своего бытия – тому, что она молода и что у нее все впереди. Ее существование немыслимо без мечты, без преисполненных радужными надеждами взглядов в завтра. Она живет будущим и ради будущего. Воодушевленный великой целью народ ощущал себя в преддверии счастливого коммунистического общества. «Шагай, страна, быстрей, моя, – коммуна у ворот!» – восклицал Маяковский.
Молодой режиссер смотрел на сложное предвоенное время глазами восторженного юноши. В его творчестве отразились романтические взгляды и устремления народа, рожденные верой в правоту своего дела и в свою великую историческую миссию.
Естественно, что жизнерадостному дарованию Александрова не были свойственны философские раздумья, выявление сложных жизненных проблем и противоречий. Победоносное шествие молодых, которым открыто все на свете, в фильмах Александрова нередко оборачивалось помпезностью и поверхностным, облегченным изображением жизни.
В пьесе А. Арбузова «Домик на окраине» женщина – представитель старшего поколения, – глядя на молодежь, в раздумье произносила:
«– Уж очень легко у них на сердце от песни веселой».
В этой реплике – беспокойство о том, что, устремленные в будущее молодые граждане республики труда мало внимания уделяли текущим делам, что сознательно или бессознательно упрощали взгляды на действительность и в то отнюдь не безоблачное время лелеяли в себе – как доминирующие черты – беспечное отношение к жизненным проблемам.
– В 1973 году я отметил три «круглые» даты, – сообщил Григорий Васильевич во время последней нашей встречи. – Семьдесят лет со дня рождения, пятьдесят лет работы в кино и сорок лет жизни... с Любовью Петровной...
Кроме общественной деятельности я работаю над мемуарами для Политиздата. Работаю над новым фильмом. За последнее время я написал шесть сценариев. Но поставить решил только седьмой – «Скворец и лира». Это рассказ о профессиональных разведчиках – муже и жене.
Я предложил Григорию Васильевичу сделать перерыв и попросил разрешения осмотреть квартиру. Он стал не без гордости показывать перепланированные, со вкусом отделанные и обставленные комнаты. Во всем простота, изящество. Все по последнему слову моды. Вместо рабочего стола с грудой бумаг – нечто вроде узкой школьной парты на одного человека. Выдвижная подставка увеличивала ее площадь и позволяла пристроиться собеседнику...
Время откладывает отпечаток на всех. От этого не уйдешь. Пышная грива Григория Васильевича стала белой и потому особенно красивой. Большая распространяющая едкий запах сигара во рту прибавила импозантности, а жесты стали еще плавнее, голос – еще вкрадчивее.
– По-настоящему мне ни одна своя картина не нравится, – ответил он на мой вопрос. – Нравятся только отдельные кусочки.
– Ну, а какой фильм вы считаете лучше других?
Он задумался.
– Пожалуй, все-таки «Волга-Волга»... «Цирк» поверхностней.
Локоть не умещался на подставке, висел в воздухе, но я старался записать все.
– А какие сцены нравятся в фильмах?
– В «Веселых ребятах» – драка. В «Цирке»... – Григорий Васильевич задумался, – пожалуй, когда зрители поют «Колыбельную». В «Волге» – когда Стрелка плывет по реке и, теряя сознание, говорит: «Воды»... И еще, когда Стрелка показывает Бывалову, какие таланты живут в их городе... Ну, я вижу, у вас пальцы устали писать.
Я посмотрел на часы. Было одиннадцать вечера. «Пора закругляться». Пошевелил затекшими пальцами.
– Вы правы, – говорю.
– Давайте отложим до другой встречи.
– Хорошо, – я сложил бумаги. – Я позвоню вам. До свидания.
Александров – художник нового, социалистического типа, художник, рожденный революцией, созревавший и формировавшийся вместе с развитием страны и переживший вместе с ней все перипетии в ее сравнительно недлинной, но богатой и поучительной истории. Каждая лента режиссера – аксонометрическая проекция на художественную плоскость наиболее распространенных взглядов, как истинных, так и ошибочных. Фильмы Александрова отразили не только величие эпохи. Недостатки его картин – это не недоделки, не частные просчеты и упущения. Как правило, они – неизбежное следствие взятой на вооружение ошибочной тенденции.
Так, ошибочное представление, будто историческая личность проявляется только в общественной деятельности, побудило Александрова в «Композиторе Глинке» полностью избегать каких-либо «частных» бытовых проблем. Женитьба Глинки, развод, отсутствие денег и вообще все личное подано в фильме как мелкие помехи на пути композитора к достижению своих целей. Причем разговоры в фильме о бедности Глинки можно объяснить лишь фантазией авторов или их надеждой придать этим действию хоть какой-нибудь драматизм.
После «Весны» Александров, по сути дела, распрощался с комедийным жанром. Если во «Встрече на Эльбе» еще были блестки юмора, то начиная с «Глинки» в творчестве Григория Васильевича постепенно исчезали элементы смешного.
Тем не менее утвердившаяся за режиссером слава комедиографа помешала ему сделать этот отход от комедии бесповоротным. В 1960 году он поставил по собственному сценарию «Русский сувенир». На этот раз поиски режиссером комедийной тематики и нового киноязыка были направлены в сторону от действительных потребностей эпохи. Поэтому вместо комедии получилась бедная нравоучительная сентенция о подавляющем превосходстве советского образа жизни над американским.
Неудачи корифея советской комедии и других режиссеров привели к тому, что после войны эксцентрику стали считать изжившим себя жанром, пройденным этапом в советском киноискусстве.
Но вот в 1956 году режиссер Э. Рязанов представил на суд публики веселую комедию «Карнавальная ночь» (авторы сценария Б. Ласкин и В. Поляков), которая привлекла внимание не столько органичными элементами эксцентриады, сколько живой и убедительной фигурой директора Дома культуры Огурцова в исполнении Игоря Ильинского. В этом действующем лице мы ясно увидели черты хорошо запомнившегося нам сатирического персонажа Бывалова из «Волги-Волги», роль которого тоже исполнял И. Ильинский. В сопоставлении этих двух сатирических типов образ Бывалова вырос до масштабов собирательного типа чинодрала-фанатика. И, пожалуй, при появлении на экране подобных образов мы всегда будем соотносить их с Бываловым, подобно тому как все образы скупердяев, скажем, неизбежно связываются какими-то нитями со скрягой Плюшкиным...
Потом ученик Александрова Леонид Гайдай после различных жанровых и стилистических проб («Долгий путь», «Жених с того света», «Трижды воскресший») нашел себя и утвердился как режиссер эксцентриады. Начиная с короткометражек «Самогонщики» и «Пес Барбос», Гайдай стал последовательно работать в жанре эксцентрической комедии, настойчиво пытаясь вернуть ему былое признание: «Операция Ы», «Кавказская пленница», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию»... И нужно сказать, что критические рецензии, упрекавшие наполненные несомненным комедийным мастерством произведения режиссера в бессодержательности, постепенно сменяются все более благожелательными отзывами.
Налицо трансформация и в творчестве Эльдара Рязанова. После «Берегись автомобиля» – комедии в высшей степени оригинальной и не поддающейся точной жанровой классификации, Рязанов вместе со своим соавтором сценариев Э. Брагинским тоже стали постепенно поворачивать к эксцентриаде: «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники»... Сдержанно-проникновенная интонация в них постепенно заменялась беззаботно-радостной, а основным содержанием становились веселые комедийные трюки. Завершился переход «Похождением итальянцев в России». Хотя Э. Рязанов в шутку охарактеризовал стиль последнего произведения как «идиотический реализм», это, конечно же, типичный случай эксцентрической комедии.
Итак, жанр, в котором столь блестяще и плодотворно работал Г.В. Александров, вновь начал привлекать внимание советских кинематографистов.
Из прессы разных лет
«Интернационал»
...Фильма посвящена пятнадцатилетию Октября. Она оформлена как киноплакат, имеющий целью в лаконичной и заостренно-эмоциональной форме выразить идею солидарности международного пролетариата. В начале говорится о людях, которым сейчас сто лет. Таков Иван Александрович Ларцев. В быстрой смене кусков раскрывается, через какие этапы прошел в своей жизни Ларцев. Много было в России царей, было крепостное право, были пытки и истязания трудящихся. Наконец, наступили дни социалистического строительства, дни открытия Днепрогэса. Ларцев рассказывает о том, что он пережил во время крепостничества... Далее в кадре появляется парижский коммунар Лежен; он кратко говорит о Коммуне. Лежена сменяет Калашников, учитель В.И. Ленина, еще бодрый и хорошо сохранившийся старик. Но вместе с тем есть люди, которые не видели ни одного монаха, ни одного помещика, ни одного царя, ни одного генерала. На вопрос – кто не видел монаха – подростки один за другим отвечают, – кто вылезая из воды в костюме водолаза, кто летя на аэроплане, кто работая на производстве, – я не видел, я не видел. Затем группы ребят повторяют – мы не видели и не увидим. От стадиона, пестреющего разноцветными спортивными костюмами пионеров, выстроенных в виде пятиконечной звезды, зритель перебрасывается к 1917 году путем смены кадров, рисующих постепенное уменьшение возраста детей до грудного младенца. Орудийными залпами по Зимнему дворцу встречено было появление на свет нашей смены. От трех до пятнадцати лет ребята рассчитываются по порядку номеров. Начинается Октябрьская демонстрация на Красной площади. Шествие рабочих в Москве перекликается с революционными демонстрациями в Китае, в Индии, в Германии и в других странах. Буржуазная полиция зверски расправляется с рабочими демонстрантами. Заканчивается фильм пением «Интернационала» коллективом, состоящим из представителей разных национальностей. Задачи фильмы – мобилизовать трудящихся в связи с годовщиной Октября на борьбу против капитализма, поднять их революционный дух и внушить им веру в торжество пролетарской революции...
«Кинорепертуар», 1933, № 7
«Веселые ребята»
...Комический репертуар нашего экрана чрезвычайно беден, а он нам нужен: смех – желанный гость в нашей молодой, веселой аудитории, и попытку т. Александрова дать развлекательную картину надо приветствовать.
...Талантливый постановщик проявил очень много выдумки... много выдающегося технического мастерства и художественного вкуса, у него... много смешных сцен, есть отдельные прекрасные кадры... Остроумно, пожалуй, лучше всего сделана музыкальная часть картины...
О. Давыдов. «Правда», 1934, 18 ноября
В основу нового фильма положена музыка. Музыка выбрала героев фильма, и она руководила поступками этих героев на протяжении всей кинокомедии. Все действующие лица «Веселых ребят» – музыканты. Пастух Костя – скрипач (Л. Утесов), домработница Анюта – певица (Л. Орлова), Елена – певица (М. Стрелкова), Фраскини – дирижер (Арнольд) и т. д. Но тов. Александров не останавливается только на героях. Он заставляет колхозных быков и баранов мычать и блеять под саксофон и банджо. Шум моря, пение птиц, цокот копыт и щелканье бича – все это вверстывается красивыми аккордами в картину, и музыка впервые начинает служить не только иллюстрацией к фильму, а выступает с экрана основным ее героем.
Сделать все это интересно и культурно было нелегко. Нужно было связать все части картины сюжетом и преподнести каждый кадр зрителю легко и занимательно. Авторы сценария при выборе сюжета остановились на старой классической схеме – теме трех. Анюта любит Костю, а Костя увлекается Еленой, которая по ошибке принимает его за иностранного дирижера Фраскини. Эта тема дает много комедийных положений и позволяет режиссеру широко развернуть музыкальное полотно фильма. Музыка, хорошо написанная И. Дунаевским, завоевывает зрителя с первой части, с первого кадра.
А начинается фильм поистине блестяще. Утро в колхозе тов. Александров подал мазками настоящего художника. Выход колхозного стада в поле проходит праздником плодородия. Киноаппарат в руках оператора В. Нильсена движется за играющими на рожках пастухами, и деревня разворачивается перед зрителем одной незабываемой панорамой. Зритель следует за пастухами через сады и пашни, мосты и реки. Он видит, как хозяйки выгоняют коров на улицу, и проходит мимо сонных виноградников. Горы встают у горизонта зелеными лесами.
А стадо все растет и растет. За Костей шагают пастушата. К ним присоединяются гармонисты, и колхозный марш гремит с экрана сильной и бодрой мелодией.
Начало картины дает зрителю исключительную эмоциональную зарядку. Съемка непрерывной панорамой, впервые примененная Александровым, показала нам, какими богатыми возможностями обладает сейчас кинообъектив. Но Александров не удовлетворился только панорамой. Он применил в фильме комбинированную съемку и, пользуясь только маленькими макетами, развернул целую часть картины в грандиозном мюзик-холле. Александров раскрыл двери Большого театра, и мы прямо с Свердловской площади смотрели на сцену академического театра. Миллионы зрителей, не зная о методах транспарантной съемки, будут удивляться, видя, как мчится под проливным дождем катафалк с веселыми музыкантами по площади и улицам ночной Москвы. Зритель будет восхищаться сочными кадрами Черноморского побережья, чистым звуком скрипок и пением Анюты. Он будет весело смеяться и спрашивать себя, как можно заставить корову пудриться, быка – изображать пьяного, а живого поросенка – добровольно ложиться на блюдо?..
В этом фильме нет глубокого сюжета, говорят критики. Картина построена на легкомысленной теме и может свернуть советскую кинематографию на неправильный путь.
Мы не станем подводить под сюжет железобетонную базу чтобы защитить его. Дело, конечно, не в том, что по ходу фильма талантливые пролетарии «торжествуют в конце кинокартины, и соединяют свои руки, и прославляются, как признанные мастера пения и музыки. Положительное свойство александровской картины – в ее оптимистической основе. И когда нас спрашивают, за что агитирует картина Александрова, мы прямо и смело, не стесняясь присутствием критиков, которых «Правда» справедливо относит к породе «ихтиозавров», отвечаем:
– Этот фильм агитирует за бодрость, веселье и хорошую музыку...
Нельзя же предавать анафеме хорошую комедию только потому, что она построена в плане гротеска. В самом деле, нужно совсем немного остроумия, чтобы уметь отличить вещь сатирическую от вещи юмористической.
Пользуются же сейчас успехом книги Ильфа и Петрова, и никто не обвиняет этих талантливых писателей в том, что они сворачивают советскую литературу с правильного пути.
Все мы стали забывать о временах рапповской критики, которая готова была ругать «12 стульев» за то, что там было мало справочного материала для столяров и плотников. «12 стульев» остались веселой книгой, и никто с пути истинного не свернул.
Так зачем же возвращаться в кино к рапповским временам? Коллектив т. Александрова сделал интересную и нужную работу. Он использовал богатые возможности кино и подарил нам хорошую и веселую комедию.
Сем. Нариньяни. «Комсомольская правда», 1934, 11 августа
И режиссерская и операторская работа, так же как работа композитора (тов. Дунаевского) и всего актерского коллектива, в частности Орловой, безусловно, заслуживают быть поставленными в ряд лучших достижений кино за последний год. Целый ряд новых технических приемов, примененных в производстве (например, транспарантная съемка, большая панорамная съемка и др., хорошая запись звука), ставит эту картину на уровень достижений кинотехники передовых капиталистических стран, отставание от которых в этой области совсем недавно было у нас еще очень значительным.
«Веселые ребята» – по-настоящему веселый фильм, чего никак нельзя было сказать о преобладающем большинстве наших кинокомедий.
Картина смотрится с интересом, она возбуждает веселый смех, дает нашему зрителю зарядку бодрости и жизнерадостности.
Е. Михайлов. «Комсомольская правда», 1934, 17 ноября
После просмотра я сказал Александрову, что, если бы у него не хватило сил, я бы ему с удовольствием помог драться с теми, кто будет выступать против картины. Этим я сказал, что категорически абсолютно за фильму.
Что меня радует в картине? У меня впечатление, что пришел человек, дал мне пилюлю и я помолодел. В картине я почувствовал хорошую, бодрую, веселую струю. Потом я поставил перед собой такой вопрос: если бы я обладал таким темпераментом, сумел бы так блестяще поставить картину, взялся бы я ее сделать или нет? Нет.
...Немногие из нас рискнут пойти по тому пути, по которому пошел Александров. Не потому, что здесь речь идет о неуважении к низшим жанрам, я утверждаю, что у многих из нас не хватит ни умения, ни столько воли, чтобы сделать такие вещи.
Александров идет дальше по этому пути...
Высказываюсь целиком за картину, прекрасно понимая, что она не только имеет право на жизнь, но и жизнью вызвана... Я говорю сейчас о своем ощущении. Для меня сейчас смех – величайшее явление в жизни, и мне кажется, что эта картина напоминает, что, дорогие товарищи, вы еще не так стары, как вы хотите казаться.
Ф. Эрмлер. «Кино», 1934, 16 декабря
«Веселые ребята» – по-настоящему веселый фильм, чего никак нельзя сказать о преобладающем большинстве наших кинокомедий. И в этом заслуга всего творческого коллектива.
Картина смотрится с интересом. Она возбуждает веселый смех, даря нашему зрителю зарядку бодрости и жизнерадостности.
«Известия», 1934, 17 ноября
...Фильм Александрова... будет пользоваться во Франции крупным успехом. Это настоящий тип популярного фильма. Это фильм, отличающийся буйным весельем, лишенный тяжеловесности. Главными отличительными свойствами «Веселых ребят» являются веселость, молодость, свежесть, подъем и – главное, на первом плане, – здоровье. Здоровье всюду – в последовательности забавных замыслов, в актерах, в сценарии. Сценарий действительно изобилует блестящими, изумительными выдумками, последние, однако, преподнесены проще, естественнее, чем в американских фильмах... Мы не задаемся целью перечислить все то, что составляет ценность такого фильма, как «Веселые ребята»... Слишком многое ценно в «Веселых ребятах»... Наши читатели будут иметь удовольствие сами обнаружить эти ценности одновременно с восхищением лишний раз талантом актеров, сформировавшихся в СССР.
«Юманите», 1934, 14 декабря («Комсомольская правда», 1935, 9 марта)
«Цирк»
Афиша «Веселых ребят». Забавные фигуры сидят на полоске нот, как воробьи на телеграфной проволоке. Афиша видна какую-то часть Минуты, ровно такую, чтобы напомнить зрителю о задорном, лукавом озорстве этого фильма, о веселой эксцентриаде, о тонкой насмешке над мещанством. Потом из-за кадра протягивается рука с кистью и густо замазывает афишу клеем. Наклеивается новая афиша – фильм «Цирк» с теми же фамилиями: режиссера Г.В. Александрова, композитора И. Дунаевского, заслуженной артистки Л.П. Орловой, оператора В.С. Нильсена и других.
Так устанавливается преемственность «Веселых ребят» и «Цирка».
С первого же кадра «Цирка» в фильме звучат нотки теплоты, глубокого человеческого чувства и остроты драматических коллизий...
«Цирк» – веселый оптимистический фильм, это комедия с интересными образами, замечательно показывающая новую Москву, комедия, в которой много блестящей выдумки.
Пауль Лори. «Вечерняя Москва», 1936, 20 апреля
В «Цирке» удачно отражена идея расового равенства и интернациональной солидарности. Этой большой теме подчинены и все детали картины, пронизанной теплотой, любовью к родине, к людям, живущим в Советской стране. В новой песне, которую скоро, должно быть, будут распевать во всех уголках Советского Союза, замечательно передана та же мысль о нашей горячей любви к родине.
«Литературная газета», 1936, 30 мая
...Фильм удался. В нем много смешных эпизодов, чисто комедийных ситуаций и вместе с тем ряд мелодраматических и лирических сцен.
Радует в картине умная, изобретательная, мастерская работа режиссера. Недаром на просмотре в Доме кино квалифицированная аудитория кинематографистов многократно аплодировала отдельным кадрам. Важно отметить, что формальные приемы не являются для Александрова самоцелью, что они теснейшим образом связаны с раскрытием сюжета.
Александров очень удачно пользуется приемом ассоциативного монтажа. Жаль только, что он не всегда сохраняет чувство меры...
...Удача «Цирка» – достаточное свидетельство того, что Александров на идейно насыщенном сценарии сможет создать еще более значительное кинопроизведение.
А. Тимофеев. «Вечерняя Москва», 1936, 21 мая
Фильм «Цирк», как и вообще стиль Александрова, имеет на первый взгляд много сомнительного. Но он нам нравится. Мы смеемся, и мы тронуты. Так реагирует наш наивно-здоровый инстинкт. Но при этом многих из нас мучит сомнение, удобно ли аплодировать манере, которую мы презирали и осмеивали в буржуазном искусстве. Ведь жанр мелодрамы скомпрометирован навеки. Эта смесь джаза и меланхоличности танго, сенсации, акробатики и блеска ревю, цирковой юмор и коронный номер звезды – ведь это как раз то, что на Западе называется «Kitsch»!