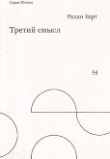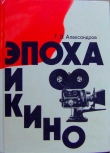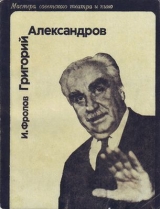
Текст книги "Григорий Александров"
Автор книги: И. Фролов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
– Наша основная задача – разрешить проблему смеха. И только!
Итак, идеи в вещи нет. Это признано и противниками ее, и сторонниками, и даже самим автором».
Как понять заявление Александрова? Как стремление отвести критические замечания или это осознанное творческое кредо?
Позже С. Кирсанов, объясняя причины разрыва с режиссером «Веселых ребят» по поводу заказанных ему для фильма стихов, объявил в «Литературной газете» от 6 марта 1934 года, что «тов. Александров требовал полной аполитичности текста, что мне, честно скажу, не удалось».
Видимо, мы действительно имеем дело с идейной платформой художника, и платформой довольно-таки необычной. За русской литературой, начиная с творчества Радищева, Пушкина и Гоголя, утвердилась добрая слава носителя высокого идейного содержания, борца за социальные преобразования... После Октябрьской революции преобразующая роль литературы и искусства возросла во сто крат. Произведения становились рупорами революционных идей, пропагандистами новых норм человеческого общежития.
Не удивительно, что программные заявления Александрова воспринимались как отход от благородных традиций русского прогрессивного искусства и встречались в штыки.
Накануне запуска сценария в производство уже не отдельные лица, а партийная организация Художественно-постановочного объединения московской кинофабрики «Союзфильм» (на Потылихе) вынесла следующее постановление:
«Испытанные положения мировой буржуазной комедийной и комической фильмы, опыт Чаплина, Бастора Китона нашли свое отражение без необходимого критического усвоения в сценарии «Джаз-комедии»1.
«Считать сценарий неприемлемым для пуска в производство». А его утверждение «должно рассматривать как политическую ошибку руководства ГУКФ, треста Союзфильм и фабрики «Союзфильм»2.
Так, с самого начала создания, можно сказать еще в зародыше, «Веселые ребята» вызвали жаркие споры, которые сопровождали весь процесс съемок фильма, а после его выпуска на экраны приняли, как увидим ниже, прямо-таки скандальный характер.
Александров яростно отбивался и уверенно шел к намеченной цели. За своей спиной он ощущал авторитетную поддержку. Председатель тогдашнего кинематографического главка Б. Щумяцкий, газеты «Кино» и «Комсомольская правда» пытались нейтрализовать силы, противодействующие «Джаз-комедии». В ответ на демарш работников кинофабрики газета «Кино» в редакционной статье поставила все точки над i:
«Любители «политпросветфильм» и принципиальные противники занимательности фильм до сих пор не усвоили указания директивных органов о том, что картина должна давать отдых и развлечение...
Постановление бюро цеховой ячейки о «Джаз-комедии» отражает в себе самые отсталые настроения тех ремесленников или эстетов-кинематографистов, которые не умеют или не желают делать картины, нужные миллионам рабочих и колхозных зрителей»3.
В газете «Кино» от 22 июня 1933 года Л. Маевич пытался подвести под новый курс теоретическую базу:
«Любой жанр хорош, если он служит социалистическому строительству. Для этого необходимо, чтобы этот жанр по духу своему, по существу был советским... Все рассуждения об «идеологическом» и «утробном» смехе дальше старушечьих вздохов не идут».
А вскоре, 17 августа 1933 года, «Комсомольская правда», напечатала беседу корреспондента газеты с постановщиком «Веселых ребят», который заявил:
«Наша комедия является попыткой создания первого веселого советского фильма, вызывающего положительный смех. Строится он в органическом сочетании с простой и понятной музыкой. В нашем фильме мы стремимся показать, что в условиях, в которых ведется социалистическое строительство, живется весело и бодро. И бодрость и веселость – основное настроение, которое должно сопровождать наш фильм».
Итак, не важно, что событийный и прочий материал произведения не соответствует действительности, важен его эмоциональный заряд, то есть жизнерадостность, излучаемая комедией на строителей социализма. При тогдашних смутных представлениях об особенностях нового жанра это выступление режиссера уже кое-что проясняет.
Однажды на занятии разговор шел о наших курсовых режиссерских работах. Отрывки из литературных и драматургических произведений, которые мы ставили на площадке, Григорий Васильевич предложил объединить в единую тематическую программу. То есть выстроить их в такой последовательности, чтобы они составили нечто связное и раскрывали процесс исторического развития России.
Живописно манипулируя густыми бровями, Александров обосновывал свое предложение тем, что режиссер, как и всякий художник, творит не изолированно от общества, от товарищей, от государства... И наша композиция направлена на то, чтобы мы со студенческих лет чувствовали себя не свободными деятелями анархического толка, а художниками, живущими общественными интересами, умеющими подчинять творческие замыслы государственным нуждам.
– Перефразируя строки Некрасова, – обращался к нам Григорий Васильевич, – мы скажем: режиссером можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Быть гражданином – это значит жить интересами своей страны, своего народа. Большая программа научит вас глубже и непосредственнее ощущать потребности общества в конкретной теме, в проблеме, в жанре... Научит понимать то, что Маяковский называл «социальным заказом».
– Если получится удачно, с такой программой мы сможем выступить перед большой аудиторией, – пообещал учитель. – Свяжемся, например, с ГИТИСом или с театральными училищами. И в порядке обмена опытом покажем друг другу лучшие режиссерские и актерские работы.
Нас захватила широта замысла Григория Васильевича.
– Так не занимались ни на одном курсе, – с гордостью говорили мы, – наш мастер мыслит непредвзято, масштабными категориями.
И кроме всего, подогревала перспектива выйти с ученической работой за стены института.
Правда, находились скептики и маловеры, но в массе своей мы с огоньком взялись за дело.
Открывалась наша «Большая программа» драматическим этюдом о Степане Разине в постановке Бориса Степанова. За ним в соответствии с исторической хронологией следовали другие работы. Забитая дореволюционная Русь: сцены из романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» поставил Миклош Маркош, из повести А. Чехова «Мужики» – А. Маркелов. Дальше шли отрывки, последовательно отражающие эпоху революции и гражданской войны, из которых вспоминается фрагмент из пьесы Б. Лавренева «Разгром» в постановке Владимира Скуйбина. Потом жизнь молодой Советской страны в годы нэпа и первых пятилеток. И наконец, Великая Отечественная война, резкое вторжение которой в жизнь советских людей показывалось с помощью отрывка из пьесы Л. Малюгина «Старые друзья» (постановка моя). Переход страны на мирные рельсы иллюстрировался монтажным куском из романа Э. Казакевича «Весна на Одере» (постановка Конрада Вольфа). Темы послевоенного восстановления хозяйства и борьбы за мир нашли отражение в работах на площадке В. Янчева, Н. Коробова, Н. Неновой, П. Васильева...
В киноведении редко обращают внимание на производственную сторону деятельности режиссеров. Между тем иной раз она таит в себе немало интересного. Для примера проследим, как снимались «Веселые ребята».
В начале 30-х годов в стране распространялись и набирали силу ударнические методы работы, которые начали проникать и на кинофабрики.
«Комсомольская правда» от 26 марта 1933 года писала:
«Первой ласточкой, делающей комедийную «киновесну», является сценарий, написанный в исключительно ударные для нашей кинематографии темпы – в 2,5 месяца – драматургами В. Массом и Н. Эрдманом в тесном содружестве с режиссером Г. Александровым».
Однако съемки «Джаз-комедии» начались неудачно.
8 августа 1933 года в газете «Кино» появилась редакционная статья «Возмутительно, но факт». В ней говорилось:
«Казалось бы, руководители технической базы фабрики и ее ОРС должны были переключить свое главное внимание на обслуживание этой постановки («Джаз-комедии». – И.Ф.). На фабрике же все обстоит как раз наоборот».
Критиковались безответственность и небрежность подготовительной работы цехов, формально-бюрократическое отношение к «главной картине» со стороны руководителей технической базы. Перечислив нетерпимые факты, газета заключает:
«Люди забыли, что работают в Советском государстве, что у нас нужны ударные темпы».
Через неделю, 17 августа 1933 года, в «Комсомольской правде» было опубликовано интервью с Александровым.
«Так как наша фабрика не привыкла к тем темпам работы, которые мы ей предложили, – говорил постановщик, – наша группа частично запаздывает с планом своих работ из-за непредставления нам в сроки необходимых простейших декораций, небрежности в техническом оборудовании и т. д.
В декабре мы закончим нашу работу и, таким образом, сдадим ее в рекордный для нашей кинематографии срок».
Это уже продуманное обязательство с учетом задержек. Статья «Новые люди, новая техника» снабжена была редакцией «Комсомольской правды» многообещающим подзаголовком: «В декабре советский экран получит комедийный фильм».
На ударные методы производства картин стали переходить и другие режиссеры. 16 октября 1933 года в газете «Кино» был напечатан рапорт съемочной группы Л. Кулешова «Великий утешитель»: «Мы поднимаем борьбу за высокое идейно-художественное качество, короткие сроки и дешевую себестоимость советского фильма».
После «проработки» в прессе студия старалась предоставлять Александрову все необходимое, иногда в ущерб другим съемочным группам.
М. Ромм в газете «Кино» от 4 января 1934 года писал:
«Тем временем приехал «Джаз». Собралась дирекция. Совещались, кого приостановить. Решили «Пышку». И далее:
«Только одна картина «Джаз» более или менее обеспечена площадью».
И все-таки зрители не увидели фильм в декабре. 10 января 1934 года «Комсомольская правда» напечатала корреспонденцию Мих. Долгополова «Веселые приключения пастуха Кости». Как косвенное оправдание невыполнения группой обязательств в статье перечислялись трудности работы с коровами, баранами и другими действующими лицами картины. Рассказывалось, к каким ухищрениям приходилось прибегать, чтобы «вызвать улыбку» у мрачного быка. Ему давали выпить 10 литров водки зараз, закладывали в ноздри нюхательный табак, приглашали специального гипнотизера... Чтобы козы с аппетитом поедали соломенные стулья, некоторые сиденья делали из макарон и т. п.
В заключение читатели извещались, что «заснято 80 процентов фильма. До окончания осталось 23 съемочных дня».
И опять не обошлось без торжественных заверений:
«Группа объявила январь штурмовым месяцем и решила закончить все съемки к 1 февраля... В марте все работы над фильмом будут закончены и он выйдет на экран».
Через неделю, 16 января, газета «Кино» помещает статью «Штурмовая группа»:
«Группа режиссера Александрова, снимающая «Джаз-комедию», – лучшая группа фабрики. Это общее мнение и фабричного комитета и руководства. На слете ударников работники, объявив свою группу штурмовой, обязались закончить все съемки к 10 февраля».
Прошел март. 28 апреля «Комсомольская правда» выдала еще одну заметку о передовой по принятым обязательствам группе. Теперь газета уже не назначала конкретного срока выпуска фильма, а ограничилась скромной информацией: «Группа заканчивает работу по озвучанию картины».
Время неумолимо отсчитывало дни и месяцы: июль, август... В газетах появилось еще несколько публикаций, сроки выхода картины в которых постепенно отодвигались.
29 сентября в органе ЦК комсомола было помещено короткое сообщение: «Веселые ребята» в 12 кинотеатрах Москвы и Ленинграда», где говорилось, что работа над комедией окончена и 11 ноября она будет демонстрироваться в шести лучших московских кинотеатрах, а 13 ноября – в шести кинотеатрах Ленинграда. Сообщалось также о выпуске нот и пластинок с десятью мелодиями из картины.
Наступил последний месяц 1934 года, а фильма, который обещали показать зрителям ровно год назад, на экранах все еще не было.
24 декабря «Комсомольская правда» оповестила: «Завтра премьера». Эти сжатые сроки были наконец выдержаны.
Как видим, стремительный бег жизни, увлечение масштабами и рекордами нашли свой отзвук, хотя несколько комический, даже в процессе съемок «Веселых ребят». Ну а насколько верно и глубоко отразилась эпоха в характерах и событиях фильма Александрова, в его художественной стилистике и интонациях? Этот вопрос явился темой страстной и продолжительной дискуссии, разгоревшейся сразу же после того, как «Веселые ребята» стали достоянием экрана. Теперь против комедии выступили уже не кинематографисты, которые к этому времени в основном приняли ее, а писатели.
Комедия не раз всуе упоминалась на Первом учредительном съезде советских писателей. (Особым неприятием ее отличалось выступление Алексея Суркова:
– У нас за последние годы и среди людей, делающих художественную политику, и среди осуществляющих эту политику развелось довольно многочисленное племя адептов культивирования смехотворства и развлекательства во что бы то ни стало. Прискорбным продуктом этой «лимонадной» идеологии я считаю, например, недавно виденную нами картину «Веселые ребята», картину, дающую апофеоз пошлости, где во вневременной и внепространственный дворец, как в ноев ковчег, загоняется всякой твари по паре, где для увеселения «почтеннейшей публики» издевательски пародируется настоящая музыка, где для той же «благородной» цели утесовские оркестранты, «догоняя и перегоняя» героев американских «боевиков», утомительно долго тузят друг друга, раздирая на себе ни в чем не повинные москвошвеевские пиджаки и штаны...
Создав дикую помесь пастушечьей пасторали с американским боевиком, авторы наверное думали, что честно выполнили социальный заказ на смех. А ведь это, товарищи, издевательство над зрителем...
Да, советская молодежь бодра и жизнерадостна. Да, она хочет весело жить и весело проводить свой досуг, но зачем давать ей пошлость антрактовой клоунады, выдавая ее за юмор? Зачем оглуплять нашего хорошего и умного читателя? Зачем развращать его молодой художественный вкус?»4
Нужно сказать, что призыв к кинематографистам ставить веселые комедии был сформулирован в самых общих чертах и потому оставлял простор для субъективных толкований и творческих поисков.
Все поняли его по-разному и убежденно отстаивали свои точки зрения.
После выхода на экран «Чапаева» «Литературная газета», отдавая должное фильму Г. и С. Васильевых, походя задела комедию Александрова, охарактеризовав ее как «картонные баррикады любителей безыдейного искусства».
Произведения эти кажутся абсолютно несопоставимыми: воплощение исторического и философского смысла, с одной стороны, и эксцентрика – с другой; трагедия, как писал Б. Бабочкин, исследующая категорию красных командиров, стихийно поднявшихся из горнила революции, – и комические трюки, песни и пляски, призванные развлекать и веселить... Ничего общего. И тем не менее противопоставление революционного пафоса оперетке и мюзик-холлу было сделано не случайно.
«Хорошо, когда звучит веселая песня, – писала «Литературная газета» от 24 ноября 1934 года, – но очень плохо, если за всем этим не видно советского человека, который не только поет, но и творит, борется, побеждает».
«Нам очень жаль, что, успешно овладев чрезвычайно нужным жанром комедии, Александров не создал, однако, комедии советской».
– Против «Веселых ребят» тогда выступал Бубнов – министр просвещения, – рассказывает Григорий Васильевич. – Он говорил, что это издевательство над музыкой Листа. И запретил выпуск комедии на экраны. Тогда Шумяцкий сделал хитрый ход. Он договорился с Горьким, чтобы показать ему «Веселых ребят». Мы приехали в Горки. Алексей Максимович пригласил нескольких писателей-рапповцев, которые выступали против комедии, а также жителей деревни, ребятишек, которые во время демонстрации дружно смеялись. После просмотра Горький говорит: «Разве в Америке так смеются?.. Там в моде бокс, а здесь дерутся по-русски: дают по уху. А кто, кроме русских, осмелится так обыграть похоронный катафалк?»
Потом через Горького Шумяцкий показал комедию Сталину, с предварительной подготовкой почвы. В то время в здании ЦК просмотровых залов не было. Политбюро приехало смотреть фильм к Шумяцкому на Гнездниковский. Там же находились и монтажные комнаты. Перед просмотром Борис Захарович говорит мне: «Я возьму и покажу только две части. А ты с остальными коробками сиди здесь. Если позову, скажи им, что дорабатываешь и не хотел бы показывать в таком виде, отнекивайся. Понял?» Так и сделали. Членам Политбюро показали две части. Сталин захотел посмотреть все. Шумяцкий сказал, что остальные режиссер перемонтирует. Члены Политбюро настаивают. Шумяцкому делать нечего. «Сейчас, – говорит, – распоряжусь». И вышел ко мне. Через некоторое время вошел я с коробками. Оправдываюсь, что недоделанную работу показывать не хочется. Но и договорить не дали. Начали смотреть. После просмотра Сталин сказал:
«Очень веселая картина. Я как будто месяц в отпуске побыл. Ее будет полезно показать всем рабочим и колхозникам. И отнимите, – говорит, – картину у режиссера. А то он ее испортит».
Когда в январе 1935 года были опубликованы списки награжденных киноработников (в связи с 15-летием советской кинематографии), в них можно было найти и создателей «Веселых ребят».
Орденом Красной Звезды награждались: Кавалеридзе, Бек-Назаров, Блиох, Г. Александров...
Звание заслуженного деятеля искусств получили: Эйзенштейн, Кулешов, Протазанов, Юткевич, Л. Орлова...
Активная поддержка официальными органами и Шумяцким прибавила Александрову уверенности в отстаивании «Веселых ребят», но не избавила картину от дальнейших критических наскоков.
28 февраля 1935 года в «Литературной газете» был напечатан фельетон А. Безыменского «Караул! Грабят!». Дело в том, что 21 февраля 1935 года открылся Первый Московский международный кинофестиваль, где вне конкурса демонстрировался фильм США «Вива, Вилья!». И вот во время просмотра одного из патетических моментов американской картины зрители вдруг стали смеяться. Оказывается, как писал Безыменский, «мексиканские крестьяне пели марш из «Веселых ребят». Тов. Дунаевский! Тов. Александров! – продолжал автор, – почему же вы спите? Единственное, что есть хорошего в вашем фильме, – это музыка. А ее похитили... Протестуйте! Единственную ценность стянули. Боритесь!
Некоторые шутники утверждают, что это вы сперли музыку из «Вива, Вилья!». Говорят даже, будто т. Александров, побывав за границей, и в частности в Мексике (имея к тому же недурной музыкальный слух), напел кое-что Дунаевскому, в результате чего появилась музыка марша.
Я против «Веселых ребят». Но что касается музыки в этом фильме – я заинтересован не менее, чем вы. Я волнуюсь. Я нервничаю. А что, если шутники правы?»
С ответом Безыменскому в разных газетах выступили начальник ГУКФ, режиссер и композитор. Задетый критикой, Александров писал в газете «Кино» за 5 марта 1935 года:
«Считаю необходимым добавить, что впервые пришлось мне встретить в советской печати такой развязно-пошлый тон, такой низкопробный пасквильный стиль, в каких написана заметка т. Безыменского. Это свидетельствует только о том, что т. Безыменский и «Литературная газета» в своей борьбе против картины и жанра «Веселых ребят» перестали стесняться в средствах. Может быть, следовало бы «наплевать и забыть», как говорил Чапаев. Но я не желаю превращать этот случай в глупую шутку. Как творческий работник, я требую прямого ответа от «Литературной газеты»: считает ли она простым совпадением то, что заметка в «Литературной газете» появилась в тот день, когда Советское правительство вручило мне за мою работу в советской кинематографии орден Красной Звезды?
Не считает ли «Литературная газета», что вся ее кампания против «Веселых ребят» расходится с оценкой, данной моей работе Советским правительством? Очевидно, газета совершает политическую ошибку тем, что беззастенчиво клеветническими методами ведет травлю картины и моей работы».
Но такие аргументы лишь подлили масла в огонь. На следующий день, 6 марта, орган писателей посвятил «Веселым ребятам» целую полосу, опубликовав о комедии ряд уничижительных и скандальных материалов. С. Кирсанов обвинил В. Лебедева-Кумача в заимствовании у него стихотворных строк. Большую критическую статью написал Бруно Ясенский.
Если даже доброжелательные рецензенты признавали, что в «Веселых ребятах» «выхолощен национальный колорит»5, картина лишена социальных примет и деталей быта, то Ясенский для каждого трюка и комедийного номера находил первоисточники в западных фильмах. «Конечно, и тов. Шумяцкий и критики, восхваляющие «Веселых ребят», – писал он, – не обязаны знать большинства заграничных фильмов, из которых тов. Александров черпал материал для своей картины. Знай они об этом, они вряд ли бы так рьяно защищали этот фильм, выдавая его за образец некоего нового жанра в кинематографии».
Далее приводилась выдержка из рецензии, напечатанной французским журналом «Марианна»:
«Веселые ребята» производят такое впечатление, как будто на фабрику ГУКФ ночью пробрались буржуазные кинорежиссеры и тайком в советских декорациях сняли эту картину».
В этом же номере «Литературной газеты» еще раз с уточнением своих позиций выступил Безыменский. Его статья «Легче на поворотах» заканчивалась следующим признанием: «Вам не раз придется убедиться в том, что борьба против этой фильмы глубоко принципиальна, что борюсь не я один».
Такого противодействия не встречала ни одна кинокартина. Б. Шумяцкий писал позднее, что «Веселых ребят» и их авторов обливали помоями, а один из горе-критиков предлагал «вылить на фильм содержание всех ассенизационных обозов», и даже сколачивали на столь «принципиальной» базе блок «друзей ассенизации»6.
Для проверки заявления Безыменского была создана авторитетная комиссия из композиторов, писателей и кинематографистов. Комиссия отмела обвинения в плагиате и установила, что как автор «Марша веселых ребят», так и композитор американского фильма в основу своей музыки взяли один и тот же двухтактный оборот из аккомпанемента народной мексиканской песни «Аделита». А творческое использование народного мелоса не только допустимо, но и благотворно.
В спор вмешалась даже «Правда», поместившая 12 марта редакционную статью «Об итогах фестиваля и беспринципной полемике». В ней содержался упрек в адрес главного редактора органа литераторов за «склонность к вульгарной полемике» и забвение «элементарных правил приличия, обязательных для советских газет».
Эта публикация охладила пыл противников «Веселых ребят». 15 марта «Литературная газета» заговорила другим тоном. Статья «Правды» признана правильной, Александрову и Дунаевскому принесены извинения.
Но волнение улеглось не сразу. В редакции газет и в киноорганизации еще долго поступали письма зрителей, наполненные обвинениями в пропаганде буржуазной морали и требованиями «запретить», «не допустить».
Чтобы понять истоки острых баталий, разгоревшихся вокруг «Веселых ребят», необходимо хотя бы в самых общих чертах припомнить своеобразие того удивительного времени и как-то соотнести творческие искания режиссера с конкретными общественными тенденциями.
В.И. Ленин указывал, что политический переворот – лишь начало архитяжелого и продолжительного процесса переделки многообразного жизненного уклада страны. И преобразование это – продолжение революции другими средствами. В стремительном, бурном водовороте 20-х годов рушились остатки старого общества и закладывался фундамент нового. Нэп, индустриализация, коллективизация, раскулачивание, партийные чистки... Формы и методы перестройки были соответственно революционными и бескомпромиссными по отношению к чужеродным, непролетарским элементам, демократическими при решении всевозможных вопросов.
Поскольку все приходилось решать впервые, то ежечасно; возникающие проблемы вызывали неизбежные разногласия, столкновения мнений.
Революция разбудила политическую активность деятелей литературы и искусства и способствовала выявлению их творческих индивидуальностей. Однако в 20-е годы художники были разобщены на многочисленные группы и ассоциации. В кинематографе «киноки» Дзиги Вертова, ФЭКСы (Фабрика эксцентрического актера) Григория Козинцева и Леонида Трауберга, КЭМ (киноэкспериментальная мастерская) Фридриха Эрмлера, ЭККЮ (экспериментальный киноколлектив) Сергея Юткевича, в стенах ГИКа (Государственного института кинематографии) Лев Кулешов организовал школу «натурщиков», которая противопоставляла себя психологическому театру.
Еще больше группировок было в литературе, начиная от самого мощного объединения РАПП (Российской ассоциации пролетарских писателей) и кончая постоянно возникающими периферийными альянсами, вроде новосибирских «Настоященцев».
Группы имели свои печатные органы, свои программы и манифесты, яростно полемизировали между собой и при случае доказывали, что функционируют и развиваются по законам диалектики и в революционных традициях.
Самой распространенной формой установления истины являлись жаркие словесные стычки и сражения. Революция разбудила хозяйское отношение и невиданную активность народа в решении всех общественных проблем. Любые, даже второстепенные вопросы вызывали всеобщую заинтересованность и продолжительные дебаты, не последнюю роль в которых играли хлесткие выражения, задиристый тон.
Партийные и государственные организации сохраняли определенный нейтралитет, не отдавая предпочтения ни одной из групп и предоставив им условия свободного соревнования7.
Однако не все художники выдержали неожиданное испытание. Творческие споры нередко перерастали в дрязги и грызню, что неоднократно порицал в печати А.М. Горький, критиковал В.В. Маяковский. Высказывались пожелания как-то изменить положение.
И вот с ликвидацией остатков «непролетарских элементов» – нэпманов и кулаков – партией был взят курс на стабилизацию общественной, политической и культурной жизни. Начался новый этап общественного развития – развернутое наступление социализма по всему фронту.
Многочисленные художественные группы и ассоциации ликвидировались. Деятели литературы и искусства объединились в творческие союзы – организации с единой программой и уставом, единым художественным методом. Были централизованы средства массовой информации. Все это позволяло перейти к более эффективным организационным формам руководства художественной жизнью. Литература становилась неразрывной частью общепролетарского дела.
В «Комсомольской правде» (1934, 18 августа) В. Кетлинская писала:
«Когда-то Маяковский мечтал о том времени, когда вопросами литературы будет заниматься Политбюро. Это время настало».
Одновременно перед литературой и искусством были поставлены новые задачи... В 20-е годы художники в основном разрабатывали темы гражданской войны, борьбы с послевоенной разрухой, беспризорностью и голодом, кулаками и нэпманами. Причем проблемы хозяйственного строительства излагались в том же ключе, что и революционные свершения. Славились ратные и трудовые подвиги, самоотверженность, отрешенность от личного.
Наряду с талантливыми произведениями, такими, как «Железный поток», «Любовь Яровая», «Разгром», выпускалось множество упрощенных агиток. В общем потоке произведений жизнь в Советской стране, несмотря на героическое начало, выглядела напряженной, жертвенной. Потребность в ином, более жизнерадостном звучании искусства ощущалась все острее. И постепенно содержание и дух произведений начали меняться. В противоположность суровости, аскетизму – чувствам, порожденным революционными ломками, – искусство все чаще несло радость, улыбку. Это способствовало подъему жизненного тонуса внутри страны и росту ее международного престижа.
Еще до выхода на экраны нашей страны, в августе 1934 года, «Веселые ребята» демонстрировались на Втором Международном кинофестивале в Венеции. Советские фильмы получили кубок за лучшую программу: «Веселые ребята», «Гроза», «Иван», «Окраина», «Петербургская ночь», «Пышка», «Три песни о Ленине»... За границей «Веселые ребята» пользовались большим успехом. По сведению прессы, фильм был известен на Западе под названием «Москва смеется». Газета «Нью-Йорк уорлд телеграф» писала:
«Вы думаете, что Москва только борется, учится, строит? Ошибаетесь. Москва смеется! И так заразительно, бодро и весело, что вы будете смеяться вместе с ней».
Жизнерадостность ленты сыграла политическую роль, воочию показывая зарубежной публике, что русские – веселые ребята. У них твердая поступь, уверенный взгляд в будущее, а отсюда в огромных дозах веселье и заразительный смех.
В этой связи характерно высказывание Ч. Чаплина:
«До «Веселых ребят» американцы знали Россию Достоевского. Теперь они увидели большие перемены в психологии людей. Люди весело и бодро смеются. Это – большая победа. Это агитирует больше, чем доказательство стрельбой и речами»8.
А во время Венецианского фестиваля итальянская пресса доказывала, что «большевики не имеют права уверять мир, будто они живут веселее всех»9. И требовала запретить демонстрацию картины в стране.
Из этого можно было сделать вывод, что ориентация на задорное веселье и добрую улыбку была правильной и что режиссер с честью выполнил социальный заказ.
– На этот раз хочется поговорить о монтаже, значение которого многие недооценивают. В историческом аспекте именно монтаж сделал аттракцион с движущимися картинками искусством. И неверно думать, будто на современном этапе развития кинематографа монтаж является пройденным этапом, будто обогащение выразительных возможностей кино звуком, цветом и прочими техническими новациями оттеснило монтаж на задний план, превратило его в технологическую операцию по склейке планов. Наоборот, усложнение изобразительных и выразительных кинематографических средств, превращение кинематографа в полифоническую структуру усложняет также задачи и значение монтажа. Именно в монтаже, то есть в композиции изображения, звука, цвета, в синтезе и гармонии всех элементов видимого и слышимого, раскрывается душа киноискусства...
Само слово «эксцентрика» раскрывает характер комедийных трюков. В технике эксцентрик – это диск, центр которого не совпадает с осью вращения. Эксцентрика – смещение центра, акцента в сторону от привычного. Эксцентричный – значит необычный, странный, причудливый. Смешные номера обычно строются на резком контрасте. (Из конспекта лекций по кинорежиссуре.)
Какие же художественные средства избрал Александров для достижения своей цели – пропаганды бодрости и развлечения?