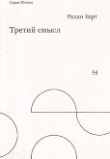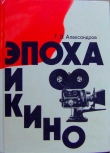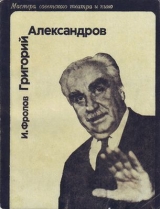
Текст книги "Григорий Александров"
Автор книги: И. Фролов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Как же может такой фильм пользоваться успехом у нас? Как он может нам нравиться?
Мне не кажется излишним успокоить совесть товарищей, относящихся с недоверием к самим себе. На этот раз надо побороть предрассудок, который укоренился в нас так глубоко потому, что возник из правильного суждения, предрассудок, связывающий нас по рукам и мешающий непосредственному, свежему творчеству. Спасибо Александрову за то, что его он не волнует.
То, что мы видим в «Цирке», кажется часто тем, чем угощают ревю западных варьете своего мелкобуржуазного зрителя. Но если двое делают то же самое, то все-таки это не одно и то же. Так звучит в устах народа та мудрость, которую Маркс сформулировал научно и которую он назвал «изменением функции». Под этим подразумевается то, что один и тот же факт в разных исторических и социальных условиях получает совершенно иное значение и имеет иное воздействие. Мы, например, всегда воспринимали неизбежный happy end американских картин как нечто ложное. Но такой же неизбежный happy end советских картин нам нисколько не мешает. Почему? Да потому, что этот happy end не является ложным. Оптимистическая перспектива жизни, которая внушается счастливым концом картины, за рубежом не соответствует действительности, она должна лишь отвлечь от безысходности, от безнадежности этой действительности. Вот функция happy end за рубежом. Та же самая оптимистическая перспектива happy end в стране социализма является просто непосредственным выразителем этой действительности. Вот здесь – его неизменная функция. Картина «Цирк» кончается веселым пением и шествием по Красной площади. Такой «счастливый конец», что счастливее не придумаешь! Но эта сцена вовсе не придумана и не сыграна. Это простая фотография той действительности, которую мы переживаем два раза в год. Итак, она нисколько не оригинальна, и все же никто не воспринимает ее как банальную сцену, так как большое горячее чувство, выраженное в картине, горит в каждом советском зрителе. Упоение счастьем стало стихийным чувством нашей общественной жизни, для которого не нужно каждый раз придумывать новые формы выражения, как не нужно искать их для слов «я люблю тебя».
Это только служит примером того, что вовсе не одно и то же, если двое делают то же самое. Это служит примером того, что правильное суждение, касающееся буржуазных стран, может стать предрассудком, если мы не пересмотрим его и не вернемся к источнику.
Ну, а как же обстоит дело с настроением, умилением и сентиментальностью? Разве это уже сами по себе негодные вещи? Или в буржуазном искусстве они вызывают наше отвращение, потому что мы чувствовали в них ложное, фальшивое начало? Не была ли наша твердость и деловитость по отношению к зарубежному искусству только недоверием, ставшим со временем вкусом? Не становится ли человеку неприятным то кушание, которым он однажды объелся?
Ведь художественный вкус не имеет в себе ничего мистического.
Скажем положа руку на сердце, разве у нас не осталось ничего для мелодично-нежного настроения, для сладостной грусти, для чистого умиления? Мы не могли позволить себе этого в отношении буржуазного искусства, не смели себе позволить этого, так как знали, что это отрава! Нам мешало не то, что это были картины настроения, а то, что они были написаны на вуали, прикрывающей черную действительность! Не слезы были плохи, а было плохо то, что вызваны они были песком, которым нам засыпали глаза! Отсюда отвращение и предрассудки.
Здесь же нас никто не хочет обманывать. Мы спокойно можем предаваться сладостно-нежному упоению. В нем – лучшие корни нашей человечности. Быть твердым и деловитым – порой горькая необходимость. Но это не является ни человеческим, ни эстетическим идеалом. Человеку, живущему в стране, «где так вольно дышит человек» (как поется в заключительной песне «Цирка»), так хорошо, что этой необходимости у него нет.
Этот фильм является, между прочим, разительным примером того, как и лирическое, блаженное состояние может выражать действительность, и не только в индивидуальном, но и общественно-историческом...
В этом фильме показано великолепное цирковое ревю, с сотнями женщин, факелов, вертящимися колесами, блестящими огнями. Все это было нам не по вкусу, когда мы видели это в буржуазных ревю. Почему же так? Разве такая пантомима не может быть прекрасна с декоративно-формальной стороны? Конечно, может. Но нам это великолепие блестящего ревю было принципиально противно, потому что нам было ясно, что этот яркий блеск должен прикрыть мрак нищеты. Великолепие, красота были не для нас.
Это было великолепие врага. Но если здесь групповой танец показан с такой фантазией, вкусом и чувством формы, почему же советский зритель не должен радоваться этим подвижным формам застывшей музыки? Если это великолепие, то это свое, собственное великолепие, если это красота, то это своя, собственная красота. Советского зрителя не нужно ослеплять блеском. Он просто должен получить эстетическое удовольствие в своей жизни, ставшей радостной и веселой.
Александров и оператор Нильсен – полнокровные кинематографисты. Они считают, что фильм во всяком случае должен быть также радостью для глаза, иначе он и не должен был бы стать фильмом (а мог бы вылиться в роман, драму или другой жанр). Все, что там происходит, все, что нам показывают, не только понимаешь и чувствуешь, но прежде всего видишь.
Видишь взглядом художника, взглядом, страстно обрисовывающим контур формы, взглядом, нежно скользящим по ней.
У нас нет причин для развития аскетических вкусов. Мы не собираемся предоставить буржуазному искусству монополию на блеск и красоту.
Б. Балаш. «Искусство кино», 1936, № 7
...В простой невзыскательной форме, доступной для самых широких кругов зрителей, комедия доносит большие идеи интернациональной солидарности, любви к детям, независимо от цвета их кожи, и подлинно человеческого, товарищеского отношения к женщине. Это подлинно советская комедия.
«Правда», 1936, 15 мая
Создать комедию в кино, комедию одновременно и умную и веселую, требует большого труда, серьезной работы художника. Режиссер Александров не остановился на успехах, достигнутых им в «Веселых ребятах». В своем новом фильме «Цирк» он совершенствует свои творческие методы, стремится к более значительному, более волнующему...
Несмотря на недочеты, «Цирк» – бесспорная удача нашей кинематографии.
«Гудок», 1936, 18 мая
Александров показал в своей новой ленте класс настоящего профессионализма в лучшем смысле этого слова. Он свободно владеет разнообразнейшими приемами киноискусства от острого гротеска до лирической грусти, не навязывая, однако, зрителю этого своего умения, не кокетничая перед зрителем, – «вот, мол, что я могу отчебучить!»
Братья Тур. «Известия», 1936, 23 мая
В «Цирке» Александрову и его сценаристам удалось добиться серьезного завоевания. Они преодолели традицию американского киностандарта и сумели в пределах традиционной сюжетной схемы провести большую идею интернациональной солидарности. Идея эта проведена с большим тактом и, что не менее важно, средствами избранного жанра. Органичность сюжета и через сюжет проведенного идейного замысла, – вот что делает «Цирк» самой замечательной работой Александрова.
М. Янковский. «Искусство кино», 1940, № 1—2
«Волга-Волга»
Это веселая, легкая, непритязательная комедия родилась из любви советского народа к своей стране, к Волге, к народным песням, к народным талантам. Кинокадры пронизаны мягким светом. Чудесные виды Чусовой, Камы, Волги, канала Москва – Волга перемежаются со смешными картинами, в которых сатирические образы сплетены с лукавой лирикой и с акробатическими трюками. В разных голосах, в разных тональностях звучат песни, то шутливо, то с легкой грустью, то уморительно забавно, и трудно сказать, песни ли эти сопровождают картину, картина ли иллюстрирует песни.
В содружестве постановщика Александрова и композитора Дунаевского нет первого и второго места. Их творчество как бы слилось.
В сущности, подлинный герой и есть песня. Ее создала талантливая девушка из города, письмоносец маленького городка, не знающая нот, но глубоко чувствующая музыку. Друзья по кружку художественной самодеятельности записали мелодию, буйный ветер разметал ноты по Волге, но они не пропали. Всюду поет, играет талантливый народ, он подхватил песню, и она стала народной. Она гремит в оркестрах, ее поют пионеры, напевают влюбленные, ее обработал юный композитор, и вот мелодия, прозвучавшая впервые в одинокой девичьей песне над Волгой, встает по-новому – победная, ликующая в симфоническом оркестре.
Д. Заславский. «Правда», 1938, 16 апреля
У Александрова, как говорят в кино, – золотые руки.
Он владеет техникой кино в высоком значении этого слова. Не только техника съемки у Г. Александрова совершенно современная, но Г. Александров знает также, как надо делать комедию, как надо делать смех.
...На комедиях Григория Александрова много смеются, но о них мало говорят.
О «Волге-Волге» стоит поговорить подробно.
В сюжете комедии есть две линии. Первая – это линия Дуни – Орловой.
Девушка сложила песню, эта песня распространилась в народе, девушку обвиняют в плагиате, ей нужно доказать свое авторство.
Вторая линия сюжета – это Ильинский – Бывалов. Жизнь страны враждебна озлобленному бюрократу Бывалову...
...Самодеятельное искусство – как всегда у Г. Александрова – выражено джазом...
...Ильинский работает очень хорошо. Текст его роли во многих местах первоклассный... Бывалов дан Ильинским с большой силой, большой реальностью. Слабее линия Дуни, очень разнообразно и охотно показываемой в ленте...
...«Волга-Волга» дает нам новые возможности для советской комедии, основанной на характерах.
Виктор Шкловский. «Литературная газета», 1938, 26 апреля
«Волга-Волга» – настоящая комическая картина. Смех сопровождает каждый ее эпизод. Быть может, даже ее недостаток в том, что слишком много смеха, вызывается он непрерывно, всеми средствами, не давая зрителю передышки. Но вместе со смехом картина несет зрителю и простые, хорошие мысли о неисчерпаемой талантливости народа и об искусстве, черпающем свои богатства в массах. Режиссер Гр. Александров пользуется путешествием своих героев, чтобы показать зрителю чудеснейшие уголки страны, ширь и гладь ее рек, изумительную красоту родины. Веселье, смех, хорошая музыка, песни, прекрасная игра артистов, красивые виды, ясные, правдивые мысли.
И пусть действие «Волги-Волги» протекает в несколько искусственной, условной атмосфере, пусть в ней чересчур много суматохи и нагромождения трюков, пусть в ней излишество выдумки как бы хочет возместить нехватку комедийных картин на экране, – зритель примет фильм с благодарностью. Он унесет с собой веселую улыбку, теплый образ маленького письмоносца Стрелки – Орловой и хорошие песни, созданные крепким содружеством режиссера Гр. Александрова, поэта В. Лебедева-Кумача и композитора И. Дунаевского.
И. Б. «Комсомольская правда», 1938, 16 апреля
Г. Александров является пионером музыкальной комедии на широком экране. Мастер монтажа, он сумел добиться в своих фильмах отточенной ритмичности и плавной музыкальности. Музыка становится неотъемлемой частью всех его произведений. Мягкий лиризм оттеняет в фильмах Александрова смешное, доведенное иногда до гротеска. Улыбка сменяет смех, чтобы снова затем уступить место смеху. Порою смех становится саркастическим, бичующим. В нем звучат интонации подлинной сатиры. В этой связи достаточно вспомнить образ Бывалова из «Волги-Волги».
Постоянный участник фильмов Александрова, артистка Л. Орлова пользуется у зрителя неизменной любовью. И это понятно: творчество Л. Орловой представляет собой на редкость гармоничное сочетание вокальных данных и актерского мастерства в кинематографическом их выражении. Орлова умеет быть трогательной, не впадая в сентиментальность. Такой мы помним ее в роли Мери Диксон в «Цирке». Она умеет быть задорной, озорной, смышленой. Такой запоминается она в роли Стрелки из фильма «Волга-Волга».
Фильмы Александрова и Орловой дают много радости. В них звучат веселые песни, в них мелькают чудесные пейзажи нашей страны. В них звонкий смех, молодость и торжественный пафос труда. Они по-настоящему патриотичны, так как навеяны большой любовью к родной стране, к ее людям, к ее делам и победам.
А. Мачерет. Заслуженный деятель искусств, «Правда» 1941, 16 марта
«Светлый путь»
«Светлый путь» – это фильм о сказке, ставшей былью. Человечество на протяжении всей своей истории мечтало о счастье, о лучшем будущем, и эти мечты народ поэтически воплощал в сказках...
Большим достоинством фильма «Светлый путь является показ социалистического труда. Александров вместе с оператором Петровым, артисткой Орловой, композитором Дунаевским и всем коллективом в ряде эпизодов показал труд в Советской стране поэтически вдохновляюще, одухотворенно...
З. Григорьев. «Вечерняя Москва», 1940, 7 октября
...Фильм Г.В. Александрова принадлежит к тому правдивому искусству, которое умеет понять и представить новое в нашей жизни. Когда мы говорим о чувстве нового в приложении к искусству, мы имеем в виду не только политическое чутье художника к жизни, но и то художественное ощущение, то эстетическое чувство, которое должно раскрываться в изображении нового в нашей жизни. В этом смысле чувство нового есть эстетический принцип советского искусства. Внешние черты новизны, легче поддаются воспроизведению, чем глубокое внутреннее чувство радости, каким одушевлены и опоэтизированы борьба и труд каждого строителя коммунизма. И тот, кому удается раскрыть этот поэтический внутренний мир советского труженика, передать в новизне жизни и новое чувство, превращающее труд в творчество, борьбу – в упоение («Есть упоение в бою!..»), победу – в праздник и ликование всех душевных сил человека, – такой художник одерживает победу в искусстве.
В фильме «Светлый путь»... судьба простого человека... рассказана, как сказка, но так реально, так правдиво, что оттого еще яснее чувствуешь ее поистине сказочные возможности, ее небывалый полет, ее трогательность и величие...
«Сказка-быль у нас творится,
И становятся бледней
Старых сказок небылицы
Перед былью наших дней,» —
так поется в фильме «Светлый путь», и успех фильма именно в том, что он сумел, не тая трудностей, горестей, преград, показать этот путь, это чудеснейшее чудо нашей страны. Сумел показать живо, легко, радостно, трогательно, а если приглядеться и подумать, – то очень серьезно, поэтично и глубоко.
Правда, вместить в одной ленте десять лет большой человеческой жизни, мир растущего человека, пафос труда-чудотворца – задача нелегкая, но тут-то пришел на помощь автору сценария В. Ардову и постановщику Г. Александрову сказочный прием.
Г.В. Александров – мастер неутомимой изобретательности. Он оснастил свою сказку-быль бесчисленными ухищрениями, которыми располагает кинематографическая техника. Александров не терпит пустых мест, замыслов у него всегда припасено больше, чем на картину, и он не дает зрителю передышки ...блестящее техническое мастерство режиссера сверкает здесь фейерверком Чего стоят одни монтажные переходы, те неожиданные сцепления эпизодов, которые Александров справедливо рассматривает как «зрительные рифмы» в поэтической строфе его фильма! В необычайно сложном «хозяйстве» картины Александров распоряжается уверенно, смело, иногда даже с задором и дерзостью. Искусство оператора, искусство художника, пейзаж и интерьер, симфоническая музыка и песня, ритмическая организация кадра, пластическое и музыкальное движение, игра актеров – всем этим он руководит очень точно, продуманно, подчиняя их основному замыслу. С режиссерской и технической стороны фильм «Светлый путь» дает ряд интересных новшеств, в особенности в освоении и применении самой передовой кинематографической техники.
И. Бачелис. «Известия», 1940, 5 октября
Сказка и быль причудливо переплетаются в новом произведении Александрова, волшебство граничит с реальной жизнью, мечта сталкивается с действительностью, и в этом столкновении всецело побеждает чудесная советская быль, перед которой бледнеет самая смелая фантазия.
Героиня фильма «Светлый путь» Таня Морозова, безграмотная, забитая домашняя работница, делается ткачихой, ставит выдающийся стахановский рекорд, ее награждают орденом, и вот мы видим ее депутатом Верховного Совета, образованным, передовым человеком страны.
Поистине сказочное превращение!
Но ведь это не сказка, не утопия, это давно ставший обычным у нас светлый путь, открытый для каждого советского человека, который честно трудится и отдает все свои способности на благо народа.
Идею фильма, обращенную к миллионам и миллионам зрителей, можно было бы выразить так:
– Смотрите, как волшебно-прекрасно, как светло и чудесно то, что кажется нам уже обыденным, то, что прочно вошло в нашу жизнь!
Сказочность в фильме Александрова – это превосходный творческий прием, который придает новое, необычайно свежее звучание всему произведению.
Ал. Яковлев. «Комсомольская правда», 1940, 11 октября
Этот фильм еще раз напоминает о том, что каждое произведение советского искусства, произведение, несущее бодрость, мужество, веру в торжество идей коммунизма, может и должно быть праздничным, радостным.
Эта лента доказывает также, что фильмы всех жанров, в том числе и так называемых «легких», могут и должны обладать высокой идейной направленностью.
Это произведение заставляет далее вспомнить слова А.М. Горького: «Основным героем наших книг мы должны избрать труд, т. е. человека, организуемого процессами труда, который у нас вооружен всей мощью современной техники, человека, в свою очередь организующего труд более легким, продуктивным, возводя его на ступень искусства. Мы должны выучиться понимать труд, как творчество»...
В. Ардов написал сценарий бытовой комедии-сказки о простой деревенской девушке, ставшей знатным человеком нашей страны. Г. Александров, Л. Орлова, В. Петров, композитор И. Дунаевский и весь коллектив, работавший с ними, на основе этого сценария создали яркое, впечатляющее, веселое зрелище.
И не страшно, что блюстители жанровой «нравственности» найдут в этом фильме обилие разных жанров, переплетающихся между собой.
Действительно, картина очень многопланна, но это оправдано, это делает ее лишь более интересной, свидетельствует о поисках новой формы, говорит о смелом новаторстве художников.
Для Александрова в фильме «Светлый путь» тема труда адекватна теме творчества. Ткацкая фабрика показана с огромным пафосом – пафосом правдивым, эмоционально звучащим, окрыляющим зрителя. Нам не известны ни в советской, ни в зарубежной кинематографии произведения, в которых так патетически, так прекрасно и возвышенно был бы показан культурный, технически усовершенствованный человеческий труд. Ведь зачастую у нас, для того чтобы показать на экране труд, прибегают к выдуманным и нетипичным ситуациям, показывают штурмовщину, долженствующую ликвидировать всякие производственные «прорывы»... Словно только в этих хаотических лихорадочных сценах, по сути дела, неорганизованного труда можно передать атмосферу социалистической стройки. Подлинно стахановский, передовой труд чужд штрумовщине, и именно таков труд Тани, работницы ткацкой фабрики. В «Светлом пути» труд показан как процесс творчества социалистического человека...
З. Григорьев. «Кино-газета», 1940, 4 октября
Боевой киносборник № 4 («Победа за нами!»)
За короткое время боевые киносборники прочно вошли в репертуар наших театров, завоевали интерес у широких кругов зрителей. Выхода сборника ждут, как ждут очередного номера газеты или любимого журнала.
Сейчас на экраны выпущен четвертый сборник «Победа за нами!» (режиссер – Г. Александров). Три фильма, вошедшие в этот сборник, объединены, по сути дела, одной темой – все они посвящены изображению великой народной борьбы против фашизма.
В новелле «Патриотка» (сценарий Е. Помещикова и Н. Рожкова), поставленной режиссером В. Прониным на студии «Союздетфильм», нарисован колоритный образ мужественной девушки-трактористки, которая без колебаний решается на смелый шаг. Она проникает в колхоз, занятый фашистами, и, применив свою природную смекалку, уносит из колхоза горючее, которое необходимо для только что отремонтированного советского танка. Девушка знает, что ожидает ее в случае неудачи. Но чувство любви к Родине побеждает боязнь смерти. Ради общего дела она готова пожертвовать самым дорогим, что у нее есть, – своей жизнью.
Образ колхозной трактористки не надуман. Фильм напоминает о миллионах таких же скромных и подчас малоизвестных патриоток. Они становятся медицинскими сестрами на передовых позициях, они заменяют у станков отцов и братьев, ушедших на фронт.
Этим людям, вчерашним работникам советских фабрик и колхозов, ныне защищающим родную землю от фашистских варваров, и посвящена маленькая киноновелла «Приказ выполнен» (картина поставлена по сценарию Г. Фиша, К. Исаева режиссером Е. Ароном в студии «Мосфильм»)...
Программу сборнику ведет популярная советская артистка Любовь Орлова, выступающая в роли Стрелки.
«На наш народ трудовой и веселый
Напала черных злодеев орда.
И встали грудью деревни и села.
И поднялися большие города».
Эта и другие песни письменосца Стрелки, горячие слова, с которыми обращается она к зрителю, ее пляска на красноармейском привале значительно оживляют сборник.
Четвертый боевой киносборник говорит об умении кинематографистов своевременно откликаться на интересы зрителей. Надо лишь не ограничиваться достигнутым и добиваться, чтобы фильмы, которые войдут ъ следующие сборники, были еще более глубокими по мысли, более яркими по мастерству.
В. Аринич. «Вечерняя Москва», 1941, 15 сентября
«Весна»
«...И я,
как весну человечества,
рожденную
в трудах и в бою,
пою
мое отечество,
республику мою!»
Эти строки читает актер, проходящий в гриме Маяковского через короткий эпизод в новой музыкальной комедии «Весна». Правда, появление поэта на экране не вызвано сюжетной необходимостью. Но строки Маяковского приведены в этом светлом, мажорно звучащем фильме кстати. Они соответствуют общему замыслу картины, и в них оправдание ее названия.
В фильме есть искренняя и поэтическая любовь к нашей действительности, к советским людям, есть ощущение солнечного простора и тех жизненных возможностей, которые открываются перед каждым нашим, человеком, искренне увлеченным своим делом. Это, так сказать, внутренняя образная основа фильма, как он был задуман авторами, тот режиссерский ключ, в котором весь коллектив, создавший картину, стремился исполнить на экране кинематографическую симфонию, славящую нашу жизнь.
...Общий светлый фон, радостное ощущение жизни, пронизывающее всю комедию, мастерство талантливых исполнителей, создавших запоминающиеся образы, – все это определяет успех картины.
Лев Кассиль. «Комсомольская правда», 1947, 9 июля
В новом фильме режиссера Г. Александрова «Весна» нет прямых, настойчивых подтверждений названия, и цветущие ветки, заглядывающие в окна, нужны здесь не для ссылки на время года. Дыхание весны во всей свежести ее и благоуханий разлито по фильму: это весна чувств, весна человеческой души.
Глубокий свет радости пронизывает весь фильм, в нем много истинной любви к жизни и ясного, убежденного оптимизма. В нем есть и подлинная поэтичность, тем более ценная, что сценарий дает для этой поэтичности очень мало точек опоры. Мастерство режиссера и актеров раздвинуло рамки сценария, «договорило» то, что едва названо в тексте или даже не произнесено в сценарии совсем.
В основу сценария положена тема двойников. Она использована в литературе множество раз, начиная со старинных водевилей и кончая детективными романами. В данном случае двойники – ученая Никитина и актриса Шатрова. Как полагается по традиции, их поразительное сходство приводит к множеству комических ситуаций: ученую, приняв за актрису Шатрову, снимают в киностудии, актриса по ошибке попадает в дом профессора и вынуждена разговаривать, как подобает доктору наук. Кинорежиссер, встретившийся с Никитиной в студии и искренне убежденный, что перед ним актриса, которая будет сниматься в его фильме об ученой, выслушивает от нее резкую отповедь за неверное понимание образа советского ученого. У комедии есть своя мораль – присущими этому жанру средствами и способами, но весьма явственно нам всем напоминают о простой истине: чем бы ни занимались, как бы ни были углублены в близкое нам дело, мы не должны отрываться от жизни. Жизнь во всем ее прекрасном многообразии обогащает каждого из нас; без подлинного знания жизни нет истинного художника, истинного ученого.
Три главных персонажа – актриса, кинорежиссер и ученая – сталкиваются друг с другом по всем правилам комедийной путаницы, и эта встреча и знакомство не проходят для каждого из них без следа. Душевный мир их становится более глубоким и полным, у них появляются новые чувства и мысли, новое понимание жизни. Так вся эта водевильная суета и комические столкновения становятся «одушевленными», приобретают иное содержание. Рядом с традиционной, повидавшей виды темой двойников развивается в картине более глубокая мысль: мысль о дружбе советских людей, об их стремлении помочь друг другу, о кровной заинтересованности в общем деле.
...Существуют две, так сказать, «атмосферы», в которых развивается действие комедии «Весна»: киностудия и научный институт. И студия и институт сделаны без документального сходства, и надо полагать, что режиссер сознательно решился на такой шаг. В киностудии он показал не типическое, а смешное, отобрав, к примеру, из всего многообразия возможных персонажей, снимающихся в павильоне, двух совершенно одинаковых Гоголей, спорящих друг с другом из-за роли. Так же, без всяких портретных совпадений, показан и научный институт – высокий мир открытий и свершений, овеянный романтичной фантастикой. Это – право режиссера на известные преувеличения, и вряд ли стоит в этой комедии требовать документальной точности...
Г. Александров сумел запечатлеть в кинокартине и размах, и гордую поэтичность, и прекрасную новизну советской Москвы. Москва показана не только с режиссерским мастерством, но и с настоящей любовью.
...Над картиной дружно, увлеченно и вдумчиво работала целая группа талантливых людей. Труд их увенчался успехом. На свет родилась веселая комедия, пронизанная свежей, широкой радостью жизни. Если и можно обнаружить в «Весне» отдельные ошибки, творческие просчеты, то они не лежат на пути «главной темы», не мешают ее развитию. А «главная тема» широко звучит в фильме: тема весны, тема свободного и счастливого расцвета, где для всего светлого и талантливого, чем богаты советские люди, открыты просторные, залитые солнцем дороги нашей страны.
Татьяна Тэсс. «Известия», 1947, 13 июля
В своей новой картине «Весна» Александров поставил перед собой и перед актерским коллективом задачу – сочетать веселое с поучительным, разрешить идейную тему средствами комедийного жанра.
Фильм «Весна» сделан с большим режиссерским мастерством, присущим Г. Александрову. Постановщик проявил много изобретательности и художественного вкуса.
Ф. Львов. «Правда», 1947, 5 июня
«Встреча на Эльбе»
Полузатопленный пароходик «Адольф Гитлер» отходит от восточного берега Эльбы. Он переполнен обезумевшими от страха беженцами, за борт падают люди и чемоданы, каждую минуту он готов пойти ко дну. Он – как символ фашистской Германии, доживающей последние часы... Визжит собачонка, обламываются сходни. Пламя пожара пожирает флаг со свастикой. Советские танки врываются в город, за ними бежит атакующая пехота – вот он, берег Эльбы, последний рубеж второй мировой войны!
На противоположном берегу появляются американцы.
– Да, интересно хоть в последний день войны второй фронт посмотреть, – говорит советский пехотинец...
Многие из американцев, не ожидая распоряжений и приказаний, движимые чувством дружбы и величайшего уважения к славной Советской Армии, бросаются в воду и плывут. Советские солдаты протягивают им руки...
Так начинается новый фильм «Встреча на Эльбе».
День этой исторической встречи был праздником надежды для миллионов простых людей мира. В дружбе Америки с Советским Союзом они видели залог того, что ужасы войны не повторятся, что исчезнет гнетущая неуверенность в завтрашнем дне. Однако, как известно, американские реакционеры вынашивали иные планы на будущее.
Смысл и сила искусства в том, что общие истины оно раскрывает в изображении жизни и деятельности конкретных людей. Простые люди всего мира хотят знать правду о том, что происходит во взаимоотношениях государств. Фильм «Встреча на Эльбе» – воплощенная в киноискусстве правда о борьбе советских людей за мир и справедливость, правда о предательстве дела мира американскими реакционерами. Вместе с тем этот фильм – торжествующая песнь разума и прогресса, перед которыми бессильны и звериное рычание сенатора Вуда, и провокационные ухищрения шпионки Шервуд-Коллинз, и волчья жадность американских ростовщиков в генеральских погонах. Можно завербовать полки шпионов и провокаторов, одурачить и оболванить несколько дивизий солдат, но нельзя обмануть целые народы и повернуть вспять историю.
Н. Грибачев. «Культура и жизнь», 1949, 10 марта
Фильм «Встреча на Эльбе», поставленный режиссером Г. Александровым по сценарию бр. Тур и Л. Шейнина, это прежде всего патриотическое произведение о советском человеке, о его высоких идейных и моральных качествах.
В публицистически острой форме он рассказывает также о судьбах послевоенной Германии, о борьбе за ее демократизацию, о росте демократических сил немецкого народа и о тех, кто этим силам противодействует.
А. Соловьев. «Комсомольская правда», 1949, 9 марта
Постановщик Г. Александров дал яркую и глубокую режиссерскую трактовку содержания кинокартины. Фильм насыщен острой, разящей сатирой. Патриотическая тема раскрывается в любовной работе над образами советских героев фильма, во множестве сильных сцен и кадров, наконец, в песнях, которые так любит советский народ.
Картина разоблачает подлую роль поджигателей новой мировой войны, их человеконенавистническую, хищническую сущность, коварную и гнусную политику. Она содержит страстный призыв ко всем передовым, миролюбивым людям – бороться за мир, не допустить развязывания новой войны, стойко и мужественно отстаивать дело прочного мира.
В. Пудовкин, народный артист СССР, «Правда», 1949, 10 марта
Острая и в основном правильно разрешенная тема, удачный подбор актеров, мастерская работа оператора Э. Тиссе и целый ряд по-настоящему художественных режиссерских находок Г. Александрова выдвигают новый фильм «Встреча на Эльбе» в число бесспорно удачных произведений советской кинематографии...