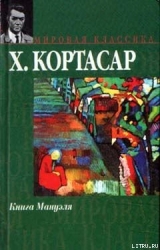
Текст книги "Книга Мануэля"
Автор книги: Хулио Кортасар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
– Хорошо бы, любовь моя, хорошо бы!
– Нет, У Тан, я тебя люблю вот таким, рядом со мной, и когда-нибудь ты меня покинешь, или я тебя покину, уж не говоря о том, что Людмила, по твоим словам, устремилась куда-то к пингвинам, но это ты мне еще не объяснил.
– Я слишком хорошо знаю, что тебе неприятно, когда я о ней говорю.
– А Людмилу наверняка бесит, когда ты упоминаешь мое имя, это очевидно. Но остается еще пингвин, согласись, это нечто из ряда вон, тут можно бы сделать исключение.
– Ты добрая, – сказал Андрес, – ты слишком добрая, малышка.
– Теперь ты таки выведешь меня из себя. Довольно того, что все обстоит гадко и нелепо, ты знаешь, я терплю, я сама этого хотела, я дала тебе ключ от дома, и ладно, я приемлю нас обоих в этом виде, я приемлю себя на одном конце клубка, и Людмила, думаю, поступает так же, моя сестра по другую сторону, держащая другой конец веревки.
– И последнюю фразу она произнесла с ироническим и почти жестоким смехом, – сказал я, целуя ее плечо, прижимая ее к себе так, чтобы сделать больно. – Да, конечно, да, твоя сестра по другую сторону думает то же самое, хотя стремится это выразить более наперченным языком, чем твой. И так мы движемся втроем, и так мы движемся втроем, пока клубок не попадет в когти космического кота или Маркосова пингвина, пора объяснить тебе его появление на сцене, сегодня ровно в тринадцать часов в аэропорту Орли. Вероятно, это политическая тайна, так что, пожалуйста, не рассказывай мадам Франк, ведь мы знаем, что она настоящая гидра реакции.
– У Тан удаляется, – сказала Франсина, – и входит ухмыляющийся палач.
Мы уже давно отработали ритуальные диалоги, идеально удобные начала, которые с Людмилой были горячечным бредом, завершавшимся борением на ковре и хохотом, а с Франсиной были обменом очень тонкими стрелами, которые вонзались все ближе к сонной артерии, к заветному месту соединения бедер.
– Палач, – сказал я, – дарит тебе маленькую древнюю мудрость: para mas despacio atormentarme llevфme alguna vez роr entre flores, что в переводе с испанского означает: «И чтобы дольше меня помучить, однажды он повел меня в цветы».
– В те давние времена этот поэт уже знал нас, – сказала Франсина ритуальным голосом.
– О да: Франсина Захер Мазох и Андрес де Сад. Мы могли долго тянуть этот ритуальный диалог, грусть
и желание не спеша обменивались легкими щелчками, туманными выпадами, заниматься любовью с Франсиной означало нечто большее, чем, поспорив, помириться, определить временную территорию для контакта, – Франсина тогда не только отбрасывала все, что поднимало ее против меня, но сама устремлялась из потока споров в зону немыслимых бурь и как бы звала меня срывающимся голосом, превращаясь в шквал ликующих кимвалов и ногтей. Она всегда первая протягивала руку к тому переключателю, который гасил часы враждебных лиц и колючих слов, чтобы мы раскрылись другому свету, в чьих лучах из нашего словаря, немногих, но насыщенных смыслом словечек, создавался особый язык-постель, шепот-подушка, где тюбик крема или прядь волос были ключами шифра, знаками; Франсина дает себя раздевать, стоя у кровати с закрытыми глазами, и ее рыжие волосы, мягко вьющиеся, лезут мне в лицо, и она вздрагивает при каждом движении моих пальцев среди пуговиц и молний, плавно садится на кровать, чтобы я снял ей чулки и спустил трусики, и все это не глядя, живет лишь осязание, даже когда я на миг отрываюсь от нее, чтобы раздеться в напряженной, как струна, тишине, объединяющей любовников, которые, полные ожидания, совершают подготовительные движения; и вот Франсина, упершись ступнями в ковер, мягко откидывается на спину, заранее постанывая жадными, отрывистыми всхлипами, – музыка кожи, отвечающей своим трепетом на губы, скользящие по ее бедрам, и руки, раздвигающие их для первого глубокого поцелуя, сдавленный возглас, когда мой язык касается клитора и начинается малое, легкое соитие, и я чувствую, как ее рука забирается в мою шевелюру, безжалостно дергая меня за волосы, призывая подняться и в то же время заставляя оставаться на месте до предела, тешить ее наслаждением, которое я пока не разделяю, я, коленопреклоненный на ковре раб, которого держат за волосы, принуждают посасывать что-то соленое и теплое, и тут мои пальцы углубляются к укрывшемуся меж двумя лепестками клитору, и указательный скользит назад, ища другое, твердое, упругое отверстие, и я знаю, что Франсина будет роптать: «Нет, нет», сопротивляясь двойной ласке, яростно сосредоточенная на наслаждении, накатывающем спереди, призывая меня теперь обеими руками, вцепившимися в мои волосы, и, когда я увлеку ее за собою в постель и повалю на спину в глубине кровати, она, приподнявшись и подмяв меня, хватает мой член рукою и втягивает в свой пересохший, шершавый рот, постепенно наполняющийся пеной и слюной; она сжимает губы так, что мне становится больно, и словно цепенеет в непрерывной одышке, из которой мне приходится ее вывести насильно, я не хочу, чтобы она сглотнула, я хочу познать ее глубже, в головокружительных недрах ее чрева, которое пожирает меня и тут же отдает обратно, наши уста сливаются, я обнимаю ее плечи, терзаю ее груди, до боли придавливая их, и она сама этого хочет и требует, самозабвенно изливаясь в приглушенном длящемся стоне, утробном зове, в котором звучит почти протест и вместе с тем желание подвергнуться насилию, каждый мускул ее, каждое движение охвачены одержимостью, рот приоткрыт, глаза заведены, подбородок упирается мне в шею, руки блуждают по моей спине, захватывая ягодицы, прижимая меня все больше и больше, пока она не начнет изгибаться в судорогах, либо же я первый, когда огненная влага обжигает мне бедра, погружаюсь в нее до предела, и мы соединяемся в общем стоне, освобождаясь от власти могучей неодолимой силы, которая еще раз истекла, излилась в слезах и всхлипах, в биении замедленного ошеломляющего мига, когда вселенная, бешено кружась, бросила нас в жарком поту на подушки, в сон, в благодарный шепот, замирающий вместе с ласками дрожащих рук.
О, эта нежная, неуемно женская музыка тела Франсины, как ей сказать когда-нибудь, что только через любовь она обретает свободу, решается или заглядывается на самые причудливые выдумки желания, забывая о ножницах здравомыслия, которыми до и после будет подрезать формы настоящего, чтобы подогнать их к каким-то идеям и придать четкость, требуемую бдительным рассудком. Как ей сказать, что эта кровать, эта свойственная рыжим белая кожа, ее светлый пушок – вот портики, через которые она сможет по-настоящему войти в кукольную лавку, отпросив требования трезвого ума, что мало-помалу уже пробуждается – сигарета и оттененный подушкой профиль, удовлетворенная и, пожалуй, горькая улыбка, первый цепкий взгляд, пробежавший по всем четырем углам спальни, заглянувший в близящийся вечер, надо кому-то позвонить, предстоит душ, дезодорант, кинофильм ровно в девять, подведение дневного баланса с мадам Франк в безупречном бюро при магазине, где никто никогда не увидит валяющегося на полу лука или чашек, обернутых грязным полотенцем. Как иначе сказать ей, что я ее люблю, когда все остальное опять по другую сторону, когда я, оказывается, У Тан, ну ясно, когда Людмила. Проснуться, поглядеть на нее еще спящую – слабый свет ночника скользит по рыжим, мягко вьющимся волосам, очень белая рука лежит на груди; разбудить ее ласками, от которых она ежится и мурлычет невнятный, улыбчивый протест, еще смешанный с обрывками сна; и знать, что наступит наконец минута, когда ее глаза уставятся на меня будто издалека, а затем сосредоточатся внимательно и скорбно на моих глазах, пробегут по моему лицу, голове, будто сомневаясь, что я это я. И целовать ее, и знать, что будет жажда, будет виски со льдом, будет ужин, уход, возвращение в одиночество, долгая прогулка с остановками в ресторанах, у витрин с пыльными куклами, разговоры о пингвинах.
* * *
Что ни говори, Оскар провел изрядно напряженные полчаса, и, хотя ему, к счастью, пришлось произнести всего несколько слов, чтобы сообщить, что Аргентинское общество защиты животных и все прочее, тот момент, когда он очутился в машине, а таможенники остались в аэропорту, принес ему великое облегчение из числа тех, которые можно выразить только тем, что откроешь портфель и достанешь коробку с кордовскими миндальными пирожными, предназначенными для Маркоса, чьи права тотчас были попраны Людмилой и Гладис, которые ухитрились съесть большую часть, пока их жертва и Оскар обменивались первыми впечатлениями о скандале с Арамбуру и о стремительном восхождении генерала Левингстона. А что с этим недотепой Эредиа, поинтересовался Оскар, вдыхая воздух автострады с такой жадностью, словно он был свежайший, и чувствуя себя невероятно счастливым. Он сегодня вечером прилетает из Лондона, сказал Маркос. В Польше делают похожие пирожные, заметила Людмила, но молочные сласти, о нет, этого там нет. Хочешь, я научу тебя их готовить, предложила Гладис, тоже словно возродившаяся после получаса протокольных церемоний, надо только раздобыть тростниковый сахар, ведь свекольный сахар – это гадость, значит, ты полька? На заднем сиденье сыпались имена и быстрые, отрывистые замечания, Оскар отряхивался от новостей, как от мух, самое срочное было выяснено еще перед въездом в Париж. Нет, вначале, я думаю, муравьев на борту не было, но знаешь, все возможно. Здесь они орудуют вовсю, сказал Маркос, последнее письмо Эредиа, видимо, было перехвачено. Метров за двести машина с представителями зоопарка Венсенна начала правильный обгон полицейского пикапа, и Лонштейн снова занял свое место справа, безупречно соблюдая дорожный кодекс, меж тем как два представителя хватались друг за дружку, чтобы не свалиться от хохота на широкое зачехленное заднее сиденье, вспоминая примечательные моменты церемониала вручения и получения, что вызвало легкую тревогу у броненосцев, помещенных в багажнике, и сонное презрение пингвина, на которого экванил оказал невероятное действие. Высади нас в Порт-д'Орлеан, попросил Ролан, надеюсь, что с животными ты сумеешь управиться сам. Прекрасно управлюсь, господин директор, Маркос мне уже сказал, что чем меньше будут видеть вас двоих возле моего дома, тем лучше с муравьелогической точки зрения. Дело в том, сумеешь ли ты сам поднять контейнеры, сказал Люсьен Верней. Моя консьержка весит сто восемь кило, заметил Лонштейн, и это соматически, сиречь телесно, действует на лестницу, хотя как будто противоречит закону тяжести; когда этой толстухе вдруг взбредет в голову отнести мне наверх телеграмму, куда там ракете «Аполлон». В таком случае, сказал Ролан. Надеюсь, Маркос тебя предупредил, чтобы ты не выпускал животных из контейнеров, счел своим долгом прибавить Люсьен Верней. Ты, вероятно, хочешь мне внушить, что я не должен выбрасывать контейнеры на помойку, о ангел любви, сказал Лонштейн, спи спокойно, уж если Маркос мне что-нибудь объяснил, это все равно что рассказ о Троице для кафров. Прощайте, господа директоры, счастливого возвращения к дромадеру и гиппокентавру. Ах, чуть не забыл, че, гриб-то вырос на полтора сантиметра, ей-богу, вам стоит на него посмотреть; когда мы преодолеем этап с контейнерами и всей этой дерьмовой бучей, нет, я без намеков. Почему ты упорно стараешься повторить мне весь этот идиотский разговор? посетовал мой друг. Потому что он вовсе не идиотский, говорит Лонштейн, надо было, чтобы эти ребята, я хочу сказать, господа представители, знали, что я не меньше в курсе дела, чем они, хотя им это ни капельки не понравилось, потому как они технократы революции и считают, что веселье, грибы и моя консьержка не относятся к диалектике Истории. Итак, говорит мой друг, который отнюдь не технократ, но попросту торопится, ты поднял животных в свои апартаменты и возвратил машину. Да, говорит раввинчик, и гриб подрос еще на три миллиметра.
Когда они поехали по бульвару Распай, стало очевидно, что Оскар просто засыпает. Давай чуточку вздремнем, сказал Маркос, поговорим вечером, когда приедет Эредиа, да поосторожней с телефоном. У меня куча новостей для тебя, сказал Оскар, борясь с десятым зевком. Но Маркос только поблагодарил его за пирожные под наглое хихиканье Гладис и Людмилы, приканчивающих коробку, и предоставил Гладис описать местонахождение отеля для вечерней встречи. Стоя на тротуаре возле отеля «Лютеция», Оскар с минуту ошалело смотрел на дорожное движение этого Севра-Вавилона, держа в одной руке чемодан и другой – Гладис.
– Почему они так быстро умчались? Мы же могли вместе пообедать или так посидеть, у меня столько есть чего рассказать Маркосу.
– Этот парень знает, что делает, – сказала Гладис, – когда ты посмотришь на себя в зеркало, ты поймешь, что не зря я тебе заказала номер люкс; что до меня, любовь моя, мне надо принять душ, хотя на сей раз в ванной у нас не будет пингвина. [67]67
by-day – дневной (англ.).
[Закрыть]

– Пирожные очень вкусные, только слишком сладкие, – заметила Людмила, сворачивая с бульвара Распай на улицу Деламбр. – Почему ты не остался с Оскаром? Мне показалось, вид у него был какой-то разочарованный.
– На самом деле, скорее сонный, – сказал Маркос, – а в таком состоянии не больно-то поговоришь. Но, если хочешь знать правду, я должен попытаться уяснить кое-какие обстоятельства, и теперь, когда мы удачно провернули наше дельце, я могу спокойно подумать. Остановись здесь, приглашаю чего-нибудь выпить.
Еще раньше, отправляясь в полдень в Орли, Маркос себя спрашивал, почему Людмила. Ему понравилось, что она предложила вести машину, что не пришлось действовать через Андреса, который, повернувшись спиной, нарочито занялся проигрывателем. Объяснить ему уловку с бирюзовым пингвином было бы делом недолгим, а на Людмилу накатил такой приступ хохота, что она, узнав, что едут Ролан и Люсьен Верней, была готова париться в автобусе № 94. Но потом, когда выехали на автостраду, Маркос почувствовал, что она начинает отчуждаться, думая о чем-то, изменившем ее манеру вести машину, – она вдруг стала какой-то резкой и словно бы встревоженной. Он искоса взглянул на нее, зажег сигарету и протянул ей.
– Это как жизнь, – сказала Людмила, – глядишь, вроде шутка или фарс, а там где-то притаилось совсем другое. Тут два момента, не думай, что я не понимаю, два очень понятных момента. Первое то, что история с пингвином вовсе не шуточка, а второе, что ты меня посвятил в это дело. Ты посвятил в это дело меня. Теперь я, понимаешь ли, соединяю и то, и другое. И будет логично, если я тебя спрошу, почему ты со мной об этом заговорил, почему рассказал мне.
– Просто так, – сказал Маркос. – В таких вещах причина не всегда ясна.
– А Андресу ты об этом рассказал?
– Нет, мы все больше говорили о женщинах. О пингвине я только упомянул, и, как ты сама видела, его это не слишком заинтересовало.
– Зато теперь ты… Почему? Потому что я предложила подвезти тебя в Орли? Ты мне ничем не был обязан. Представь себе, что я… ох, хрен ядреный и ракушка кудрявая, пардье, не подберу слова.
– Ты смешиваешь в равных дозах аргентинские и галльские ругательства, милая полечка.
– А у меня то преимущество, что я не очень понимаю их смысл, – сказала Людмила. – Раньше Андрес заставлял меня повторять разные словечки, чтобы посмеяться вместе с Патрисио и Сусаной, а, по-моему, они звучат очень мило.
– Да, звучат мило, – сказал Маркос, – только иногда их неправильно употребляют и тем все портят. Ну, конечно, я тебе доверяю, тут твое наитие тебя не обмануло. И тебе незачем воображать что-то сверхнеобычное.
– Да, но… Ну ладно, я и впрямь пыталась немного помочь, эти сигареты с Сусаной и прочее, но то, что ты ни с того ни с сего вдруг выкладываешь мне все про пингвина и про двадцать тысяч фальшивых долларов, это уже нечто совсем другое.
– Если ты тревожишься, что я тебе об этом деле рассказал, можем это попросту забыть. Без всяких условий, все остается по-прежнему.
– Нет, нет, напротив. Напротив, Маркос. Это… Ох, черт, ты понимаешь.
Маркос положил руку ей на плечо, потом убрал руку.
– Все очень ясно, полечка. Не считай, что ты замешана в том, что мы делаем. Если я с тобой об этом заговорил, поверь, это потому, что, возможно, тебе когда-нибудь захочется быть с нами, но это должно прийти само, вроде желания лечь спать, или порезвиться, или сходить в кино, ну, как приступ кашля или невольное ругательство. И главное, тебе нечего беспокоиться. Если тебя это не интересует, больше об этом ни слова, и конец. Но не думай, что я забыл про Андреса.
– Его мнение никак не может повлиять на мои поступки, – сказала Людмила. – Я работала с Сусаной, и это его ничуть не интересовало, он, правда, не возражал, просто то, что вы делаете, кажется ему ребячеством и его раздражает. Меня сперва тоже это лишь забавляло, но теперь я начинаю смотреть по-другому. Да, мне надо это обдумать, – сказала Людмила, ловко обходя бельгийскую машину, которая упорно желала переместиться через три ряда, к величайшему негодованию местных водителей.
– Ты нездешняя, – сказал Маркос. – Никто не может требовать, чтобы ты встревала в ответственное дело, например, проявляла патриотизм.
– А директора зоопарка в Венсенне тоже не патриоты? – спросила Людмила.
– Конечно, нет, но, чтобы все так думали, достигнуть нелегко, и на это нельзя рассчитывать.
– Выходит, интербригады?
– Допустим. Они, я полагаю, были не хуже, чем многие другие.
– Без пяти минут час, – сказала Людмила. – Пингвин, наверно, уже приземляется.
Отчасти из-за всего этого, а также просто потому, что Людмила, они оказались в кафе на улице Одессы – укромный уголок, зеленые табуретки и тишина, располагавшая к белому вину, сигаретам и воспоминаниям. Теперь речь пошла о Кордове, о дружбе с Оскаром в буэнос-айресском пансионе, о старике Коллинсе – весь этот сложный, запутанный клубок, который Маркос разматывал для Людмилы, отвечая на ее вопросы или на ее молчание, не удивляясь тому, что Людмиле хотелось знать, есть ли у них пирожные другого сорта, учился ли с ними в университете Лонштейн, и тому, что в какую-то минуту, когда он объяснял ей резоны неизбежности Бучи, Людмила, подперев подбородок кулаками, уставилась на него, как цыганка, поднявшая взор над стеклянным шаром, прежде чем объявить зловещее пророчество.
– Я в этом мало что понимаю, – сказала Людмила, – и, по правде, в данный момент это неважно. Я только хотела бы, чтобы ты мне сказал одну вещь.
– Догадываюсь, – сказал Маркос. – Что через час ты вернешься домой и что тогда.
– Да. Потому что я не люблю врать, если можно этого не делать, и теперь мне этого особенно не хотелось бы. Андрес мне никогда не врет, хотя преимущества этой его системы весьма сомнительны. Итак, есть пингвин, старик Коллинс, все прочее. Но также есть пучеро, которым мы вместе будем ужинать, и между одним глотком и другим о чем-то надо же говорить.
– По-моему, можешь ему все рассказать, полечка. Андрес не с нами, я все ждал, что он сам сделает первый шаг, но ты же видишь. Возможно, мне надо было с ним поговорить, как с тобой, по праву старой дружбы, возможно, он бы хорошо отреагировал, как знать. С ним тоже надо действовать по наитию, но если я этого не сделал, значит, не сделал, и баста. Если хочешь, можешь, разумеется, обо всем ему сказать. Я знаю, он не ответит ни да ни нет.
– Очень хорошо, – сказала Людмила. – Что до меня, то я, бог весть почему, чувствую себя очень счастливой. Не смотри на меня с таким видом. Я всегда что-нибудь такое ляпну.
– Я смотрю на тебя не поэтому, – сказал Маркос. – Смотрю просто так, полечка.
* * *
Да, но кто ты, кого я держу в объятиях, кто уступает и отказывает, жалуется и требует, кто в этот миг упрямствует? И получается так, что она согласна на все (но кто ты, кого я держу в объятиях?), и лишь когда я хочу постепенно спустить ее трусики, она сжимает бедра и сопротивляется, она хочет это сделать сама, ей надо, чтобы именно ее пальцы ухватились за резинку и медленно сдвигали бледно-розовые трусики до середины бедер, потом она чуть приподнимает ноги, и трусы соскальзывают пониже коленок, и тут начинается мягкое колыханье шатунов, плавные велосипедные движения, трусики ползут вниз, меж тем как ее руки безвольно лежат вдоль тела, и вот трусики закатались в трубочку, и тут уж ничего не поделаешь, напрасно я хочу ей помочь, нет, нет, она сама, она снова действует руками, приподнимает бедра, и наконец мелькнули лодыжки, ступни, и вот последнее движение, и трусики уподобились розовому крохотному щеночку, свернувшемуся клубком у ее ног, которые, распрямляясь, отстраняют его, и именно теперь вздох, как раз теперь вздох, вздох примирения с наготой, и она, слегка улыбаясь, смотрит на меня искоса.
Я не понимаю, но люблю этот повторяющийся ритуал, почему ты не позволяешь спустить твои трусики, почему изгибаешься в постели, словно резвящийся дельфин, пока мои пальцы одним рывком не отшвырнут этого розового щенка чихуахуа, прильнувшего к твоим холодным ступням, на которых я перецелую все пальчики, которые старательно оближу, щекоча тебя, чтобы ты, смеясь, отбивалась, и извивалась, и называла меня фетишистом, и отталкивала, прежде чем покориться телу, которое, устремляясь все дальше, ищет твое тело, губам, скользящим по твоей коже, глупому члену, тычущемуся в твои коленки и живот, увлажняя их, – прелюдии, изобретаемые вновь при каждом повторении, на каждом отрезке нашего пути, аромат твоих ногтей, нарочито растянутые поиски уже найденного, непостижимое открытие уже известного, твои пальцы, блуждающие в моем паху, ухватывающие мой член, и вот мы барахтаемся друг на друге, утоляя жажду кожи, ставшей вдруг многоустой, многорукой и многозубой, – первозданная гидра, нежный головоногий андрогин, путаница средств и целей, рот-член, рот-анус, твой язык – фаллос, ищущий меня, мои уста – влагалище, куда ты его погружаешь, музыка багровой тишины, соната с переплетением двух голосов, двух змей кадуцея, стремящихся к финальному разрешению, к последнему аккорду, которого я не услышу, потому что в этот раз, как и много раз прежде, ты мне в нем отказала, будет как с трусиками, которые спускаешь только ты сама, и я поверну тебя на бок, буду целовать шею, скользить губами по спине, а ты будешь лежать неподвижно, покорно, и когда я вдруг, лишь вообразив, чего желаю, почувствую снова прилив силы и жажды, ты, обмякшая и слабая, всему подчинишься и, уткнувшись лицом в подушку, разрешишь себя целовать, будешь шептать «я твоя маленькая, слабенькая кошечка», я догадываюсь, что твои глаза закрыты, вижу откинутые кверху руки, вся ты похожа на пловчиху, словно раскачивающуюся на краю трамплина, готовясь к идеальному прыжку, и я буду спускаться по твоей спине, ты дашь ее исследовать и изучать, ощущая бесконечные касания моего языка, стремящегося все глубже, посасывания губ, которые припали к огненно-мшистому колечку, и, чувствуя, как оно то сжимается, то уступает, освобождают его от повседневного, потаенного рабства, призывая к таинству куда более высокому, чем обычные рассеянные прикосновения моющей и очищающей ладони, выводя это колечко из некоего небытия, которое иногда нарушается лишь болезнью ради пальцев более внимательных, ради свечкообразных снадобий, ради измерения температуры, – и ты позволишь себя лизать, и ласкать, и пальпировать до того момента, когда вдруг снова отпрянешь, отказываясь, изогнешься дугой, протестуя, «нет, это нет, ты знаешь, что это нет», и повернешься ко мне со стоном, потому что я сделал тебе больно, пытаясь тебя удержать и раздвинуть ягодицы, одним рывком ты оттолкнешь меня, и я увижу сжатые губы, твердое намерение не уступать, слышу в голосе металлические нотки, эхо вековых запретов, и снова еще раз вырастут передо мной врата роговые и врата костяные, и ангелы Содома с развевающимися кудрями проскользнут меж охранительными простынями, и вот опять ты лежишь лицом кверху, подставляя освященный традицией живот, четко разграничивая «да» и «нет», и опять катехизис и святая Церковь, слившиеся в единое «нет», о пугливая газель, чтящая умеренность, ты слепок твоего Бога, твоей родины и твоей семьи, смехотворное порождение кучи условностей, комильфотная образцовая пай-девочка, аминь, аминь, разве что, разумеется…
* * *
– Мы теряем время на встречу с этими заморскими паршивцами, – возмущался Патрисио, угодив в семь вечера в плотную пробку на Севастопольском бульваре, – а Эредиа, ясное дело, уже должен был прилететь в Бурже, как пить дать.
– Не сыпь мне соль на рану, братец, – сказал Гомес. – Кому ты это говоришь, я занимался своей коллекцией марок Габона, а тут Маркос звонит. Но, если ты включишь свет, я тебе почитаю газету, и, может, у тебя пройдет эта судорожная гримаса, от которой вид у тебя piuttosto [68]68
Довольно-таки (итал.).
[Закрыть]кадаврический.
– Я не люблю ездить с включенным светом, че, это будет вроде свадьбы гомиков, тем более, что ты в этом голубом пиджаке, ей-ей, на это способен только панамец. Ладно, ладно, вот тебе свет.
– Вы, молодежь, – сказал двадцатитрехлетний Гомес, – полагаете, что, расхаживая в сорочке или в майке, вы тем самым подрываете устои. Ну вот, что ты скажешь про такую заметку?
– Давай читай, пока я спрямлю по этой улочке, тут, кажется, посвободней. Что? В Ла-Калере?

Гомес на полной скорости читает: АРГЕНТИНА. ПАРТИЗАНЫ ЗАХВАТИЛИ СЕЛЕНИЕ С ДЕСЯТЬЮ ТЫСЯЧАМИ ЖИТЕЛЕЙ БЛИЗ КОРДОВЫ. Во вторник полтора десятка партизан на пяти машинах захватили Ла-Калеру, селение с десятью тысячами жителей в 25 километрах от Кордовы. Разбившись на несколько групп, осуществлявших связь с помощью «уоки-токи», и действуя, по словам очевидцев, с величайшим хладнокровием, нападающие захватили телефонную станцию, почтово-телеграфную контору, муниципалитет и, подавив сопротивление полицейских, комиссариат. Опять не проехать, – сказал Патрисио, – вот шикарная новость для Эредиа, да он буквально будет на седьмом небе. «Ворвавшись в банковский филиал, они взяли десять миллионов песо» /двадцать пять тысяч долларов, Боже праведный, вот будет злиться старик Коллинс, как подумает, что это же настоящие, да, кстати, заметь, как это совпало с пингвином и броненосцами, если дело и дальше так пойдет, мы станем миллионерами/, но дай же мне дочитать, черт возьми, «дабы обеспечить расходы на революцию и утолить голод рабочих кордовского автозавода. С начала июня эти рабочие бастуют. Смелая операция напоминает совершенную 8 октября прошлого года, когда тупамаро захватили Пан-до, небольшой уругвайский поселок».
Несомненно, что для Эредиа это была шикарная новость, жаль только, что они не смогли сразу же ее сообщить ему, потому что в очереди на проверку паспортов он беседовал с каким-то высоким тощим типом, вероятно, тоже бразильцем. Эредиа издали их поприветствовал, помахав руками, державшими портфель и бутылку виски, весьма полезная уловка для того, чтобы попутно подмигнуть, что было должным образом воспринято Патрисио и Гомесом, каковые, естественно, встретили путешественника объятиями и восклицаниями, абсолютно ничего не значившими, меж тем как Эредиа представлял их сеньору Фортунато, своему мимолетному соседу по креслам, который заявил, что он очень-очень. По каковой причине Гомес пристроился к Фортунато, и они вдвоем пошли получать багаж, а Эредиа вполголоса сказал Патрисио, слушавшему с полным вниманием, attenti al piato, это муравей, потом, все объясню. Фортунато одобрил идею оставить чемоданы в камере хранения на выходе и сходить пропустить по стаканчику на прощанье, раз Эредиа пробудет в Париже всего несколько часов, уважаемый земляк уже рассказал ему о своей стародавней дружбе с Гомесом и Патрисио, о монмартрских шалостях, богемной жизни, аx, эти годы безденежья были лучшими годами, и Патрисио плетет муравью-путешественнику, что Эредиа, мол, сеял разврат и мотовство на всей улице Бланш, меж тем как более скромный и трудолюбивый Гомес создавал свою коллекцию марок, предмет восхищения и зависти небольшого Панамского землячества в Париже. Рассказ о Ла-Калере был отложен, дело в том, что муравей-путешественник чего-то вдруг заинтересовался новостями и, пока им подавали вторую порцию виски, накупил вечерних газет, однако его комментарии к известию, что в Гейдельберге около тысячи студентов устроили пикет, протестуя против присутствия Макнамары, вызвали у Гомеса и Патрисио лишь учтивое «гм» и чисто алкоголический восторг у Эредиа, который еще в Лондоне принял три стакана виски да два, пролетая над Ла-Маншем, и которого, казалось, больше всего веселило то, что студенты перебили окна и зеркала в здании, где находился сеньор президент банка, созданного именно для реконструкции. Когда Фортунато добрался до Ла-Калеры на третьей странице «Монд», было

вполне логично, что он спросил у Патрисио, знает ли Патрисио об этом, и что Патрисио ответил «да», в Аргентине дела идут из рук вон дрянно, несчастная страна, старик. Фортунато, видите ли, всегда интересовался аргентинскими проблемами, потому как он из приграничной области и жил в Ресистенсии и в Буэнос-Айресе, вы же заметили, что он говорит по-испански довольно бегло, конечно, не так, как его друг Эредиа, который скромно запротестовал, но все же никак не избавится от бразильского акцента, ошибок и ляпсусов и некоей африканской скороговорки, неуместной в чистой испанской речи, так что, поскольку Патрисио живет в Париже, было бы замечательно иногда встретиться и, если Патрисио познакомит его с другими аргентинцами, потолковать об этих делах, ну, разумеется, дайте мне телефон вашего отеля, я позвоню, сказал Патрисио. За третьим стаканом виски, обменявшись необходимыми топографическими и ономастическими данными, полистав блокноты и записные книжки, заговорили о мировом кубке и о Пеле, да что тебе-то рассказывать, о землетрясении в Перу, о сафре на Кубе, о которой Фортунато имел сведения из первых рук, тогда как остальные трое, казалось, были не очень-то в курсе, и еще о новом стиле жизни в Лондоне, где Эредиа провел совершенно оргиастический месяц, уж можете ему поверить, о да, можем. Фортунато, по-видимому, это не слишком интересовало, однако чувство симпатии к новому другу обязывало его слушать и смаковать услышанное – меж тем «Монд» лежала смятая, как тряпка, на коленях у муравья-путешественника, который после одной-двух попыток извлечь из нее злободневные темы смирился и стал слушать россказни Эредиа его дорогим друзьям о давней богемной жизни, тут уж не вставишь и малейшего намека на социо-экономический контекст, и Фортунато понимал, что лучше всего было бы уйти, но ничего не поделаешь. Эредиа пустился в воспоминания о районе Earl's Court, S. W. 5 [69]69
Эрлз-Корт – район в западной части Лондона.
[Закрыть], если ты туда как-нибудь поедешь, дам тебе адреса хороших отелей, старик, не сравнить с этим пуританским городом, Лондон for ever [70]70
Вечный (англ.).
[Закрыть], черт его дери, ты, верно, тоже не дурак поживиться, и Фортунато с видом знатока ухмыляется, и Гомес толкает его в бок, ох уж эти мне распутники кариоки, да бросьте, я вовсе не из Рио-де-Жанейро, это не важно, все вы более или менее такие, это климат виноват, и Эредиа щедро расточает технические подробности того, как надо раздевать девчонок, когда они не хотят или прикидываются, будто не хотят, что еще хуже, потому как голова у них при этом ясная и всегда наготове ногти, оплеухи и апперкоты коленкой, что особенно противно, во всяком случае, верней всего действовать нежностью, подкрепляемой sotto voce [71]71
Вполголоса, тихо (итал.).
[Закрыть]силой тяжести, многого, ясное дело, не добьешься, если девчонка уже не сидит или, еще лучше, не лежит в постели, и тогда Эредиа слегка ее обнимает, одновременно трепля ее прическу, и целуя, и расстегивая бюстгальтер, а это они обычно позволяют без особого страха и в Лондоне, и где угодно, и, когда грудки под блузкой высвобождены, надо лишь улучить момент, чтобы их приподнять и нежно потрогать, пощипывая и обводя пальцем, а потом и всей ладонью – бессмертный, волнующий жест берущего бокал, – и в этом случае не важно, лежит ли она ничком, все равно твои губы прильнут и будут пить из розового бугорка, которому это приятно и который, как маленький вулканчик, набухает, хотя Диана или Дженнифер говорит «нет нет нет» и прячет лицо в подушку, и буря медных волос хлещет по лицу Эредиа, который исподтишка занялся язычком молнии на юбке, и это критический момент (sic!), потому как Диана сдвигает коленки и поворачивается на бок или решительно ложится ничком, и тогда надо сосредоточиться на ее затылке и плечах, проложить вдоль спины пунктирную дорожку поцелуев, акупунктируя ее и картографируя, успокаивая легким прикосновением влажных губ к уху, покусывая мочку и шепча «глупышка», да «почему ты», да «повернись», да «пусти меня», да «не будь такой», и Диана или Дженнифер будет вздыхать и говорить «нет», но мало-помалу разрешит себя повернуть, и язычок молнии скользнет вниз, а это надо делать так, как показывает ее название, раз и готово, но в одном этом движении сказывается гений стратегии, гений Аустерлицев и Чакабуко, ведь если действует Эредиа, все делается синхронно – язычок молнии скользнет вниз до упора, одновременно юбка спустится на бедра, и тут Эредиа подчеркивает главную деталь, от которой зависит все остальное, – трусики должны спуститься вместе с юбкой, а порой это нелегко, потому как Диана сжимает ляжки, или же, бывает, зацепишь пальцами только юбку, а резинку трусов не ухватишь, но когда действует Эредиа, все включается в единую структуру опускания, как написали бы, рассуждая о подобных проблемах в «Тель Кель», и тогда-то произойдет самое изумительное, та метаморфоза, задуманная бессмертными и зоркими богами, которые бдят у изголовья, а именно то, что трусики, опущенные одним ловким движением до середины бедер, и не более чем до середины, и не только опущенные, – но тем же движением руки скатанные в трубочку – а это получается не само собой, тут надо помочь ладонью, словно бы разминаешь тесто для слоеного пирога, – превращаются в нечто, mutatis mutandi, похожее на пару полицейских наручников, достаточно сказать, что скатанные в трубочку трусики становятся двойным нейлоновым упругим ярмом, которое сковывает движения сомкнутых бедер, дерганья упирающегося и лягающего крупа, нейтрализует их, как кулаки опасного злоумышленника, схваченного блюстителями порядка, обращает их в два мелькающих веретена тщетного, вялого, бледно-розового сопротивления, которое где-то там, вверху, изливается стоном, ибо Диана или Дженнифер поняла, что уже не может воздействовать своими длинными, шелковистыми, абеляровскими ножницами в ментальном и физическом смысле на Эредиа, ведь он теперь лег отчасти рядом, отчасти на и занялся длинным скользящим поцелуем, который начинается на устах и теряется где-то на животе, исследуя пупок, нежно пахнущий пшеницей и тальком, а затем возвращается к грудям, всегда, неизменно ждущим его в течение всех этих вылазок, и атак, и подкопов, и контрподкопов, и тут Эредиа свободной рукой начнет и сам разоблачаться, на этом этапе не претендуя на Адамову наготу, отнюдь, ведь такая претензия привела не одного максималиста к поражению в почти уже выигранном сражении, нет, коли удастся, надо только спустить брюки до середины бедер и, коли удастся, трусы, а коли нет, тоже покамест не беда, этот момент очень важен, теперь требуется отвлечь внимание Дианы поцелуями, и ласками, и щекочущими твоими собственными волосами, они всегда помогают, вызывая колебания ляжек, которые есть последнее «нет», а по сути, «да», отчаянная попытка освободить бедра от пут-наручников, когда пальцы Эредиа пробегают по наэлектризованному пушку, чтобы углубиться в запретную, запрятанную территорию, где Диана почувствует, что слишком поздно и что она уже не может взбрыкнуть, и жалобно попросит, чтобы Эредиа ее освободил, еще твердя «нет», больше ничего она не способна произнести, но она вся ожидание другого его орлино-молниеносного броска, другого мгновенного рывка, когда трусики должны миновать Сциллу и Харибду ее колен, где они обычно норовят запутаться, и скользнут еще ниже, желательно до лодыжек, и здесь стоп, это последняя мера предосторожности, почти всегда излишняя, ибо слышится глубокий вздох, тебя обдаст не требующим пояснений жаром, выгнувшееся дугою тело возвращается к горизонтали, голова откидывается в сторону со всхлипом, в котором сосредоточен весь соглашательский дух Commonwealth [72]72
Содружество (англ.)– межгосударственное объединение Великобритании и бывших английских доминионов, колоний и зависимых территорий.
[Закрыть], и тогда уж надо спустить трусики окончательно, помогая одной ногой, освободить пленницу, ее ноги почувствуют себя свободными, но уже тяжесть тела Эредиа накрыла всю территорию, которая ходит ходуном и бормочет «нет», «не хочу», «ты нехороший», «ты меня придавил», и тут наступает момент дарвинского атавизма, мягкого, бархатного регресса к лягушечке, бедра начинают ритмично раздвигаться, коленки поднимаются, хотя никто этого не требует, недоступная крепость сама отдает свой мшистый ключ, Эредиа по-архимедовски знает, что ему нужна лишь одна точка опоры, и он упирается коленями в удобную впадину, и его пальцы поползут ко рту за слюной, которая в эту ночь некий пароль и знак, помогающий отворить дверцу крепости, ключ к тайной комбинации цифр, Диана, эта распятая и всхлипывающая лягушка, застонет, а сиракузец еще раз почувствует, что; он уже может перевернуть мир, что все начинает кружиться, и подниматься, и плыть, и погружаться по всем законам физики и химии в многоцветной круговерти, мелькающей перед закрытыми глазами, среди прерывистого шепота и растрепанных волос. На этом месте Фортунато решает, что настало время откланяться, и, после многих welcomes [73]73
Приветствия (англ.).
[Закрыть]и «успеха тебе с француженками», поднимается из-за стола, не преминув напомнить Патрисио, что он был бы счастлив снова встретиться, чтобы потолковать о южноамериканских проблемах, желание, которое Патрисио, конечно же, разделяет, еще бы.








