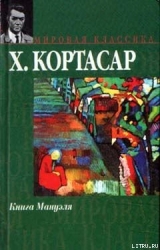
Текст книги "Книга Мануэля"
Автор книги: Хулио Кортасар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
– Гм, – сказал я.
– Что – гм? – спросил Маркос.
– Я с тобой согласен, что ледышка, она и есть ледышка, будь она во всех других отношениях чудо, а не женщина.
– Если она ледышка, то чудом уже быть не может.
– Позволь договорить, че. Должен заметить, что то, что ты называешь взрывом или восторгом, есть свойство преимущественно мужское, особенно у взрослых, ведь всем известно, что ребенок в мужчине сохраняется дольше, чем в женщине.
– Пусть так, во всяком случае, я всегда буду искать тех женщин, которые каждые пять минут, выражаясь фигурально, изобретают самолет или подводную лодку, которые, увидев лист бумаги и ножницы, не преминут вырезать кролика, которые, стряпая, льют на сковородку мед вместо масла, чтобы посмотреть, что станет со свиными ребрышками, и которые то и дело мажут губы тушью, а ресницы помадой.
– Mutatis mutandi [62]62
С необходимыми изменениями (лат.).
[Закрыть], ты желаешь, чтобы они были, как ты, не считая туши.
– Не то чтобы были как я, но чтобы ежеминутно помогали мне чувствовать себя самим собою.
– Короче, требуются музы.
– Это не из эгоизма и не потому, что мне нужны рычаги, чтобы перевернуть мир. Просто, когда я живу с женщиной пассивной, это меня мало-помалу приводит в уныние, пропадает охота заваривать свежий мате, горланить песни в ванной, все время как бы слышишь глухой призыв к порядку, чтобы каждая вещь на своем месте, канарейка скучает, молоко не убегает на плиту, прямо жуть.
– Да, понимаю, иногда я это испытывал, но я бы сказал, старик, что это цена, которую платишь за кое-что другое. Возможно, что только самые бесшабашные приключения, междуцарствия любви, могучие взлеты с какой-нибудь Надиной или Аурелией могут дать ощущение того тысячелетнего царства, которого ты ждешь. Другое – это две комнаты, ванная и кухня, то, что зовется жизнью, то, что длится, мне это нередко говорили женщины, и они были правы, конечно, правы. В сущности, если мы с Людмилой живем так, как живем, то, наверно, потому, что долго это не продлится, вот и позволяешь себе восторги, если уж придерживаться твоего столь изысканного словаря.
– Тебе видней, – сказал Маркос, выплескивая вино в стакан с некоторой яростью, отчего граммов сто пролилось на скатерть, к счастью, синтетическую, моющуюся.
– Но если женщины для тебя такие слабые стимуляторы, я подумал, а не стоит ли тебе попробовать то, что называют гомосексуальным опытом, в общем, не мне об этом тебе говорить. Вспомни Ореста и Пилада, Гармодия и Аристогитона, Тесея и Пирифоя – где еще искать-то большего восторга, судя по тому, сколько шуму наделали эти парни в мифологии и в истории.
– Ты так говоришь, словно речь идет о том, чтобы купить себе другой вид желчегонных таблеток или о чем-то подобном.
– И ты никогда не проделывал этого опыта? Слыша твои характерологические требования, спрашиваешь себя, не в них ли содержится ответ.
– Нет, никогда, это меня не привлекает. Дело тут не в предрассудках, а просто в либидо. А ты?
– Я – да, еще подростком, и это было чудесно и гнусно и много помогло мне в тот день, когда я открыл для себя женщин, – та привязь была начисто отрезана, и я, в отличие от тебя, не искал на вербе груш. Забавно, что и у Людмилы было когда-то гомосексуальное переживание, из-за которого она там, в Кракове, как она рассказывает, однажды в снежный день едва не вскрыла себе вены. Но если разрешишь мне некое da capo ai fine [63]63
Повторение с начала до конца (итал.,музыкальный термин).
[Закрыть], все твои слова о восторгах и взрывах хороши, пока держишь в уме-цели более высокие; меня, например, восторги болельщиков «Сан-Лоренсо» или Николино Локке, не говоря о хрустящем картофеле, оставляют более чем холодным, и если уж начистоту, так вчера вечером меня, например, чуть не стошнило от вашего знаменитого «карманного» сопротивления. Когда знаешь, что, по данным уважаемой организации, на этом дерьмовом шарике томится двести пятьдесят тысяч политзаключенных, твои горелые спички не вызывают слишком большого восторга.

«Сообщение „Международной амнистии“
В МИРЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 250 000 ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ
Лондон (АФП, ЮПИ). По оценкам, содержащимся в докладе британской секции «Международной амнистии», озаглавленном «Облик гонений в 1970 году» и опубликованном в воскресенье, в мире насчитывается около 250 000 политических заключенных. Рекорд, как указано в докладе, достигнут в Индонезии, где имеется около ста шестнадцати тысяч политических узников, арестованных за симпатии к коммунистическим идеям, большинство которых заключены в тюрьму без суда. В СССР, предположительно, есть «несколько тысяч» узников, а в ЮАР, где ситуация «неуклонно ухудшается», человек пятнадцать, по данным доклада, скончались в тюрьме. В докладе подчеркивается, что благодаря усилиям «Международной амнистии» с 1961 года было освобождено более двух тысяч политзаключенных».
Маркос зажег сигарету хорошей спичкой и пристально глянул на Андреса.
– Одолжи мне машину, чтобы я мог встретить Оскара, он прилетает в час.
– Пожалуйста, она стоит на углу слева. Почему ты не отвечаешь на то, что я только что сказал?
– Если ты сам себе не ответишь, мой ответ ни к чему.
– Ладно, но ты не воображай, будто я не думаю о ваших скандальчиках, и единственное им оправдание я вижу в том, что это, возможно, некий вид тренировки, такие, скажем, попыточки, испытаньица для проверки людей, которых до конца не знаешь или которые сами себя не знают. Другая гипотеза была бы слишком гнусной, и я предпочитаю умолкнуть, выключим эту музыку.
– И правильно делаешь, побереги батарейки для своей экспериментальной музыки, – сказал Маркос. – Давай ключи от машины. Привет.
– Привет, – сказала Людмила, входя с пакетами артишоков, лука-порея и детергентов. – Я просто жалкая черепаха, пока я приготовила кое-как два коробка, Сусана успела сделать пять, так что о спичках лучше не будем говорить. Ву the way [64]64
Кстати (англ.).
[Закрыть], Мануэль погрыз один из лучших коробков, пришлось перевернуть проказника вниз головой и дать ему касторки, вот будет нынче работа у бедной Сусаны. Останешься поесть с нами аргентинского пучеро с жареной кукурузой и всем прочим? Андрее научил меня его готовить, можешь спросить, вкусно ли получается.
– Мне надо ехать встречать бирюзового пингвина, – сказал Маркос.
– О Андрее, поехали с ним встречать бирюзового пингвина!
– Поезжай ты, – сказал я. – Я хочу закончить книгу. Этот тип мне все удовольствие испортил, да заодно присмотрю за пучеро.
– Что это за история с пингвином?
– Объясню в машине, – сказал Маркос, – пока ты будешь вести, в этом треклятом городе твоя помощь будет весьма ценной. Значит, ты не едешь, че?
– Нет.
– Подожди, я сейчас вымою лук и положу все, что надо, в кастрюлю, – сказала Людмила, устремляясь на кухню.
– Она в восторге, – сказал Андрее. – И это тебе не хрустящий картофель.
* * *
– Ты не видел, как кормят гусей, чтобы у них развился цирроз печени и у паштета был более тонкий вкус? Такая воронка, думаю, понадобится и нам, чтобы заставить этого карапуза глотать суп.
Мануэль благоразумно проигнорировал далеко идущие планы своего отца, но Сусана произнесла несколько словечек, которые невинному примерному дитяти в его раннем детстве не следовало бы слышать. В глубине комнаты мурлыкал ротатор, по возможности заглушённый ширмой с навешанными на нее одеялами и пластинкой Анибала Тройло. В руках у Гомеса и Моники он работал вдесятеро лучше, и материалы на французском и испанском были почти все готовы; мой друг, пробежав их, удивился лаконичности и объективности документов, рассчитанных на то, чтобы спровоцировать самую бурную реакцию; во всяком случае, требования Бучи там были изложены совершенно ясно, и господам из Рейтер и прочих вашингтонствующих агентств, чтобы их исказить, пришлось бы пустить в ход весь свой риторический арсенал. На другом конце того же стола, за которым Патрисио и суп ополчились вдвоем против одного – правда, Мануэль был не из тех, кто погибает молча, – дальновидная Сусана продолжала изготовлять книгу для чтения, задуманную на предмет будущего, пусть отдаленного, обучения грамоте, вклеивая туда газетные заметки на разных языках, что, кстати, помогло бы билингвизации бедного малыша. Моему другу, который внимательно наблюдал за созданием книги, а порой и участвовал в нем, особенно нравилось то, что Сусана заботилась о развитии у Мануэля интуиции и изобретательности, и среди прочего там был подаренный моим другом эпиграф, который Эдгар Варезе поместил в «Аркана» и который, по мнению Андреса, был заимствован не у кого иного, как у Парацельса, а впрочем, поди узнай после всех мутаций, ибо мой друг перевел его на испанский с французского текста, который, видимо, был переведен с латинского или немецкого оригинала и гласил следующее: «Первая звезда – звезда Апокалипсиса. Вторая – звезда восходящего. Третья – звезда стихий, коих есть четыре. Итак, есть шесть звезд. И есть еще одна, это звезда Воображения».
– Пустая болтовня! – появляясь из-за ширмы, сказал Гомес, весь измазанный типографской краской. – Обычная болтовня иллюминатов или алхимиков, во всяком случае, спиритуалистов. Меня на такой дребедени не проведешь.
– Ты говоришь глупости, – учтиво заметил Патрисио. – Одно дело – ошибка в системе, обнаруженная в свете последующих научных уточнений, и другое – заключенная в ней истина, нечто вечное, хотя и покоящееся на груде всякого хлама. Еще вопрос, много ли теперь найдется приемлемого в платонизме или аристотелизме, а все же каждый, кто читает этих двоих древних греков, становится богачом почище того, другого грека, супруга Марии Кал лас.
– Гульп! – сказали враз суп и Мануэль, чей прочный союз был мгновенно разрушен приступом кашля, разметавшим их в противоположные стороны. Глядя, как Патрисио, изрыгая грязные междометия, вытирает себе лицо, мой друг подумал, что, слава Богу, здесь нет раввинчика, уж тот бы сцепился с Гомесом; сам же он, склонный стать на сторону Парацельса и Сусаны, предпочел промолчать и продолжить просмотр книги Мануэля, припоминая фразу Берн-Джонса, который утверждал, что чем более материалистической будет наука, тем больше ангелов будет он изображать. Конечно, в подсказках воображению Мануэля ничего ангелического не было, Сусана предвидела, что к девяти годам он уже будет способен приняться за курс современной истории с помощью таких материалов, как:
«Кордова: ЧЕТЫРЕХ ЭКСТРЕМИСТОВ ПОДВЕРГЛИ ПЫТКАМ
Подтверждение судебного врача
Кордова, 9 (АП). Судебный врач подтвердил, что четырех экстремистов подвергали пыткам, и, по сведениям, имеющимся в юридических кругах, прокурор возбудил иск против ответственных чинов полиции. Имена пострадавших: Карлос Эриберте Астудильо, Альберто Кампс, Маркос Осатинский и Альфред Кон, обвиняемые в участии в совершенном 29 декабря нападении на Кордовский банк, в результате чего, согласно данным прокурора Хосе Намба Кармоны, были убиты двое полицейских. Этот же чиновник сообщает, что судебный врач Рауль Дзунино после соответствующего осмотра узников подтвердил факт варварского, бесчеловечного обращения и жестоких пыток.
„У всех задержанных, – утверждает врач, – после недели пыток и истязаний имеются на теле ссадины и следы зверских побоев. У Астудильо вся спина – сплошной синяк и на теле множественные волдыри от применения пиканы. У Осатинского – причиненные избиением повреждения внутренних органов, по-видимому, имеется также нарушение сердечной деятельности, так как он говорит с трудом, передвигается медленно и охает от боли. Все четверо нуждаются в срочной медицинской помощи"».
– Позвони Маркосу, – сказал Гомес, обращаясь к Патрисио, – пончики готовы, с пылу с жару. Моника, налей-ка мне глоток вина, а то краской всю душу затопило.
Образы, образы! Мой друг подумал, что три минуты тому назад Гомес восстал против Парацельса, а теперь, видите ли, краска затопила ему душу, то самое воображение, которое он только что охаял, подарило ему такой оборот для описания его усталости. Вы только взгляните, настаивала Сусана, вклеивая еще одну вырезку для будущего ученика и хохоча до. слез, хорошо еще, что в этом дерьмовом мире иногда можно получить утешение из того самого уголка, где начиналось твое существование, – дело было в кинотеатре на улице Суипача, – а вот пойди я посмотреть на проделки Грегори Пека, ох и нахмурился бы мой супруг, он ревнует меня даже к киноленте. Нет, лучше я вам прочту, эта заметка из тех, где схвачена сама суть.
«ЕГО ОСУЖДАЮТ ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ГИМНУ»
Уголовный суд Федеральной палаты приговорил к двум месяцам тюрьмы условно Альберто Дионисио Лопеса, аргентинца двадцати двух лет, холостого, служащего и учащегося, за неуважение к Национальному гимну, согласно статье 230-бис Уголовного кодекса, недавно включенной в свод нашего репрессивного законодательства, трактующей о публичном неуважении к национальным знамени, гербу или гимну или к эмблемам аргентинских провинций и предусматривающей наказание от двух месяцев до двух лет тюремного заключения.
9 июля сего года при исполнении Национального гимна во втором зале ночного показа в кинотеатре на улице Суипача, 378, Лопес не встал и на обращение к нему капельдинера ответил, что он не встает потому, что по национальности он англичанин и если бы он знал, что это наказуемо, он бы лучше сходил на это время в уборную». Дальше идут несколько скучных абзацев о первой судимости и отмененном приговоре, и появляется прокурор, который inter alias [65]65
Между прочим (лат.).
[Закрыть]говорит: «Нет сомнения, что Лопес слышал аккорды Национального гимна и умышленно и сознательно продолжал сидеть, вопреки традиции и глубоко укоренившемуся обычаю, порожденному инстинктивным и патриотическим почтением к этому символу нашей нации. Примечательно, что он не внял предложению встать, что позволило бы ему избежать суда, а предпочел выйти из зала и нагло заявить, что он лучше бы сходил в уборную».
– Верно, он пошел бы туда слушать грохот разрываемых цепей, – сказал Патрисио. – Такая была у нас шутка в четвертом классе, а в общем, очень хорошо, что ты включила эту заметку в чтение Мануэля, и, кстати, я избавлюсь от ехидных упреков моего друга. (Каковой, задумавшись о Парацельсе, и ухом не повел.)
* * *
Как часто мы что-то делаем шутки ради или считая это шуткой, а потом, когда исподволь, постепенно начинается настоящее дело, эта шутка, или каламбур, или случайная выходка вновь и вновь вторгается в то, что шуткой отнюдь не является, и, взобравшись на житейский постамент, диктует оттуда лукавые приказы, нарушает ваши движения, разлагает мораль, – во всяком случае, Оскар шутки ради послал Маркосу газетную вырезку о бунте девочек в Ла-Плате и на время совершенно об этом забыл, так как подготовка контейнеров на службе у Гладис была делом долгим и деликатным, и Гладис порой еще прекращала обивку контейнеров, чтобы растормошить Оскара, который отвечал тем же, а потом они принимали душ, и пили, и слушали сообщения по радио, и спускались поесть, но воспоминание о бунте снова пробивалось наверх, образы, возникшие при обычном чтении хроники, оседали в уме, как образы снов, которые не желают выселяться, несмотря на все протесты рассудка. У Гладис, которая тоже читала эту вырезку, был более рациональный взгляд на вещи, и намеки Оскара она считала следствием усталости или нервного состояния, то и другое обычно идут в паре, и отвлекала его от навязчивых мыслей легким умственным толчком, Оскар начинал смеяться и прятал еще одну пачку долларов, made by стариком Коллинсом, в двойную стенку контейнера, готовился к сварке стенок, ходил приласкать бирюзового пингвина, который, с прошлого вечера поселившись в ванной, принимал душ вместе с людьми, радостно хлопал крыльями и уплетал за милую душу свою порцию хека. Королевские броненосцы в тот же вечер прибыли из Чако, и в Эсейсу следовало приехать к одиннадцати утра, в последний суматошный момент, а тут еще из-за служебных перестановок вдруг изменяют дежурства стюардесс, и вдруг раздается звонок заместителя начальника диспетчерской, он предупреждает Гладис, что, мол, ей придется лететь ночным самолетом в Нью-Йорк, по Гладис оказалась неподражаема в драматически-астроло






* * *
Бывало, что мой друг не всегда был в курсе деятельности наших ребят; он, например, понятия не имел о том, что суровые представители зоопарка в Венсенне изберут Лонштейна вести машину североамериканской марки, взятую напрокат в Герце, с предварительным уточнением цвета и характеристик, соответствующих важности церемониала. Чтобы понять что-нибудь в пересказе раввинчика, всегда требовалось его текст расшифровывать, но на сей раз симфонический размах лонштейновского восприятия уложил моего друга в постель на несколько дней, хотя он никогда не пожаловался на то, что узнал о выгрузке королевских броненосцев и бирюзового пингвина по изложению, жанр коего Лонштейн определил как плюраспектро-мутантный, – короче говоря, броненосцы, вступив на французскую землю, видимо, почувствовали себя неуютно, зато пингвин тотчас проявил опасную резвость, стал биться о стенки контейнера, несмотря на укротительские свистки Оскара и воду с экванилом, которой его напоила Гладис, едва «Боинг» вошел в предварительную фазу приземления и капитан Педернера голосом Пепиты пожелал уважаемым пассажирам счастливого пребывания в Париже.
– Все трое они были мегааккордом, – резюмировал Лонштейн, – представь себе эту церемонию в зале для приемов, малыш, не хватало только, чтобы Хайле Селассие в черном плаще вручал абиссинские ордена.
Не хватало там и меня, но вечером Людмила мне рассказала, что Ролан и Люсьен Верней вышли из машины с таким видом, будто аршин проглотили, и что обмен приветствиями между аргентинским ветеринаром, сопровождающим животных, и представителями зоопарка, получателями упомянутых тварей, был воспринят таможенниками, инспекторами и полицейскими аэропорта как нечто совершенно нормальное, уж не говоря о местном ветеринаре, по долгу службы осмотревшем заморских зверюшек и проверившем их медицинские свидетельства, все это изящно переводила Гладис, с явным весельем решая лингвистические проблемы ученых мужей. Еще по пути в аэропорт Маркос сказал Людмиле, что в принципе трудностей быть не должно, сама операция слишком абсурдна, чтобы ей мог грозить провал; единственный риск был в том, что какому-либо хитроумному таможеннику могло прийти в голову, будто эти контейнеры больше пригодны для транспортировки леопардов, чем пингвинов, но Люсьен Верней и Ролан были готовы это опровергнуть научными аргументами, основанными на Бюффоне и Джулиане Хаксли, не говоря об импозантности взятой напрокат машины, идеальный Gestalt [66]66
Образ (нем.;соответствие слову «имидж»)
[Закрыть]. Однако не только таможенники были очарованы редкими животными, но некая дама, с виду начальница, смуглая и полная особа, прямо влюбилась в бирюзового пингвина и посулила время от времени навещать его в Венсенне, что с величайшей серьезностью восприняли представители зоопарка и с особым патриотическим волнением ветеринар-сопровождающий. Ты упустил изумительное зрелище, сказала Людмила, сугубо аргентинского вида Оскар в клетчатом пиджаке, причесавшийся в последнюю минуту и щедро опрысканный нашим бортовым одеколоном, который я издали узнаю, потому что он скорее для женщин, и Лонштейн в кожаной куртке и берете, чтобы выглядеть как средний француз, какого теперь и днем с огнем не сыщешь, но все же…
– А ты что там делала? – спросил Андрес.
– Написала в трусики, сама не знаю, то ли от страха, то ли от смеха, но думаю, скорей от страха. Погоди, раз уж вспомнила, сейчас переоденусь, если найду чистые.
* * *
По всей квартире пахнет луком, но я не голоден, у меня есть последний квартет Бартока, вино и сигареты, взгляну раз-другой на кастрюлю и подумаю, ждать ли мне Людмилу или пойти побродить. Эта история с пингвином, о которой говорил Маркос, прежде чем пришел просить машину, вероятно, одна из идиотских выдумок его микроагитации; окруженный последними аккордами квартета, еще участвуя в некоем порядке, которого у меня не будет ни раньше ни позже (ну конечно, ну ясно, будущее в прошедшем), я по возможности затягиваю эту ненадежную примиряющую передышку – жалкая, неискренняя уловка, я заставляю себя сидеть дома, а потом вдруг позвоню Франсине и побегу вниз по лестнице. Бродить по Парижу – это для меня тоже музыка, ночь не принесла утешения, мне словно бы хочется еще одной, дополнительной части квартета, которую Барток не сочинял, но которая где-то таится в той зоне времени, которую не измерить часами, оттуда мне слышится тревожащее меня требование порядка, некое неосознанное знание, из которого снова возникает аура, беспокойство сна в кинотеатре в ночь Фрица Ланга; когда идешь по улице как бы ощупью, без назначенной цели, в этом есть какая-то открытость, возможность того, что за любым углом и в любой миг ты можешь услышать первую фразу той музыки, которая сумеет тебя примирить со всем ускользающим или ненадежным, Людмила моя и чужая, Людмила, все более увлеченная пингвинами и агитаторами, – я испытываю легкую тошноту оттого, что ее теряю из-за скопления непримиримых обстоятельств, и заодно чувство неотвратимости, чувство, что мы подошли к рубежу и теперь что-то будет тихо обламываться так, чтобы каждый из нас остался на своей стороне трещины, огромного разлома времени, с напрасными жестами дружбы, слезами и платочками, оба голые под порывами черного ветра. Зато каждый вход в метро еще раз унесет меня в любимые районы или по фонетической, смутно магической ассоциации представит мне еще какую-нибудь неведомую станцию, где начнется новый кусок бесконечного парижского ковра, новая волшебная шкатулка, новые приключения. Впрочем, это мрачноватое умонастроение, которое издавна тянет меня погружаться в город, будто в музыку, в метания от Франсины к Людмиле (почему метания, почему их не объединить, к чему это тягостное раздвоение, от которого мне так хочется избавиться и которое порождено исключительно их собственными точками зрения?), приводит к любопытным открытиям, глухо созвучным состоянию моего духа, служащему мне компасом. Вчера, пройдя по убогой площади Клиши с ее безумной и хмурой толпой и углубившись в улицу Куленкур, я впервые увидел под аспидно-серым небом нос «Отель-Террасе», его шесть или семь этажей с окнами и балконами, выходящими на Монмартрское кладбище. На середине моста, подвешенного над склепами и могилами, как скорбный меч халтурного Страшного суда, я облокотился на перила и спросил себя, неужели это возможно, неужели это вероятно, неужели туристы и провинциалы, живущие в «Отель-Террасе», каждое утро как ни в чем не бывало поднимают жалюзи своих окон, выходящих на это окаменевшее море надгробий, и неужели после этого возможно заказывать себе завтрак с круассанами, выходить на улицу, начинать обживать новый день. Надо бы мне провести ночь в этом отеле, послушать во тьме гул Монмартра, медленно уступающий тишине, услышать последний автобус на резонирующем мосту, нависшем над смертью, на этом балконе, заливаемом иным, неподвижным и тайным, гулом, который жизнь отвергает своими словесами, своей любовью, своим упорным забвением. Я приведу сюда тебя, моя маленькая француженка Франсина, чтобы ты, книжница, картезианка (как и я), получила здесь первый настоящий урок патафизики вместо поверхностного литературного взгляда, который ты так часто смешиваешь (мы смешиваем) с тем, что струится под кожей дня. И однажды я также поведу тебя в галерею близ Пор-Рояля, где постепенно оседает пыль, как если бы время засыпало своим прахом витрины и переходы, пыль, пахнущая перчатками, и перьями, и сухими фиалками, и там покажу тебе – не торжественно, но мимоходом, как следует поступать в «жилых» местах, – витрину со старинными куклами. Запыленные, они стоят там невесть как давно, в своих чепчиках и бантах, в немыслимых париках, в черных или белых башмачках, наводя уныние глупостью улыбающихся лиц, которые теперь тоже прах, к которым прикасались крошечные пальчики и были обращены любовные сонеты, сохранившиеся, быть может, в каком-то альбоме мещанской гостиной. Лавочка эта маленькая, и в те два раза, что я подходил к витрине, я внутри никого не видел; в глубине там есть намек на лестницу, темные занавески и опять же пыль. Видимо, некая постыдная торговля производится в другие часы дня, приходят люди продать фамильных кукол, самых лучших, фаянсовых или фарфоровых, а другие приходят их покупать для своих коллекций и, прогуливаясь по этому мини-борделю типа голландских витрин, рассматривают ляжки, трогают грудки, заставляют кукол вращать голубыми глазками, обязательный ритуал, сопровождаемый возгласами и долгими паузами, комментариями продавщицы, которая мне представляется сухощавой старухой, – и, возможно, посещением чердака, где валяются отдельные головы и ноги, взаимозаменяемые одежки, чепчики и башмачки, тайника этакого Синей Бороды, куда забредают подобрать подарок перед визитом к тетушке, коллекционирующей кукол, дабы остановить время. И возможно.
* * *
– Может быть, так, а может быть, совсем иначе, – сказала Франсина, проводя пальцем по стеклу и отворачиваясь, как бы с досадой. – Почему ты вечно погружен в сомнения? Ведь можно зайти, посмотреть. Ну да, ты предпочитаешь тайну, всякое определение тебя разочаровывает.
– Так же, как тебя раздражает сомнение, – сказал я, – и все, что ты видишь, кажется тебе доказуемой теоремой. Я не хочу туда заходить, мне там нечего делать, мне ни к чему это знание, с которым ты, засунув ладошки под подушку, спишь так крепко и без снов там, где безумные девушки в белых чепчиках бросаются с балконов отеля, выходящего на кладбище.
– Нет, ты никогда не поумнеешь, не научишься понимать меня.
– Вот видишь – понимать тебя. А что же мы делаем, если не стараемся понять друг друга единственно возможным способом – кожей, глазами, словами, которые не просто сухие термины? Ах ты моя машинка айбиэм, светоориентирующаяся пчелка, да ведь никто тебя, рыжую-прерыжую, не понимает лучше, чем я. Чтобы тебя понять, мне не нужны твои рассуждения, незачем входить в эту лавку, чтобы знать, что это западня с кривыми зеркалами.
– О да, иллюзии, – сказала Франсина, прижимаясь ко мне, – блаженство тех, кто предпочитает правде фантазию. Ты правильно поступаешь, Андрес. Очень правильно.
Ее влажные губы, всегда ищущие и так не похожие на то, что они говорят. Мы оба принялись смеяться, пошли бродить по улицам, пока усталость и желание не привели нас в квартиру Франсины в Марэ, над ее магазином, где продаются книги и бумага; мне нравилось заходить в торговое помещение, где в этот час хозяйничала мадам Франк с видом идеальной ответственной совладелицы, глядящей на приход младшей партнерши с ее другом так, как если бы то были клиенты: мне нравилось листать новинки, покупать у мадам Франк пачку бумаги или книгу и платить за них на глазах у Франсины, которая так охотно подарила бы их мне. По внутренней лестнице мы поднимались в квартиру, аккуратную, четкую, как сама Франсина, надушенную лавандой, с затененным освещением, уютную, как мурлычущая кошка, кошачий уют исходил от гостиной и двух комнат, от голубого ковра, от библиотеки с коллекцией «Плеяд» и словарем Литтре, – ну, разумеется, Франсина и холодильник, Франсина и хрустальные стаканы, Франсина и шотландское виски, Франсина, трогательно приверженная интеллектуальной честности, которой так противоречило путаное и скользкое существование всяких там витрин и отелей с балконами, выходящими на кладбище, Франсина в своей точно пригнанной клетке, другая сторона моей жизни-Людмилы, конкретизация давней тоски по определенному рисунку дней и всего быта, но также почти мгновенное неприятие столь многих разумных, рациональных условностей, симметричное другому неприятию – Людмила посреди беспорядка в кухне, где на полу остались разбросанные куски лука, где транзистор изрыгает звуки «Радио Монте-Карло», где замусоленное посудное полотенце, подобно гнусной длани, обнимает единственную уцелевшую чашку из чайного сервиза, а сама Людмила бежит встречать какого-то пингвина.
– Но ты же ее любишь, Андрес. Я для тебя – контрудар, я, побыв с тобой, возвращаю тебя ей. Это не упрек, ты знаешь, что я тебя люблю, тебя такого, какой ты есть в твоем мире, в другом кругу, где я ничего и никого не знаю, не знакома ни с одним из твоих друзей, не знаю, как вы общаетесь, ты и эти южноамериканцы, которых я встречаю лишь в романах да в кино.
– Это не только моя вина, – хмуро сказал я, – в это племя включена Людмила, а вы обе порешили, что никогда, ни за что не сможете и не должны встречаться.
– Я спрашиваю себя, как могли бы мы встречаться, на чем в окружающем мире могут быть основаны наши отношения. Ты уходишь и приходишь, как могла бы уходить и приходить я, будь у меня кто-то другой; однажды, довольно давно, я смутно подумала, что это возможно, но на том все и кончилось, на смутной мысли. Ты, Андрес, не любишь нас по-настоящему, вот единственное объяснение, уж ты извини, я знаю, что тебе претит копанье в любовной психологии и тому подобное, претит все, что для тебя, но сути, невыгодно, извини еще раз.
– Мне претит не это, а все, что за этим скрывается, абсурдное сопротивление обветшавшего мира, который продолжает яростно отстаивать свои самые дряхлые формы. Любить, не любить – все это пустые формулы. Я был так счастлив с Людмилой, я был с ней совершенно счастлив, когда встретил тебя и понял, что ты – это другая извилина счастья, другой способ быть счастливым, не отказываясь от прежнего образа жизни; и я сразу тебе это сказал, и ты разрешила мне приходить сюда без всяких условий, ты согласилась.
– Что ж, соглашаешься, – сказала Франсина, – времени впереди много, вот и говоришь себе, что. Может быть. Когда-нибудь. Потому что любовь.
– Вывод, ясное дело, будет один: вы обе любите по-настоящему, тогда как я, и так далее. Пойми, у меня с Людмилой все поломалось вдрызг, ты это знаешь, потому что она не согласна, потому что мое желание быть честным ничего не дало, да, знаю, честным на мой лад, для меня это значит, что она и ты должны знать, что есть ты и она, вот и все, но так не пошло, никогда не пойдет, мы живем в такое время, когда все летит к черту, и, однако же, эти схемы прочно живут в людях вроде нас – ты, конечно, понимаешь, что я говорю о мелкобуржуазной и рабочей среде, о людях оседлых, и осемеенных, и женатых, и очагочтящих, и многодетных, ах, дерьмо, дерьмо.
– И ты, – сказала, чуть ли не забавляясь, Франсина, – разыгрываешь У Тана между мной и Людмилой, примирителя, пчелу между двумя цветками, так, что ли; хотела бы я посмотреть, как бы ты пил кофе с нами обеими сразу или вел бы нас под руку в кино. Ах, ты выводишь меня из себя.








