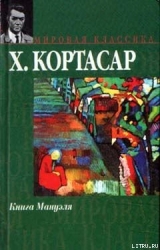
Текст книги "Книга Мануэля"
Автор книги: Хулио Кортасар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
* * *
Мы проснулись после одиннадцати, почтальон позвонил дважды, продемонстрировав еще раз, что природа подражает искусству, но какому искусству – жалкая открытка, взяв которую, я опять улеглась, так как еще не выспалась. Андрес, воспользовавшись моим отсутствием, стащил мою подушку, теперь он сидел и курил, волосы свисали ему на глаза. «London suinginn biutiful plenti богачек, готовьте мате, quises [59]59
Лондон поют очень красиво много… целую (искаж. англ.).
[Закрыть], Чарльз». Это остолоп Эредиа, сказал Андрес, едва уложил чемодан, и уже подавай ему мате, кстати, о мате, неплохо бы нам глотнуть крепенького. Уж мы знаем, на что намекает твое множественное число, сказала я, устраиваясь без подушки и пытаясь найти теплое местечко. Ладно, мате заварю я, но я должен тебе рассказать свой сон, Люд, прежде чем он рассеется, такой странный сон. Юнг слушает и толкует, сказала я, уверенная, что ему снились поезда.
Нет, то были не поезда, а кинотеатр, и то, что там произошло, надо рассказать побыстрей, почти болезненная потребность закрепить это словами, хотя, как обычно, останется лишь нечто вроде гипсовой маски на чем-то таком живом, антиматерия того, что с головокружительной скоростью удаляется, оставляя лишь клочья и, возможно, вымыслы, мне снилось, Люд, что я пошел в кино с другом, с кем, не знаю, лица его я не видел, посмотреть фильм ужасов Фрица Ланга; кинотеатр – огромный зал, совершенно нелепый, который мне снился уже не раз, я тебе, кажется, о нем рассказывал, там два экрана, расположенных под прямым углом, так что можешь садиться в разных секторах партера и выбирать один из экранов, а секторы пересекаются бог весть как, кресла тоже поставлены то под прямым углом, то еще как-нибудь, в духе Алвара Аалто, и я без конца ищу место, откуда мне будет хорошо видно, но все оказывается или слишком далеко, или что-то заслоняет мне экран, тогда я опять встаю, теряя из виду друга, а кто это был, черт его знает, вспомнить не могу. И вот начинается фильм, сцена в суде, там женщина с лицом дефективной, вроде Эльзы Ланчестер, – вспоминаешь ее? – она что-то выкрикивает, сидя на скамье не то подсудимых, не то свидетелей, а я все сижу как-то боком и пытаюсь найти более удобное кресло, как вдруг ко мне подходит капельдинер, этакий типичный молодой человек с усиками бармена отеля «Хилтон», в белом пиджаке, и предлагает следовать за ним. Я ему говорю, что, мол, хочу посмотреть фильм (знаю, что я упомянул название, там, кажется, было слово «полночь»), тогда капельдинер с жестом досады или нетерпения властно указывает мне на выход: я понимаю, что надо идти за ним. Пока мы идем по залам, одному, другому, третьему, это мне тоже снилось много раз, нечто похожее на частный клуб, капельдинер извиняется за свою суровость. «Я был вынужден так поступить, сеньор, тут один кубинец хочет вас видеть», – и он ведет меня к входу в почти совсем темную комнату.
– Хальт! – приказал доктор Юнг. – Насчет кубинца это элементарно: вой, сопротивление, все вчерашние разговоры, нечистая совесть, которая угнездилась в нашем доме.
– Не перебивай меня, Люд, не то все улетучится, сейчас будет то, что трудней всего объяснить, уложить в ячейки проклятого словесного улья. В общем, я как бы знаю, что пропускаю фильм с тайной, который так хотел увидеть, и в то же время и по той же причине я сам включаюсь в эту (или в другую) тайну. Капельдинер остановился и указывает – удивительно, как я все это вижу, Люд, – указывает мне в полутемной комнате на лежащую на диване фигуру; я едва различаю ноги человека, который хочет со мной поговорить. Я вхожу в комнату один и направляюсь к кубинцу. А теперь, погоди, погоди, теперь будет самое невероятное – я совершенно четко знаю, что в этой части не забыл ни одной сцены, но вдруг, когда я приблизился к человеку, который меня ждет, сцена обрывается, а за нею следует момент, когда я уже выхожу из комнаты, после того как поговорил с кубинцем. Понимаешь, такой удивительный киномонтаж. Я совершенно уверен, что говорил с ним, но такой сцены не было, и дело не в том, что я ее забыл, старушка, нет, там была купюра, и в этой купюре что-то произошло, и вышел я с чувством человека, которому поручена какая-то миссия, но, зная это, а главное, чувствуя, я также знаю, что ни малейшего понятия об этой миссии не имею, извини, рассказываю, как могу, у меня, понимаешь ли, нет никакого представления об этой встрече; сцена оборвалась, когда я подходил к дивану, но в то же время я знаю, что должен, не теряя времени, что-то сделать, то есть, возвратясь в кинозал, я одновременно действую и внутри, и вне фильма Фрица Ланга или любого фильма тайны, я одновременно и фильм, и зритель фильма. Заметь, Люд, это здесь прекрасней всего (убийственно для меня, но прекрасно, если рассматривать это как образец сна), я, несомненно, знаю, что мне сказал кубинец, раз мне надо выполнить какое-то задание, и в то же время смотрю на себя самого с любопытством и интересом человека в самый захватывающий момент триллера, так как уже не знаю, что мне говорил кубинец. Я раздвоился, один «я» пришел в кино, другой замешан в типично кинематографическую путаницу. Но о раздвоении я говорю теперь, наяву, во сне же у меня не было никакой двойственности, я был я, такой, как всегда, теперь я четко сознаю, что, вернувшись в зал, чувствовал в едином блоке все то, что теперь разрезаю на куски, чтобы можно было хоть частично тебе объяснить. Мне чудилось, что я смогу узнать, что мне говорил кубинец, лишь благодаря поступку, который я должен совершить, этакая инверсия причинной связи, сама понимаешь, совершенно абсурдная. Есть некий механизм триллера, но я должен в нем действовать и в то же время им насладиться: детективный роман, который я пишу и одновременно живу в нем. И как раз в этот момент меня разбудила треклятая открытка Эредиа, этого чертова бразильца.
– И тебе тоже разрушили твой Кубла Хан, – сказала Людмила, целуя меня в затылок. – Признаю, что проблема судьбы, стучащейся в дверь, заслуживает глубокого размышления. Но какой странный сон, прямо мороз по коже подирает.
– Сам не пойму, однако теперь, как подумаю, мне кажется, что звонок почтальона сильно все исказил: вероятно, я тогда вошел в ту размытую стадию почти всех снов, когда они утрачивают свою божественную гармоничность; заметь, что я не ощущал никакого фатального разрыва, -. тяготило меня лишь то, что я согласился играть роль человека, у которого была важная встреча и который должен соответственно действовать, и в то же время я продолжаю быть неким типом, который, глядя на экран, так сказать, с самим собою, следит за таинственным действием, разгадка которого будет в финале. Итак, Эредиа возвращается, че, уверен, что и он там, в Лондоне, занимался подделкой спичечных коробков или чем-то вроде этого, хотя в открытке он говорит только о женщинах. А как насчет глотка мате, Людлюд? Ты что, еще дуешься на меня, моя полечка?
– Нет, мой каркающий ворон, но не будем об этом говорить, я должна учить новую роль, а скоро уже полдень, не помню, говорила ли я тебе, что я чахоточная больная, которая живет в нескольких верстах от Москвы, кашляя и ожидая некоего Корученко, который так и не появляется, мне всегда достаются такие роли, зато теперь я могу спокойно простужаться и если чуточку поднажму, то могу еще и прибавку получить за мучительные приступы кашля. Не смотри на меня так, я и правда не хочу разговаривать, нам так хорошо, ноги у тебя тепленькие, и постель наша, как надушенное иглу.
– Я тебя крепко люблю, полечка, и это единственное, чего ты не желаешь понять, что я тебя крепко люблю, но все же. Ладно, пусть так, в другой день. Если будет другой день, полечка.
Она не ответила, устремив глаза на розовое пятнышко на простыне, но, конечно, мысленно она мне отвечала, здесь купюр в сцене не было, упоминать Франсину бессмысленно, да и ни к чему, само молчание было вспышкой ясности – другого дня не будет, странным образом и этот день, и многие другие были последним днем, хотя мы будем и дальше просыпаться вместе, и резвиться, и целоваться – ритуальное повторение, останавливающее время, первый поцелуй в голову, рука на плече, бесполезное щадящее перемирие.
* * *
ЦЕЛУЮ КОКА, хотя, разумеется, подписавшая не звалась Кока, равно как Оскара никогда почти не звали Оскар, потому что это было его третье имя, но, не считая этих деталей, телеграмма была полна смысла для посвященных, как сумел иронически определить мой друг, и внезапно, между двумя подскоками Мануэля в кафе на площади. Буча становилась почти осязаемой, целую Кока и banana do Brazil, разъехавшиеся во все концы наши ребята, чтобы подготовить торжественную встречу. Об этом толковали в другом кафе мой друг и Лонштейн, ибо Лонштейн был больше в курсе дел Бучи, чем можно бы предположить, вспомнив о его склонности к иконоборчеству и порой откровенной реакционности. Таким образом и переводя на добрый аргентинский то, что раввинчик называл тайнопереливанием и космозадним околописанием, мой друг сумел установить параметры ЦЕЛУЮ КОКА – то давнее знакомство, начавшееся в пансионе доньи Ракели в Сантос-Пересе, провинция Энтре-Риос, с помощью портеньи Коки (имя коей было Гладис) и с предбучей в виде королевских броненосцев и бирюзового пингвина.
– Экзотика открывает все двери, – объяснял раввинчик. – К примеру, ты преподносишь президенту Танзании эдельвейс, и через двадцать четыре часа он тебя принимает, че, так что идея с бирюзовым пингвином кажется мне вполне хитроумной. Прибавь к этому другие силы, о которых иные люди понятия не имеют, кроме Маркоса, да и тот не очень, раз сам Оскар, – думаешь, он-то понимает, что делает, и, однако, как видишь, он вдруг посылает Маркосу газетную вырезку чисто живописного вида, и тут нужно быть мною, чтобы уразуметь скрытности, между аргентинские перенаречия. Ты, наверно, уже понял, что я имею в виду интернат для несовершеннолетних в этом нелепом городе Ла-Плате.
Мой друг еще совершенно ничего не понял, но он уже привык поддакивать, чтобы раввинчик продолжал без помех свои каббалистические экзерсисы.
– Все дело в полнолунии, – объяснил Лонштейн, – и мой гриб растет, и несовершеннолетние девчонки удирают из интерната, – поди объясни людям вроде Гомеса или Ролана, что это тоже некая Буча, они плюнут тебе в лицо; потому-то я боюсь завтрашнего дня, че, когда нас уже здесь не будет, когда они останутся одни. Пока еще контакт есть, с ними еще можно разговаривать, но беда в том, что в один прекрасный день именно эти люди тебя же обругают. Сам Маркое, вот увидишь. В итоге.
– Объясни мне по крайней мере, что это за бирюзовый пингвин.
– Так я и думал, – сердито сказал раввинчик, – никто меня не спросит про гриб, который здесь рядом, в десяти кварталах, и, напротив, все восхиторгаются и безумахают из-за какого-то пошлого пингвина. По-моему, пингвины – преотвратные твари, ты лучше спроси о них у Патрисио, он тебе объяснит, что делал Оскар во время стачек в Росарио и в кордовском деле.
HOROSKOPT AVAIT PREDIT [60]60
«Гороскоп» предсказал государственный переворот в Аргентине. В предсказаниях на июнь о событиях в мире в номере, вышедшем 20 мая, Жан Вио предсказал на стр. 15, что Аргентине грозит государственный переворот. «Южная Америка: Можно ожидать важных событий в Аргентине, ибо Нептун – в центре Неба – находится в квадрате, куда восходит излучение Буэнос-Айреса. Это предвещает трудные моменты для правительственной команды». 29 мая прежний президент Арамбуру был похищен, а 8 июня военная хунта свергла генерала Онганиа и захватила власть. Еще раз, Ваше будущее – это «Гороскоп». Каждый месяц «Гороскоп» ведет Вашу жизнь с точностью, которая прославила его предсказания. Спешите приобрести июльский номер. «Гороскоп» поступает в продажу 20-го числа каждого месяца. Цена 120 франков (франц.).
[Закрыть]

Мысль была хороша, ибо Патрисио любил рассказывать с подробностями, и хотя роль Оскара в упомянутых акциях представала довольно неясной, это имело значение скорее, для полиции и для службы безопасности, но не для Маркоса или Эредиа. Задача состояла в том, чтобы продолжать действовать, не идя на самосожжение, но, когда стало ясно, что любая деятельность Оскара в Буэнос-Айресе вызовет выброс пара из кипящей скороварки, некое влиятельное лицо устроило ему все, что было нужно, дабы он быстро превратился в стипендиата знаменитого Аргентинского общества защиты животных и отправился в Энтре-Риос под предлогом исследований мочеточников совы и других подобных почтенных тем. Там он устроился со своими книгами и пинцетами в пансионе доньи Ракели, устрашая ораву хозяйкиных дочек банками, где в формалине плавали всякие насекомые, да рассказами о вампирах и оборотнях, которые он приберегал для вечеров во шоре при лунном свете. В это время Гладис работала стюардессой в «Аэролинеас» и не могла просто так приезжать и Сантос-Перес, чтобы немного растормошить Оскара, он чодил унылый и не имел другого утешения, кроме Моньи, третьей дочурки доньи Ракели, милой крошки, которая сперва не хотела входить в комнату Оскара из-за сов в формалине, но уже помогала ему перекладывать их из банки и банку и рассматривать их поджелудочные железы и хромосомы этих бедных ангелочков. Вечера рассказов про оборотней были теплые, пахнущие жасмином во двориках пансиона, девочки с кухней и шитьем управлялись рано, телевизор работал только для старичков и кота Порото, постояльцы пансиона обнаруживали прелесть некоторых кресел, затаившихся среди цветочных горшков и колонн, девочки вдруг исчезали из виду, и часов в пол-одиннадца-того донья Ракель, в последний раз махнув посудным полотенцем по подносу, направлялась к калитке, пройдя по бесчисленным прихожим и дворикам, этой провинциальной шахматной доске с квадратами света и тени; из зарослей жимолости и герани до ее слуха доносилось приглушенное бормотанье, и в конце концов она укладывалась в постель, переполненная событиями дня, не преминув сказать – как однажды явственно услышали скрытые кустом жасмина Оскар и Монья: «Вот сукины дети, куда ни кинь, всюду парочки». Однако донья Ракель уже была не в силах бороться с ликантропией и менадизмом под влиянием полнолуния, в конце концов, какой смысл, если все равно они повыходят замуж за приезжих и банковских клерков, которые ценили воскресные пучеро и прохладные, недорогие комнаты пансиона.
Но полная луна светила не только во дворы Сантос-Переса; в эти дни Оскар послал Маркросу газетную вырезку взамен другого астрологического текста, который Маркое прислал ему вместе с кучей вопросов насчет возможности применения способностей старика Коллинса, и с этого момента Лонштейн смешивал все эти факты в некий метабучный салат, который моему другу приходилось разбирать на элементы, откладывая в одну сторону астрологическую заметку «Гороскоп» и вырезку, посланную Оскаром, и в другую – проблему старика Коллинса и фальшивых долларов. В первой части размещались уже изложенные сведения о пансионе доньи Ракели и заметка, посланная Оскаром Маркосу, которая пришла вместе со сведениями о старике Коллинсе и первой рабочей гипотезой о королевских броненосцах и бирюзовом пингвине, из чего наиболее интересной для моего друга и для раввинчика была заметка о полнолунии в городе
Ла-Плата: БУНТ В ЖЕНСКОМ ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Усиленные поиски 16 сбежавших девочек
Полиция ведет усиленные поиски шестнадцати несовершеннолетних девочек, сбежавших во время бунта в интернате имени Рикардо Гутьерреса. В бунте участвовало около двухсот девочек, содержащихся в заведении на улице 120, между улицами 39 и 40.
– «Внезапное выключение света, – прочитала Сусана, переводя на французский для Моники и Ролана, – стало причиной ожесточенной баталии между персоналом интерната и девочками, которые в эти дни проявляли крайнюю нервозность». Оскар упоминает полнолуние, но сейчас вы увидите официальное объяснение и, кстати, оцените стиль хроникера. «Отсутствие света стало причиной хаотического зрелища – прежде всего группа девочек ринулась врассыпную по направлению к кухне, чтобы потом взломать дверь и выбежать на улицу. В то же время другие девочки пробили дыру в проволочной решетке кухонного окна и вылезли через него на пустырь, прилегающий к 41-й улице. Быстрое вмешательство полиции (воображаю быстроту этих поганцев, когда они почуяли некие приятные возможности) „воспрепятствовало повальному бегству и ценою больших усилий восстановило порядок"». Гм. «При первом известии об этом событии на место происшествия прибыл начальник районного отделения полиции Ла-Платы инспектор Хорхе Шоо с подчиненным ему отрядом и с подмогой в виде взвода пожарников и персонала из второго комиссариата». Парни держались железно, сказал Патрисио. Эта часть мне нравится, заметила Сусана. «Завязалось настоящее решающее сражение» (а вы знаете, что значит «решающее сражение»?), «в течение которого полицейским пришлось действовать жестко и бесстрашно, дабы восстановить порядок, ибо расходившиеся девицы пребывали в величайшем нервном возбуждении». Бог ты мой, сказал Патрисио, вот уж будет через девять месяцев работенка для монахинь в ихнем лазарете. Это он по повод у жестких и бесстрашных действий полицейских и пожарников, сообщила Сусана Ролану и Монике. «Под конец, когда внешне воцарилось спокойствие, 24 девочки были переведены в женскую тюрьму под наблюдение врачей и будут содержаться там, пока власти не примут надлежащие меры». Никто никогда не узнает, почему репортер употребил наречие «внешне», однако вы послушайте конец, это лучше всего. «Технический секретарь Общего совета по делам несовершеннолетних не придал большого значения этому происшествию (ну ясно, пустячок!), заявив, что подобные волнения в интернатах для подростков – обычное явление накануне карнавала. Директриса заведения, в свою очередь, сообщила, что интернат рассчитан на 80 человек, а в действительности в нем теперь содержится 196 девочек и в ближайшие дни должны поступить еще 56». И несчастная женщина – это говорю я, прибавила – дальше говорит хроникер, – «что причиной волнений была карнавальная реклама танцевальных вечеров в соседних клубах, от которой интернированные девушки впадают в безумие». Теперь вы понимаете, вы, двое, дети Корнеля и Расина, что такое третий мир. Ба, сказала Моника, если ты думаешь, что в некоторых заведениях в предместьях Парижа дело обстоит лучше, то я кое-что об этом знаю, меня в четырнадцать лет мои нежные родители отдали к монахиням в маленьком райском местечке близ Страсбура – им, видите ли, надоело ловить меня за чтением Сартра и Камю – ах, эта современная безнравственность! – монахини были жалкие тупицы, преисполненные благих намерений и дурных запахов, в общем, дело обычное, купаться в сорочке, «Аве, Мария», не задавай неприличных вопросов, это называется регулы, но об этом не говорят, сестра. Онорина даст тебе тряпочку и расскажет, как ее закладывать, возможно, тогда тоже было полнолуние, как говорит Оскар, помню, что было жарко, что меня застали с романом Селина, замаскированным ботаникой Эвилье и Монтери, затем наказали и еще наказали пятерых девочек за похожие провинности, – на беду монахинь, мы были очень популярны у младших девчонок, но, конечно, главной причиной было полнолуние, потому что, когда монахини спохватились, дело обстояло точно так, как в твоей газетной заметке, хотя без полицейских и пожарников; Маите и Жертрюд сломали замок зала, в котором мы были заперты, и мы с воплями и песнями выбежали во двор, где росли апельсиновые деревья; младшенькие, которым уже полагалось ложиться спать, прорвались мимо сестры Мари-Жанны, и вдруг все мы оказались во дворе, под сенью апельсиновых деревьев, мы водили хороводы и что-то распевали – точь-в-точь как в том польском фильме, где монахини валятся наземь, будто пикирующие самолеты, – и вот монахини хватают нас за волосы, за сорочки, бьют кулаками по лицу, они были в такой же истерике, как и мы, а младшие давай вопить и плакать, ни за что не хотели нас покидать, и вдруг все остальные старшие девочки полезли через окно дортуара на втором этаже и, цепляясь за ветви росшего рядом дерева, стали спускаться вниз – мне никогда не забыть это дерево, осыпанное девочками, этакими белыми фруктами, которые сыпались вниз одна за другой и бежали во двор; первой с ремнем в руке появилась сестра Клодина – эго можно было предвидеть, – другие бог весть где раздобыли веревки и плети, они принялись нас стегать и сгонять к двери в трапезную, подальше от входа в актовый зал, чтобы они могли нас запереть, младшие с ревом и визгом разбежались, и нас, старших, осталось у стены не более двух десятков, семеро монахинь остервенело нас стегали, защищаться было нечем, как вдруг я увидела, что Маите голая, она сорвала с себя сорочку и швырнула ее в голову сестре Онорине, так же поступила Жертрюд, а монахини все больше впадали в неистовство, хлестали так, что оставались следы, и вдруг я слышу какой-то шлепок – красная тряпка угодила прямо в лицо сестре Фелисе, это называется регулы, четыре или пять девочек швыряют гигиенические тряпки в головы монахиням, я разделась догола, то же сделали почти все старшие, свернув сорочки жгутом, мы отвечали на удары, подбирали с земли вонючие, затоптанные тряпки и снова бросали их, норовя попасть в рожи монахиням. Тут во дворе показался садовник с палкой,, но сестра Мари-Жанна закричала ему, чтобы он ушел, ну прямо смех разбирал, какая дилемма стояла перед этой гусыней, – не дай Бог, он, мужчина, увидит нас голыми, а Маите подбежала к садовнику и стала перед ним, преграждая ему дорогу, она была самая старшая, груди у нее были торчащие, пухлые, она тыкала ими в лицо садовнику и орала песни, монахини, защищая нравственность, кинулись к ней, садовник опешил, началась заключительная фаза истерики рыданья, мы все вдруг устали и бегом возвратились в свои дортуары, волоча по полу сорочки, жалкие победительницы в свете полной луны, сиявшей меж апельсиновых деревьев; через неделю я снова была дома, и, если хотите знать, Маите теперь одна из лучших танцовщиц в Лидо, да, эта девочка сделала лучшую карьеру, чем я.
– Если бы ты прекратила автобиографические подробности, – сказал Ролан, – мы бы смогли поговорить о чем-нибудь полезном, я, например, никак не возьму в толк, зачем Оскар посылает эти газетные вырезки и всякие так полнолуния, которые вас так возбуждают.
Потому что он поэт, подумал мой друг, но он ошибался – Оскар, напротив, погряз в самой что ни на есть прозе со стариком Коллинсом и Обществом защиты животных, изобретенным по стратегическим соображениям; задача состояла в том, чтобы эффективно соединить старика Коллинса с королевскими броненосцами и бирюзовым пингвином (и, офкорс [61]61
От англ. «of course» – конечно.
[Закрыть], с Оскаром, ибо именно Оскар должен был привезти этих экзотических животных, а остальное было делом Маркоса): схематически это выглядело так:

Особых трудностей не было; Гладис взялась поддерживать контакт со стариком Коллинсом после тайного визита, нанесенного ему Оскаром, чье повторное появление в Бернале могло бы возбудить у полиции дурные предчувствия, и старик согласился передать Гладис фальшивые доллары за некую сумму, которую Общество защиты животных собрало не без труда, поскольку членов всего-то было четверо, включая Оскара и Гладис; идея заключалась в том, что доллары старика Коллинса стали в его городе более чем горящими, палеными, после того как некий меняла в центре выудил одну купюру, чуть менее зеленую, чем «made in Washington», но изделия старика не подверглись бы слишком строгой критике в зонах более девственных в смысле Коллинса, и двадцать тысяч долларов, напиханных в двойную перегородку кондиционированных контейнеров, специально изготовленных членами Общества защиты животных, можно было бы без риска погрузить в самолет компании «Аэролинеас», всегда стремящейся познакомить заграницу с лучшими образцами национальной культуры и с разнообразием аргентинской фауны – в данном случае с парой королевских броненосцев и бирюзовым пингвином, которых ввиду особой чувствительности их организма требовалось перевозить в упомянутых кондиционированных контейнерах под наблюдением и постоянной опекой ветеринара Хосе Карлоса Оскара Лемоса, каковому, кроме сложной операции при выгрузке, предстояло заниматься адаптацией животных в другой среде и торжественной их передачей директорату зоопарка в Венсенне, откуда на двух страницах с подделанными Коллинсом штампами известили, что с благодарностью принимают столь щедрый дар от Общества, – что побудило тронутого до глубины души служащего «Аэролинеас» в конце концов заявить, что он будет счастлив дать разрешение – еще бы! – на погрузку вышеупомянутых животных – ну как же! – и сопровождающего их ветеринара, но последнего, разумеется, с предварительной оплатой проезда из рук в руки, и дело с концом.
– Вот так все и было, – сказал Патрисио, очень довольный ясностью своего изложения. Мой друг поблагодарил – а что ему еще оставалось?
* * *
Было пустое, мертвое время между десятью и двенадцатью утра, и, видимо, потому, что оно было пустым, Маркосу не пришло в голову ничего интересней, чем подняться на пятый этаж в мою кв. именно тогда, когда я погружался (sic!) в девятую главу одного из тех французских романов, где все как на подбор невероятно умны, особенно же читатель, по каковой причине я не слишком обрадовался, когда меня резким звонком вырвали из чтения, и как поживаешь, Андрее, я пришел одолжить у тебя машину, но спешки нет, если хочешь, можем немного поболтать. Беседа началась с глубокой мысли, вроде тех, какие обсуждались в романе, – между стаканом вина и чашечкой кофе мы толковали о том, почему говорят «мертвое время» и «убивать время», а именно о таком намерении заявил, войдя, этот кордовец, – или о последнем выступлении Онгании, которое в изложении и в переводе «Монд» выглядело совершенно пустопорожним. Я всегда был эгоистом и злюсь, когда меня вдруг отрывают от музыки или от чтения, а в это утро получилось и того хуже, ибо французский роман служил неким успокоительным, чтобы хоть отчасти приглушить «до свиданья», брошенное Людмилой, когда она отправилась к Патрисио и Сусане мастерить спички или что-то в этом роде, ее отчужденную улыбку меж двумя глотками мате, а главное, еще одну бесполезную попытку вконец бесполезного диалога накануне вечером, перед сном. Интересно, понимает ли Маркос все это, меня раз или два подмывало заговорить с ним про сон о Фрице Ланге, но мое желание постепенно рассеивалось в ходе разговора, который подспудно включал в себя отсутствие Людмилы, ее «до свиданья», брошенное на пороге как бы через плечо, ее красные туфли; возможно, не по чистой случайности Маркое заговорил о женщинах и из клубов табачного дыма все смотрел на меня и все говорил о женщинах, – да, мы и впрямь замечательно убивали время.
Суть нашего разговора:
– Я им всем отравлял жизнь, – говорит, к примеру, Маркос. – Вероятно, попросту требуешь невозможного, или тебе не везет, ты не способен выбрать. И все же дело тут не в умении выбирать, ведь в других отношениях я не могу пожаловаться, напротив. Но восторгов не встречаю, чего нет, братец ты мой, того нет.
– Твоя идея о восторгах очень мне напоминает образ мыслей тарантула, – говорю я. – Для тебя увидеть что-то привлекшее твое внимание означает тут же пуститься плясать и бить в ладоши. Пресловутую микроагитацию ты начинаешь у себя дома, че, а вот я, например, не требую, чтобы женщина сразу принималась ахать от музыки Ксенакиса или от холста Макса Эрнста; у них, брат, свой особый метаболизм, и еще неизвестно, может, они в глубине души даже больше способны восторгаться, чем мы, только не следует смешивать эмоции с гимнастическими телодвижениями.
– Мне кажется, будто я слышу речи Сони, Магдалены, Люсии, – говорит Маркое, – не буду называть имена дальше, а то еще ты подумаешь, будто я прикидываюсь этаким Франком Харрисом. Видишь ли, восторг – это вспышка, это кризис, это выход из себя, чтобы полнее воспринять то, что вывело тебя из равновесия, а восторгов атараксических я не понимаю, во всяком случае, это что-то другое, это сосредоточенность или духовное обогащение, как тебе угодно, но не восторг; я не могу по-настоящему полюбить человека, не способного во всякий час дня или ночи ошалеть от радости, узнав, что в кинотеатре на углу идет фильм с Бастером Китоном. Вот в таком духе.
– Теперь я понимаю, старик, почему они у тебя так недолговечны.
– К примеру, вчера, когда ты предложил пойти поесть хрустящего картофеля на Севастопольском бульваре и прогуляться по району Биржи, Людмила, ты же помнишь, запрыгала от радости, глаза у нее стали как блюдца, и вся она, ну прямо как гитара, трепетала и вибрировала, и не из-за твоего Макса Эрнста или Ксенакиса, а всего лишь из-за хрустящего картофеля и прогулки до рассвета, из-за таких вот пустяков.
Я преспокойно смотрю на него, пусть договаривает до конца, но Маркое опускает голову над стаканом, и завеса его волос, густых-прегустых, отделяет его от меня.
– Да, Людмила всегда так реагирует, – соглашаюсь я. – Я люблю ее не за это, но это тоже имеет значение, еще бы! Она и теперь способна очертя голову броситься в омут. Видал я ее, когда она, вся мокрая, как кутенок, забивалась в угол и день за днем вылизывала шерстку, пока снова не обнаружит, что солнце восходит в полседьмого.
– Никто не требует, чтобы женщина пребывала в постоянном пароксизме, и если ты думаешь, что я не бросаюсь в омут… Не в этом суть, но есть некие константы, скрытые свойства, назови как хочешь. По мне, способность к восторгу должна быть константой, а отнюдь не исключением или праздничным днем для чувств. С Люси-ей и с Магдаленой было именно так, и не их, бедняжек, в том вина, просто их одолевало какое-то равнодушие, но самое худшее, старик, не это, – говорит Маркос, протягивая мне пустой стакан, – самое худшее, что способности к бурным проявлениям чувств они не лишены, о нет, только они норовят употреблять ее в отрицательном смысле, то есть когда им что-то не нравится и все идет плохо в политике или на кухне, вот тогда они способны чертыхаться, негодовать, быть красноречивее Стокли Кармайкла. У них, видишь ли, мотор крутится наоборот, я хочу сказать, что они чемпионки в том, чтобы тормозить, – не знаю, понял ли ты меня. Ну, например, если завтра или послезавтра я буду здесь и услышу, что Людмила чертыхается из-за сломанной молнии, я сочту это вполне оправданным, вспомнив про хрустящий картофель, да, у нее есть полное право проклинать все на свете, раз она раньше прыгала до потолка и была счастлива, что ты поведешь ее есть хрустящий картофель и бродить по улицам.
– С таким настроением ты, пожалуй, влюбишься в Людмилу, – сказал я ему напрямик, еще, видно, и потому, что Маркос был абсолютно прав, а это никому не может понравиться.
– Почему бы и нет, – сказал Маркос. – И не только из-за восторгов, как ты сам прекрасно понимаешь.
– По сути, ты хочешь, чтобы женщина в своем эмоциональном поведении походила на мужчину, чтобы она на все реагировала, как ты. Вчера ты был в таком же восторге от хрустящего картофеля, как и Людмила, и, естественно, тебя донельзя восхитило, что она делала и говорила то же, что и ты.
– Не совсем так, – сказал Маркос. – Дело не в том, что я хочу тех же реакций, это было бы скучно, я, по-моему, говорил о готовности, о скрытой способности, так, чтобы взрыв происходил в должный момент, а причины вовсе не должны совпадать, женщины, конечно, восхищаются другими вещами и т. д., – сам понимаешь, я не стану прыгать от радости перед витриной с модными летними платьями.








