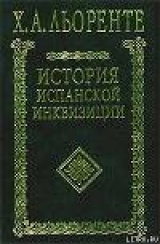
Текст книги "История испанской инквизиции. Том II"
Автор книги: Хуан Льоренте
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 46 страниц)
Статья третья
ДРУГИЕ АРХИЕПИСКОПЫ И ЕПИСКОПЫ
К этой галерее епископов и богословов, членов собора, подвергшихся преследованию со стороны инквизиции, я присоединю список других прелатов, испытавших ту же участь, чтобы убедительно доказать, что тайна святого трибунала есть средство страшное, непреклонное и опасное даже для епископов, законных судей в деле веры со времени утверждения христианства. В этом списке отмечено одиннадцать архиепископов и двадцать восемь епископов.[75]75
В действительности архиепископов шесть и епископов двадцать четыре; общее число – тридцать. (Примеч. ред.)
[Закрыть] Я составил его в алфавитном порядке.
1. Абад-и-ла-Сьерра (дом Агостино), епископ Барбастро, брат главного инквизитора, архиепископа Силиврии, о котором буду говорить сейчас. На него донесли в Мадрид в 1796 году как на янсениста в связи с его перепиской с присяжными епископами Франции, которых поголовно обвиняли в янсенизме. Этот донос не имел никаких последствий. Вторично напали на него в Сарагосе в 1801 году. Доносчики обвинили его в том же; они припомнили его сношения с французскими епископами и вменили ему в преступление, что он соглашался на брачные льготы в силу королевского декрета 1799 года. Сарагосская инквизиция приказала произвести опрос свидетелей, чтобы установить истинность этого обвинения; однако дело не подвинулось дальше, может быть, вследствие частных писем какого-либо члена верховного совета, так как опыт доказал мне, что провинциальные инквизиторы имели привычку поддерживать дружескую переписку с некоторыми членами совета, не думая, что они этим нарушают тайну, в соблюдении коей они присягали, без сомнения, потому, что члены совета были связаны той же присягой. Они писали последним о важнейших процессах, которыми были заняты. Если подобное сообщение произошло, можно предположить, что член верховного совета написал инквизитору Сарагосы, что будет неудобно продолжать процесс, начатый против епископа Барбастро.
2. Абад-и-ла-Сьерра (дом Мануэль),[76]76
Мануэль Абад-и-ла-Сьерра – сорок второй главный инквизитор Испании (1792–1794).
[Закрыть] архиепископ Силиврии в стране неверных (in partibus infidelium),[77]77
В стране неверных (in partibus infidelium) – техническое выражение римской курии для титулования католических епископов по имени городов, которые некогда были епископскими, а затем оказались либо во власти мусульман, либо резиденциями епископов восточной Церкви (греческой, болгарской, сербской, русской).
[Закрыть] бывший епископ Асторги, главный инквизитор Испании по смерти дома Агостино Рубина де Севальоса. В 1794 году Карл IV велел ему покинуть должность и удалиться в Сопетран, бенедиктинский монастырь в четырнадцати милях к северо-востоку от Мадрида. Дом Мануэль имел проницательный ум и был весьма образован; его воззрения стояли на уровне просвещенности века. В 1793 году этот прелат велел мне представить ему план назначения ученых и честных критиков квалификаторами для отзыва о книгах и лицах. Это поручение явилось результатом нескольких наших бесед на эту тему. Познакомившись с принципами, на которых я основывал свою систему, он поручил мне изложить недостатки судопроизводства святого трибунала и предложить такое, которое было бы полезнее для религии и для государства. Когда этот прелат перестал быть главным инквизитором, один фанатичный монах донес на него самого как на янсениста. Правда, донос был отвергнут; если бы непроницаемая тайна, господствующая в секретариате трибунала, не поощряла к преступлению глупых и злых людей без всякого риска и опасности для них и к сведению не принимался бы ни один анонимный или псевдонимный донос, вероятно, имена многих лиц, отмеченных здесь, были бы вычеркнуты из реестров.
3. Арельяно (дом Хосе Ксавье Родригес д'), архиепископ Бургоса и член чрезвычайного совета Карла III. Этот прелат составил много трудов по богословским принципам Сумм св. Фомы так, как они преподаются доминиканцами, и против морали иезуитских авторов. Приверженцы последних и некоторые друзья инквизиции донесли в Мадрид на архиепископа Арельяно, пока он принимал участие в прениях совета. Его обвинили в янсенизме, потому что он исповедовал мнения, благоприятствующие светской власти; он не руководствовался в этих случаях внутренним смыслом и буквальным выражением булл, противоречащих его образу мыслей, и обнаруживал те же тенденции, когда возникал вопрос о защите пределов власти гражданской, королевской или епархиальной против святого трибунала, власть коего он крайне суживал. Инквизиторы не могли извлечь никакой выгоды из доноса, сделанного для того, чтобы погубить архиепископа Бургосского, потому что в доносе не было обозначено и формально выражено ни одного конкретного тезиса, прямо противоречащего религии или деятельности святого трибунала. В прежние времена инквизиторы, вероятно, не были бы так осторожны. Но не разумнее ли закрыть навсегда доступ всякому необоснованному доносу о преступлении ереси? И даже в этом случае почему бы не обязать точно указывать тезис, который противоречит учению?
4. Буруага (дом Томас Саенс де). Он был архиепископом Сарагосы и членом чрезвычайного совета, созванного Карлом III. Он подвергался той же опасности, что и Арельяно.
5. Мускис (дом Рафаэль де), уроженец Вианы в королевстве Наваррском. Он был подателем милостыни и проповедником королей Карла III и Карла IV, духовником королевы Марии-Луизы, жены последнего монарха, епископом Авилы и затем архиепископом Сайт-Яго. Он был замешан в деле дома Антонио де ла Куэсты, архидиакона Авилы, и его брата дома Херонимо де ла Куэсты, каноника-духовника того же собора. Для инквизиции больше ничего и не нужно было, чтобы начать против него процесс. О нем будет речь в главе XLIII. Этот прелат был одним из гонителей двух братьев. Документы его процесса были представлены Карлу IV. Этот государь признал интригу и присудил архиепископа к значительному штрафу и выговору, делающему ему мало чести. Так как инквизиторы не имели никакого интереса в утайке или подделке документов судопроизводства, то королю можно было видеть их полностью. Этот случай принадлежит к малому количеству тех, когда испанские короли приказывали представлять подлинные документы, составленные святым трибуналом. Правда, инквизиторы не преминули сказать, что министры злоупотребили своей властью, поскольку преувеличили объем своей юрисдикции, источник своей власти и сущность тайны, сопровождающей все их действия.
6. Св Хуан де Рибера, архиепископ Валенсии и патриарх Александрийский, – см. главу XXX.
7. Достопочтенный дом Фернандо де Талавера. Он был архиепископом Гранады. О его истории можно справиться в главах V, X,XIII и XXX.
8. Достопочтенный дом Хуан де Палафокс, архиепископ Мексики, – см. главы XIII, XV и XXX.
9. Акунъя (дом Антонио), епископ Саморы, начальник одной из кастильских армий, собранных народом для войны коммун против угнетения фламандцев, управлявших Испанией от имени Карла V. Этот государь желал, чтобы епископ и священники, участвовавшие в этой войне в качестве рядовых, были наказаны испанской инквизицией по подозрению в ереси, поскольку следовали кровожадному учению, противному духу кротости, преподанной и рекомендованной Иисусом Христом апостолам, и противоречащему идеям католической Церкви, установившей для священников, которые убивают, даже когда они делают это неумышленно и в целях самозащиты, каноническое наказание в виде лишения сана. Несмотря на этот справедливый довод, Лев X воспротивился тому, чтобы епископ Саморы и священники, его товарищи по оружию, были наказаны инквизицией. Он утверждал, что это дело явится истинным скандалом и вполне достаточно, если епископ будет судим в Риме, а священники – епархиальными начальниками (см. главу XIII). Какой пример для испанских священников, которые стали атаманами разбойников во время недавних смут в Испании под предлогом защиты независимости родины и прав своего законного государя! Почти все брали с собой своих наложниц; все без исключения были общественными ворами и оправдывали множество убийств, совершенных над французскими солдатами, встречавшимися поодиночке и беззащитными. Некоторые из этих священников убивали французов собственными руками. Однако советники Фердинанда VII дали ему понять, что не только не следует налагать наказания на этих священников – распутников и душегубцев, но их следует вознаградить, даровать им именья и отличия. Какая сумятица в мыслях! Но ведь св. Павел сказал: Иисус Христос вчера и сегодня тот же.
10. Ариас д'Авила (Хуан), епископ Сеговии, брат первого графа де Пуньонростро, – см. главу VIII.
11. Аранда (дом Педро д'), епископ Калаоры, председатель совета Кастилии при католических королях Фердинанде и Изабелле, – см. гл. VIII.
12. Касас (дом Бартоломео де Лас), епископ Чиапы в Америке, – см. главу XXV.
13. Картахена Американская. История епископа этого города, занимавшего кафедру в 1686 году, находится в главе XXVI.
14. Клеман, епископ Версальский. Этот прелат находился в Испании, когда был еще только каноником и сановником кафедрального собора в Оксере, в то время как Карл III созвал чрезвычайный совет из архиепископов и епископов для рассмотрения дела иезуитов и некоторых других дел церковной администрации. Клеман находился в дружеских отношениях с графами Арандой, Флорида-Бланкой и Кампоманесом и с некоторыми епископами из этого совета. Он был оговорен перед инквизицией, как янсенист и враг святого трибунала. Подробности об этом французском духовном лице читатель найдет в главе XLII.
15. Клименте (дом Хосе), епископ Барселоны, – см. главу XLII.
16. Диас (дом Фроилан), избранный епископом Авилы, духовник Карла II, – см. главы XXVI и XXXIX.
17. Эгидий (доктор Хуан), избранный епископом Тортосы, – см. главы XVIII и XXI.
18. Гонсало (дом Викториан Лопес), епископ Мурсии и Картахены, – см. главу XLIII.
19. Ла-Плана-Кастильон (дом Хосе де Ла-Плана), епископ Тарасовы. Он был членом чрезвычайного совета, созванного Карлом III. Инквизиторы отметили его как янсениста по тем же мотивам, что и Арельяно.
20. Мендоса (дом Альваро де), епископ Авилы. Он происходил из дома графа Тендильи, маркиза де Мондехара, гранда Испании, двоюродного брата герцога Инфантадо. Он был отмечен в реестрах инквизиции как заподозренный в ереси вследствие нескольких показаний, данных свидетелями в процессе архиепископа Каррансы.
21. Мендоса (дом Бальдассар),[78]78
Бальдассар де Мендоса-и-Сандобал – двадцать восьмой главный инквизитор Испании (1699–1705).
[Закрыть] епископ Сеговии и главный инквизитор в царствование Карла II и Филиппа V. Когда он отказался от своих обязанностей, инквизиторы занесли его имя в книгу заподозренных в ереси. О нем см. главы XXXIX и XL.
22. Малина (дом Мигузль де), епископ Альбарасина и член чрезвычайного совета, созванного Карлом III. Его постигла та же участь, что и других членов совета, – см. статью Арельяно и главу XLII.
23. Палафокс (дом Антонио), епископ Куэнсы при Карле IV. Брат его граф де Монтихо был грандом Испании, – см. главу XLIII.
24. Тавира (дом Антонио де), раздаятель милостыни и проповедник при дворе королей Карла III и Карла IV, епископ-настоятель Уклеса в военном ордене Сант-Яго, затем последовательно епископ Канарских островов, Осмы и Саламанки, – слава испанской церкви, слава испанской нации, слава национальной литературы, – был отмечен, как янсенист. О нем см. главы XXV, XXVI и XLII.
25. Торо (дом Хосе Фернандес де), епископ Овиедо при Филиппе V, – см. главу X.
26. Торо (дом Габриэль де), епископ Ориуэлы, член чрезвычайного совета, созванного Карлом III. Он был отмечен как сторонник янсенизма, – см. статью «Арельяно» и главу XLII.
27. Трехо (дом Антонио де). Он был епископом Мурсии и Картахены при Филиппе IV и в 1622 году подвергся ужасному обращению со стороны инквизиторов, без малейшей видимости правосудия, – см. о нем главу XXVI.
28. Вальнарсель (дом Висенте де), епископ Вальядолида. Он был присужден к уплате штрафа и к получению выговора по случаю процессов Антонио и Геронимо де ла Куэста, каноников Авилы, за участие в заговоре против этих двух братьев, – см. статью «Мускис» и главу XLIII.
29. Вальядолид (епископ) в 1640 году – см. главу XXVI.
30. Вирусе (дом Антонио де), проповедник Карла V, епископ Канарских островов, был обвинен в лютеранстве, – см. гл. XIII и XIV.
Глава XXX
ПРОЦЕССЫ, ВОЗБУЖДЕННЫЕ ИНКВИЗИЦИЕЙ ПРОТИВ НЕКОТОРЫХ СВЯТЫХ И ДРУГИХ УВАЖАЕМЫХ ЛИЧНОСТЕЙ ИСПАНИИ
Статья первая
СВЯТЫЕ
I. Ни одно обстоятельство, изложенное в Критической истории испанской инквизиции, не доказывает лучше всего изъянов и гнусности этого трибунала, как то, что произошло с некоторыми святыми и другими личностями, уважаемыми испанской Церковью. Хотя в летописях нет ни одного примера окончательного осуждения, произнесенного против них святым трибуналом, тем не менее нельзя не констатировать несправедливости существовавших законов. Инквизиция может довести невинность и добродетель до ужасных стонов в застенках под тяжестью позора с момента, когда на человека поступает донос, до того времени, когда донос признается лживым и когда обнаруживаются коварство или недостаточность мотивов для признания еретиком человека, чье правоверие неоспоримо.
II. Если бы дела, подведомственные инквизиции, велись так же, как и в других судах, и обвиняемые содержались в обыкновенных тюрьмах, истина не замедлила бы обнаружиться, сознание судей было бы просвещено как самим обвиняемым, так и свидетелями, чьи показания могли бы послужить к выяснению в благоприятном смысле фактов, явившихся материалом для процесса; тогда дело нередко даже не доходило бы до задержания оговоренного лица. В самом деле, если бы инквизиторы не обязывались присягою хранить тайну, они говорили бы свободно, без затруднений каждый раз, когда считали бы это нужным, и говорили бы с людьми, которые могли бы их просветить; из живой речи, из обмена письмами, сообщениями или даже из личных бесед с заподозренным они узнали бы гораздо больше, чем из предательского и комбинированного допроса.
III. Напрасно говорят, что эта система облегчила бы виновным возможность бегства и ни один из них никогда не попал бы в руки инквизиции. Я отвечу, что не считаю бегство несчастьем; я был бы рад этому, если бы был членом инквизиции, потому что при самоосуждении еретика на вечное изгнание цель, предположенная инквизицией, была бы фактически достигнута, при этом обвиняемый зачастую налагал бы на себя более тяжелое наказание, чем то, которое он боялся получить от трибунала. Впрочем, признано, что существенным принципом христианской политики, наиболее согласным с божеским и естественным законом, считается скорее устранение возможности безнаказанности виновных, чем наказание невинных. Законы святого трибунала при страшной гарантии, которую дает им тайна, имеют последствия диаметрально противоположные, так как они дают преимущество такой системе судопроизводства, которая не только делает невиновного виновным, но и сводит почти всегда на нет защиту обвиняемых перед судом, лишает обвиняемого возможности защищаться; даже в том случае, когда истине удается пробиться через множество препон, ее торжество слишком медленно, и узник уже много претерпел, если не умер в оковах, как донья Хуанна де Бооркиа, или как жертвы, сожженные в Вальядолиде, или, наконец, как многие другие невиновные.[79]79
См. гл. XXI и XXIV.
[Закрыть]
IV. Мы видели выше, что произошло с домом Фернандо де Талаверой, первым архиепископом Гранады; с достопочтенным Хуаном д'Авилой, прозванным Апостолом Андалусским; с св. Иоанном Божиим, основателем конгрегации братьев милосердия.[80]80
См. гл. X, XIV и XVIII.
[Закрыть] Мы узнаем о других святых, которые также стали жертвами инквизиционной системы. Мы начнем с св. Игнатия Лойолы, как с одного из первых. На него поступил донос в вальядолидскую инквизицию. Пока судьи собирались его арестовать, он покинул Испанию, переехал во Францию, затем в Италию и прибыл в Рим, где был судим и оправдан после того, как был оправдан и в Испании судебным приговором генерального викария епископа Саламанки. Мельхиор Кано, мнения коего о иезуитах мы изложили,[81]81
См. гл. XXIII.
[Закрыть] составил в 1548 году при жизни св. Игнатия труд, не увидавший печати, под заглавием Суждение об ордене иезуитов. «Я предполагаю, – пишет он, – говорить об основателях этого общества; оно имеет генералом некоего Иньиго, который скрылся из Испании, когда инквизиция решила его арестовать, как еретика секты иллюминатов. Он отправился в Рим и пожелал судиться у папы. Так как никто не явился для его обвинения, он был объявлен непричастным к делу, и обвинение было снято».[82]82
Оговорка, помещенная Альфонсом де Варгасом из Толедо в четвертку в латинском труде, напечатанном в 1636 году под заглавием Донесение королям и христианским государям о политических хитростях и софизмах, употребляемых иезуитами для достижения всемирного владычества. Гл. 7. С. 22.
[Закрыть]
V. Настоящее имя святого было Иньиго. Иезуит Иоганн Евсевий Ниремберг, который в истории родоначальника своего ордена захотел воспроизвести чудо св. Иоанна Крестителя, неправильно утверждает, что в то время, когда родители Лойолы не знали, какое имя дать ему при крещении, новорожденный заговорил и сказал: «Мое имя – Игнатий». Это имя, согласно Нирембергу, означает «мечу огонь» (ignern iacio), с намеком на то, что в будущем он должен был возжечь в душах огонь божественной любви. Имя Игнатий было затем сохранено его учениками – по причине ли вышеуказанной аналогии, или по другому, неизвестному нам мотиву. Многих коробило от принятия последователями Игнатия имени Общества Иисуса; оно было слишком нескромным; вот почему говорили, что имя иньигистов лучше подходило бы к ним.
VI. Верно, что св. Игнатий был арестован в Саламанке в 1527 году по приказанию генарального викария этой епархии как фанатик и иллюминат; он вернул себе свободу только через двадцать два дня. Ему было предписано воздерживаться в проповедях от квалификации смертных и отпустительных грехов, пока он не изучит богословия в течение четырех лет, – условие, довольно тяжелое для Игнатия, которому было тогда тридцать шесть лет. Правда также, что вальядолидские инквизиторы, узнав о пребывании в тюрьме святого, предписали составить опрос о делах и речах, на основании которых он признан иллюминатом. Отсюда позволительно вывести заключение, что он не избег бы секретной тюрьмы Вальядолида и пострадал бы как жертва до момента обнаружения его невиновности, если бы не положил конца следствию.
VII. Но неверно, вопреки свидетельству Кано, что Игнатий покинул Испанию, чтобы избегнуть приговора. Скорее, по-видимому, он привел тогда в исполнение план путешествия в Париж для изучения богословия в Сорбонне. Смирение святого было так велико, что, будучи оговорен вторично в этом городе перед апостолическим инквизитором Матье д'Ори, доминиканцем, как фанатик и иллюминат, он не только не ускользнул, как поступил бы виноватый, но отдался в его руки и без труда доказал свое правоверие.
VIII. Неверно и то, будто бы Игнатий находился в это время в Риме, потому что мы встречаем его в Париже еще в 1535 году; а затем он вернулся в Испанию, где пробыл год без всяких тревог, хотя много проповедовал в провинции Гипускоа, в Наварре, в Новой Кастилии и в королевстве Валенсии. Отсюда он переехал в Италию, сначала прибыл в Болонью, а затем в Венецию, где был оговорен в третий раз, как еретик, но без всяких последствий, так как добился оправдания у папского нунция и вскоре в том же городе получил священный сан. Игнатий прибыл в Рим только в 1538 году.
IX. Не лучше обстоит дело с доказательством того, что мотивом его оправдания в Риме было отсутствие обвинителей; ведь каждый преступник может быть преследуем официальным должностным лицом, предан суду и наказан. Правда, в Риме тогда еще не было особого трибунала инквизиции, но обыкновенные судьи могли расследовать преступление ереси, как и другие проступки, и был прокурор, который выдавал преступников властям. Здесь св. Игнатию предстояло быть еще раз оговоренным. Донос к Бенедикту Конверсино, губернатору Рима, поступил от испанца по имени Наварро. Доносчик показал, будто Иньиго был обвинен и изобличен во многих ересях в Испании, Франции и Венеции, и даже обвинил его во многих других преступлениях. Однако трое назначенных по этому делу судей признали его невиновность и оправдали его. Это были: Фриас, генеральный викарий Саламанки, Ори, парижский инквизитор, и Нигуранти, папский нунций в Венеции, которые, к счастью для св. Игнатия, находились тогда в Риме. Доносчик был изгнан навсегда, а три испанца, поддерживавшие его показания, были присуждены взять свои слова обратно.
X. Таким образом, епископ Мельхиор Кано был плохо осведомлен, когда писал десять лет спустя, будто Иньиго был оправдан за неименением обвинителя. Святой был невиновен, и это его спасло. Но он наверняка не избег бы инквизиции, если бы происшествие в Саламанке случилось в Вальядолиде; он, может быть, погиб бы там от последствий гибельной тайны. Если эту тайну можно было бы упрекать лишь за четыре процесса против св. Игнатия Лойолы, то ее и тогда следовало бы уничтожить; ведь нельзя забывать, что все четыре раза истина невиновности Игнатия торжествовала исключительно благодаря публичности его процессов.
XI. Св. Франсиско де Борха, ученик св. Игнатия и третий генерал его ордена, наследовал Лайнесу в 1565 году и умер в 1572 году. Он был преследуем вальядолидской инквизицией, как и два его предшественника. Он был четвертым герцогом Гандиа, грандом Испании первого класса и кузеном короля в третьей степени по своей матери Хуанне Арагонской, внучке католического короля.
XII. Желание посвятить себя Богу привело его к отречению от мира. Он принял духовный режим истинных учеников св. Игнатия. Добродетели, обнаружившиеся в его поведении, и усердие к спасению душ привлекли к нему множество лиц, обращавшихся с вопросами о христианской жизни. Для ответа на них и для пользы этого дела он доставал себе все сочинения и книги, которые ему советовали приобрести, как годные для назидания его самого и ближних. Этот образ действий снискал ему уважение здравомыслящих людей, но был дурно истолкован другими из-за почтения, которое Франсиско оказывал некоторым трудам.
XIII. В 1559 году инквизиция возбудила процесс против нескольких лютеран, которых она приговорила к сожжению или к епитимье. Некоторые из этих еретиков, думая оправдаться при помощи учения Франсиско де Борхи, добродетель коего была хорошо известна, передали некоторые речи и действия этого отца, верившего, подобно им, в оправдание души верою в страдания и смерть Иисуса Христа. К этому они прибавляли для подкрепления своей защиты авторитет некоторых мистических трактатов. Среди его невольных гонителей оказался брат Доминик де Рохас, доминиканец, его близкий родственник. Против него воспользовались прежним доносом на его Трактат о подвигах христианина, составленный им, когда он еще был известен в миру под именем герцога Гандиа.
XIV. Эта книга и толки Мельхиора Кано и доминиканцев повели к обвинению де Борхи в пособничестве ереси иллюминатов. Молва об этом деле достигла Рима благодаря стараниям эмиссаров главного инквизитора Вальдеса, занятого тогда процессом архиепископа Толедского. Это доказывается письмом иезуита Педро Рибаденейры, адресованным в августе 1560 года его собрату Антонио Араос, бывшему в Риме. Я привел его, говоря об отце Лайнесе, втором генерале Общества Иисуса. Автор письма говорил, что слуги испанской инквизиции уверяют, будто отец Франсиско де Борха проникнут заразой, господствующей в мире. Этим словом автор обозначает ересь Лютера.
XV. Говоря о иезуитах Лайнесе, Борхе, Рибаденейре и некоторых других известных в то время личностях, епископ Мельхиор Кано в 1557 году следующим образом характеризовал распространившуюся среди них ересь иллюминатов: «Я утверждаю (и это – правда), что они – иллюминаты и пагубные люди, которых дьявол столько раз вводил в ограду церкви со времени гностиков до наших дней; они существовали со времени – ее возникновения и до последних времен. Всем известно, что Бог благоволил просветить на этот счет Его Величество императора. Когда наш государь вспомнит, как Лютер начал свою работу в Германии, и примет в соображение, что искра, которую считали возможным игнорировать, произвела пожар, против коего бесплодны все усилия, он признает, что происходящее теперь среди этих новых людей (иезуитов) может стать таким великим злом для Испании, что императору и нашему королю, его сыну, будет не под силу смирить это зло, когда они этого пожелают».[83]83
Это письмо было опубликовано иезуитом кардиналом Свенфугос в Жизни св. Франсиско Борхи. Кн. 4. Гл. 15. 2.
[Закрыть]
XVI. Выдающиеся добродетели и незапятнанная вера св. Франсиско должны были бы внушить другое представление о нем, чем то, какое имели епископ Кано и другие его враги. Однако ни заслуги, ни положение близкого родственника короля не спасли бы его от тюрьмы Вальядолида, если бы он не отправился в Рим, как только узнал, что процесс начался и что враги желают схватить его. Он избег инквизиции, но со скорбью видел, что его произведение дважды попало в Индекс – в 1559 и в 1583 годах.
XVII. Если бы трибунал испанской инквизиции относительно св. Франсиско де Борхи подражал поведению трибуналов Франции, Венеции и Италии по отношению к св. Игнатию, его ученик, подобно учителю, потребовал бы суда, и его невиновность была бы признана. Но тайные формы инквизиционного судопроизводства наносят чести обвиняемых тем более опасные удары, что пребывание в тюрьме святой инквизиции порождает на их счет предубеждения, которые ничто впоследствии не может уничтожить. Если бы испанские инквизиторы, получая добровольные признания еретиков, принимали жалобы подсудимых, требующих суда, как в других трибуналах, где путь состязаний открыт для обвиняемых, мы бы увидели, что св. Франсиско, сильный в чистоте помышлений и уверенный в своей невиновности, просил бы публичного суда и требовал бы, чтобы было законно установлено то, в чем его обвиняли.
XVIII. Но инквизиция – не трибунал, от которого можно ожидать подобной гарантии. Требование Борхи не было бы принято, и в стенах своей тюрьмы он не узнал бы ответа на свою просьбу. В то время как в первом случае судебная власть собирает через следователей факты для разъяснения дела, во втором случае инквизиторы ведут процесс так таинственно, что они, по-видимому, менее заняты установлением истинности фактов, чем подтверждением молвы и сплетен, господствующих среди мирян. Дело идет согласно инквизиционному формуляру. Этот метод наиболее пригоден для осуждения никогда не существовавших преступлений и наименее благоприятствует свидетелям, показывающим в пользу обвиняемого. Если в результате тайного осведомления подозрение в ереси подтверждается, обвиняемый, требовавший суда, вместо всякого ответа заключается в секретную тюрьму, так как судьи не могут освободиться от точного исполнения указов. Несчастная страна, где даже святые, узнав о дифамации, которая висит над их головой, и убежденные, что незапятнанная репутация необходима для воздействия их примеров и их учения, не могут, однако, обезоружить клевету перед судьями, не прослыв еретиками и не претерпев всех ужасов тюрьмы, где неизвестность будущего еще более усиливает страдания.
XIX. Блаженный Хуан де Рибера, патриарх Антиохийский, также был обвинен перед инквизицией Валенсии, когда он занимал архиепископскую кафедру этого города. Говоря по правде, к нему не применили никаких ограничений; с ним хорошо обходились инквизиторы. Но это не является доказательством в пользу трибунала, одно существование коего уже опасно, и эта опасность становится более или менее грозной, в зависимости от важности, придаваемой доносам, которые закон инквизиции позволяет толковать с наибольшей суровостью.
XX. Хуан де Рибера был внебрачным сыном дона Педро Афан де Рибера, герцога д'Алькалы, маркиза Тарифы, графа Молареса, губернатора Андалусии, вице-короля Каталонии и Неаполя. В 1568 году он перешел с епископства Бадахоса на архиепископство Валенсии. Его жизнь была совершенно безупречна; удивлялись его безмерному милосердию и мужественному усердию в поддержке дисциплины духовенства; это возбудило ненависть плохих священников и грешников, распутство которых он старался пресечь. Они объединились и составили план погубить во что бы то ни стало его честь и хорошую репутацию, которою он пользовался.
XXI. Декретом от 31 марта 1570 года Филипп II поручил ему ревизию университета Валенсии и преобразование некоторых частей его внутреннего распорядка.[84]84
Дон Франсиско де Орти. Записки университета Валенсии. Гл. 8. Здесь помещен текст данного ему поручения.
[Закрыть] Архиепископ приступил к работе, но так не угодил некоторым докторам, что они составили против него заговор. Они набрали лжесвидетельства и искусно распространили их в городе и даже во всей Испании. Не довольствуясь попреками в происхождении, они расклеивали на улицах и публичных площадях сатирические и оскорбительные плакаты в течение целого года. Они сочинили позорящие пасквили и опубликовали брошюры с выборками из Священного Писания, применив их самым ехидным образом. Дело зашло так далеко, что один монах из их клики, проповедуя в одной из церквей Валенсии, молился от имени народа об обращении архиепископа и просил для него у Бога благодати озарения верою, чтобы он мог избежать вечного осуждения за публично совершенные грехи. Монах называл один грех за другим с неизменной старательностью и злостностью. Чтобы не упустить ничего, что могло бы опозорить прелата, его враги донесли на него инквизитору как на еретика, фанатика и иллюмината.
XXII. Св. Хуан де Рибера, полный смирения, не жаловался никакому судье и не хотел требовать наказания своих клеветников. Но духовный прокурор, узнав, что некий Онуфрий Гасет, член городского духовенства, был главным зачинщиком этой интриги, счел долгом донести на него наместнику и генеральному викарию архиепископа, утверждая, что эта вольность, до сих пор безнаказанная, клонится к подрыву авторитета церковной власти, к большому вреду для дисциплины и даже к соблазну верных, которые сочтут себя покинутыми, находясь под руководством такого пастыря. Священник Гасет был изобличен и посажен в тюрьму по каноническому приговору. Архиепископ не одобрил этой меры. Ему казалось неправильным, что судья его собственного дома расследовал уголовное дело, которое касалось оскорблений, нанесенных его особе, и он желал бы, чтобы для устранения всякого подозрения в пристрастии дело было передано инквизиторам Валенсии, так как злоупотребление текстом Священного Писания в опубликованных против него пасквилях было так велико, что обнаруживало в их авторах убеждения, противные почтению к священным книгам, и, следовательно, ставило их под юрисдикцию инквизиционного трибунала.
XXIII. Св. Хуан де Рибера сообщил о своем намерении кардиналу Эспиносе, главному инквизитору, который приказал трибуналу Валенсии продолжить процесс. Инквизиторы уже начали предварительное следствие против архиепископа по сделанному на него доносу. Были свидетели, которые подтверждали его. Этому не следует удивляться, так как всякий доносчик намечает в качестве свидетелей для подтверждения своего показания людей, преданных его партии. Хотя донос священника Гасета был мотивирован, дело вдруг приняло неожиданный оборот. Вместо обычных форм проведения следствия главный инквизитор велел прочесть во всех церквах Валенсии декрет, которым предписывалось каждому мирянину доносить на лиц, употребляющих некстати и к соблазну народа места из Священного Писания, а также на пособников, соучастников и одобрителей такого поступка, под угрозой верховного отлучения, как виновных в непослушании, если они не донесут на преступников. Стали поступать доносы, и вскоре инквизиторы велели арестовывать священников и мирян. Дело велось в том же порядке, как по предмету веры; обвиняемых оставляли в неведении относительно имен свидетелей под предлогом, что они скомпрометировали могущественных лиц в городе, со стороны которых можно было опасаться актов мести. Уже несколько обвиняемых были осуждены, а другие ожидали этого, когда прокурор святого трибунала заявил, что возникли сомнения относительно компетенции инквизиторов и он считает необходимым снестись обо всем с римской курией; прокурор далее прибавил, что папа успокоит сомнения, одобрит уже сделанное и позволит трибуналу продолжать судопроизводство или, наконец, прикажет, что ему будет угодно.








