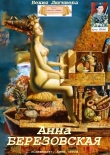Текст книги "Вахтангов (1-е издание)"
Автор книги: Хрисанф Херсонский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Старается не думать о театре.
За день до отъезда все же идет посмотреть не пьесу и не постановку, а публику балконов. И пишет домой о новом впечатлении. Зрители не проронят ни слова, не шелохнутся, не кашлянут. Захваченный общим настроением, Вахтангов в сам начинает видеть, что актеры очень естественно играют и держатся на сцене. Хорошо выходят на вызовы. «Летят на сцену гвоздики и розы с белыми билетиками. Как мальчик, радуется им актер, весело ловит и без позы, искренне, с хорошим лицом, кланяется дружно аплодирующей аудитории».
Все это не так уже плохо, хотя и наивно… И то, что вначале показалось ходульным пафосом, «мышцами», штампом, он, пожив месяц в стране, понял теперь как естественное проявление характера шведов…
Но он мечтает объехать весь свет. Побывать в Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго. Пишет жене: «На следующее лето надо готовить деньгу. Умру, а поедем. Разве можно проживать на земле и ничего из этой земли не увидеть? И если б я сидел под крылышком папаши – ничего бы я не знал и не видел. Все я как-то краду».
В Москве надо быть 10 августа. Остается полмесяца. Подсчитав деньги, Вахтангов берет дешевый круговой билет Стокгольм – Христиания – Копенгаген – Мальме – Стокгольм – Петербург. Пароход трижды пересекает Балтийское море. Берега, пристани, курорты, острова… Близится Петербург…
Глава четвертая
Сверстники и молодежь
1
В 1912 году в России стала подниматься новая волна массового революционного движения. В ответ на расстрел нескольких сот рабочих на Лене по стране пронеслись ураганом политические стачки рабочих, уличные демонстрации, митинги. Жадно читались революционные прокламации. Торжество реакции оказалось недолговечным.
Общественный подъем обострил идейные разногласия во всех слоях русской интеллигенции. Сознание, что необходимо пересмотреть свои политические симпатии и связи, или, напротив, желание покрепче привязать свою ладью к обветшалым буржуазным причалам сопровождались у всей интеллигенции острой потребностью точнее оформить и дифференцировать не только свою философию, но и все мироощущение, весь эмоциональный, этический и эстетический строй духовной жизни.
С этим стремлением столкнулся и театр. Стали появляться новые театральные «течения», теории, стали возникать студии. Эти студии служили лабораториями для новых идейно-эстетических исканий или для углубления и развития уже имеющихся принципов, достаточно засоренных на большой сцене, в слишком инертных, консервативных предприятиях.
Пересмотр идейно-эстетических позиций интеллигенции зашел в театре так далеко, что понадобилось оправдание даже для самого существования театра. Так, разгорелся со всей видимостью учености спор вокруг очень несерьезного доклада Ю. Айхенвальда, отрицавшего театр. Людям, отгородившимся от народа, бегущим от всего массового в кельи субъективизма, казалось вообще ненужным существование театра, который «грубо» передает то, что вызывает более интимное переживание в индивидуальном чтении.
Крикливые формалистские искания эстетов (Мейерхольд, Евреинов и др.) в ту пору в своем крайнем выражении исходили из стремления создать нечто изощреннейшее, понятное только немногим «посвященным», живущим не в широкой социальной действительности, а в замкнутом, искусственном, воображаемом, «своем» кругу – мирке иллюзий.
Общедоступный же театр, широко распространенный по всей России, театр, созданный, главным образом, той же интеллигенцией «для народа», служил в то время, по общему признанию, прежде всего «духовному мещанству» и не был ни подлинно народным, ни театром интеллигенции.
В этих условиях возникла потребность в студии и у гениального театрального мастера К. С. Станиславского. Занятия «системой» с молодежью, как и сама «система», были только средством для обновления театра.
Среди разбушевавшейся действительности, в буднях и потрясениях многострадальной России Станиславский высшую ценность видит в развитии человеческого духа. Духовная жизнь человека, непрестанно ищущего, – вот что, по К. С. Станиславскому, должно составлять содержание театра – одновременно и средства его и цель. «Система» же всем своим существом должна помочь актеру в создании такого искусства. «Старики» – основная труппа МХТ – инертно относятся к «системе», так пусть за это возьмется горячая и увлеченная «системой» группа молодежи!
Цель студии определяет до конца Л. А. Сулержицкий. О нем К. С. Станиславский говорил: «Почему Сулержицкий так полюбил студию? Потому, что она осуществляла одну из его главных жизненных целей: сближать людей между собой, создавать общее дело, общие цели, общий труд и радость, бороться с пошлостью, насилием и несправедливостью, служить любви и природе, красоте и богу…»
Маленькая группа артистов, начав с психологических опытов по «системе» Константина Сергеевича, добиваясь «сосредоточения», «вхождения в круг», «наивности и веры», должна была затем положить начало коллективу, основанному не только на общности психологической театральной школы, но и на общности моральной и, более того, на взаимной любви и на нравственном совершенствовании. Театр, как собрание верующих в глубокие природные этические начала человеческой души, театр-храм, театр – нравственный учитель жизни, театр доброй воли, доброго сердца – вот к чему звал Л. А. Сулержицкий.
Неписаный, но основной для Л. А. Сулержицкого закон студии выглядел примерно так: играть на сцене – это значит нести людям моральную проповедь в духе учения Льва Толстого. А для этого надо: соблюсти евангельскую заповедь – быть чистыми в сердце, «как дети»; быть, как дети, наивными в вопросах политики; как дети, созерцательными по отношению к общественной жизни, к революциям и войнам; как дети, беспечными перед лицом трагически развивающейся истории человечества.
Е. Б. Вахтангов был первым, кто внес в жизнь студии, в ее мед и елей резкую ноту прогрессивного протеста, более критическое, более прозорливое отношение к действительности. Он помог раскрыться противоречиям школы Л. А. Сулержицкого и толкнул студию к новым смелым поискам в искусстве.
2
После учебных занятий в студии и затем инсценировок рассказов А. Чехова первый открытый спектакль возник почти случайно. Пьесу Гейерманса «Гибель «Надежды» принес один из студийцев, Р. В. Болеславский. Когда спектакль, поставленный тем же Болеславским, был готов и его одобрил К. С. Станиславский, решили показать «Гибель «Надежды» публике.
Премьера состоялась 15 января 1913 года [17]17
Е. Б. Вахтангов позже играл в «Гибели «Надежды» роль Дантье. Работой Р. Болеславского руководил Л. А. Сулержицкий, как и всеми спектаклями, поставленными в студии при его жизни.
[Закрыть]. Молодой театр сразу завоевал симпатии москвичей, блеснув свежестью и яркостью исполнения и необыкновенной даже для Художественного театра слаженностью ансамбля. Но спектакль этот, хотя и «потрясал сердца» многих зрителей, не был глубоким по мысли.
Р. Болеславский тяготел к сильным чувствам, к широким мазкам. Видимо, его волновали где-то в перспективе героика и возможность монументальных, театральных форм, но «Гибель» оказалась самой примитивной по стилю постановкой студии. Спектакль был принят зрителями, как возрождение в обновленной и «интимной» форме прежней натуралистической линии МХТ.
Пьеса рассказывает о жизни голландских моряков-рыболовов. Это довольно традиционная мелодрама. Л. А. Сулержицкий видел в ней свежесть чувств и красок, яркое солнце, сиявшее за окнами, прямоту и цельность в раскрытии простых характеров, сочувствие к труженикам-рыбакам и негодование по отношению к черствым хозяевам, для которых деньги дороже всего, дороже жизни работающих на них людей. Но главное он видел не в социальных отношениях и даже не в драме рыбаков, а в пробуждении у людей чувства солидарности. Он говорил о теме спектакля:
– Стихийные бедствия объединили людей. Вот они собрались в кучу… Собрались не для того, чтобы рассказывать страшное, не это надо играть. Собрались, чтобы быть ближе, искать друг у друга поддержки и сочувствия. Жмитесь друг к другу добрее, открывайте наболевшее сердце.
Неизбежным «стихийным бедствиям» в жизни должно противостоять стихийно пробуждающееся единение людей, их чувство братства, – такова идея спектакля.
Студия показала крупным планом ощущения и чувства героев и слитность этих чувств с природой и трудом, с морем, с властью моря и обаянием моря. Тут были поэтизация физического груда, глубокое дыхание, постоянное напряжение и опасность. Это относительное полнокровие героев и привлекло к спектаклю в то время особые симпатии. Студия, при всей примитивности пьесы, хотела решительно противопоставить здорового человека, борьбу за цельные и непосредственные чувства и характеры бледным, зыбким теням и эстетским изыскам упадочного искусства. Сильное, терпкое ощущение физиологической жизни человека – таков был первый шаг.
Устройство крохотной залы и сцены, декорации, приемы лепки образов, характеров – все отвечало задачам тесного общения со зрителями. Не было ни помоста, ни рампы. Прямо на полу, за занавесом, проходила условная граница сцены. Эта интимная условность помогала забывать об условности зрелища. Маленький зал давал возможность актерам не возвышать голоса и не огрублять интонации, не давать подчеркнутого жеста, грима. Зрители как бы вводились внутрь самой комнаты, где происходило действие, в круг героев, живущих на сцене, «как в жизни». В то же время декорации не были обременены натуралистическими деталями. Предметы, которые по ходу действия не надо было актерам брать в руки, рисовались на стене, и от зрителя не скрывалось, что это холст. Так подчеркивалась художественная, образная природа жизни на сцене. Это должно было, по мысли устроителей театра, уже означать шаг от натурализма к художественному реализму.
Вскоре приступил к своей первой постановке в студии и Е. Б. Вахтангов. Это был «Праздник мира» Гауптмана – пьеса, уже однажды поставленная Евгением Богратионовичем на любительской сцене. С тех пор прошло немного лет, но режиссер подходил теперь к спектаклю, вооруженный новыми знаниями. А талантливые актеры и возможность длительной упорной работы – все создавало теперь условия для раскрытия идеи пьесы, как ее понимал Вахтангов.
Пьеса Гауптмана – прежде всего трагедия болезненной наследственности. Как и «Привидения» Ибсена, она была написана в период, когда проблемы наследственности были очень модны в буржуазном европейском обществе и занимали равно и ученых, и докторов, и писателей. Но идейно-моральная программа студии Художественного театра, как всегда, требовала показать победу «заложенного в людях добра». Драматическая коллизия пьесы нужна была студии лишь как предлог для того, чтобы острее, конкретнее показать высокие качества человеческой души, вне времени, независимо от среды, которая побеждает якобы всегда и везде.
Л. А. Сулержицкий говорил о теме «Праздника»:
– Не потому они ссорятся, что они дурные люди, а потому мирятся, что они хорошие по существу. Это главное. Давайте всю теплоту, какая есть в вашем сердце, ищите в глазах друг друга поддержки, ласково ободряйте друг друга открывать души… Не нужно истерик, гоните их вон, не увлекайтесь эффектом на нервы. Идите к сердцу.
Это означало бы насильственное преодоление всего, что заложено в пьесе. Вахтангов идет по иному пути. При этом он, как всегда, избегает приспособления всех образов и характеров к одной предвзятой идее; его интересует не «общее место», а неповторимое, свойственное только данному произведению раскрытие каких-то сторон человеческой жизни. Что же раскрывает «Праздник мира»?
Съезжаются вместе члены одной семьи. Вся обстановка (свидание после долгой разлуки, рождественский сочельник, елка, женитьба двух молодых людей, ожидание близкой смерти отца) заставляет людей примириться друг с другом хотя бы на время. Но озлобленные, эгоистичные, истеричные люди не в силах жить общей жизнью. Спокойствия в этом доме не может быть. Неизбежна вражда. И неизбежна гибель этой семьи. Почему? В силу патологической наследственности, как отвечает Гауптман? Нет. Вахтангов освещает действительность глубже и шире. И материал пьесы объективно дает к этому достаточные основания. Семья эта распадается и гибнем потому, что в ней, как в капле воды, отражается распад моральных устоев буржуазной семьи вообще, лицемерие, ложь и распад буржуазного общества в целом.
Вахтангов не «задавал» себе этой мысли заранее. Он начал работать над раскрытием характеров и отношений людей в пьесе так, как подсказывало ему верное ощущение действительности, как учила его жизнь. Это был суровый реализм… Обобщение выросло по необходимости само собой и потому не стало трафаретным, общим местом.
Критика, говоря о спектакле, писала об остроте психологического эксперимента, о том, что «обостренность чувствований» и раскрытие болезненной душевной жизни доведены до предела, до надрыва. Но этого-то и требовала пьеса Гауптмана! Иначе за нее не стоило и браться.
Перед зрителями было раскрыто Вахтанговым «гнездо людей с исковерканной жизнью, с издерганными, больными нервами, людей, у которых все человеческое, нежное, сердечное глубоко спряталось куда-то, а на поверхности души – только боль, раздражительность и нервическая злоба, готовая ежеминутно прорваться в самых страшных, уродливых формах». Вахтангов смело бросает буржуазному обществу обвинение, показывает ему в зеркале его лицо.
И зрителям «хочется кричать, стонать», и в то же время многие сознают, что иногда необходимо раскрыть им их болезни, повести зрителей «по закоулкам их окровавленных и гноящихся душ», как писал рецензент. Так Вахтангов повел зрителя в трагическое путешествие, подобное сжиганиям Данте в аду. Для самого Евгения Богратионовича, как художника, это мучительное путешествие, полное скорби, обличения, протеста и гнева, затянулось до последних дней его рано оборвавшейся жизни.
Но была ли вахтанговская постановка «Праздника» отрицанием человека, отрицанием основной программной линии, взятой студией? Нисколько. Напротив, Вахтангов отнесся к проблеме человеческого достоинства со страстью, не знакомой ни Л. А. Сулержицкому, ни Р. Болеславскому, ни, пожалуй, всему Художественному театру во главе с К. С. Станиславским.
Евгений Богратионович пошел в своем творчестве не путем «доброго учителя», а путем «безжалостного» исследователя. Он не поливал свои образы елеем благодати, он действовал скальпелем и прорвался в глубь человеческого сознания и поведения, в тайники мысли и психики, к самым корням чувств и страстей. Он был прозорливее своих учителей как психолог, интуитивно прозорливее их как гражданин.
Социально-критическую направленность постановки Е. Вахтангова отметил и великий пролетарский писатель Максим Горький. Посетив «Праздник мира», он «нашел в ярко выявленных типах и «обнаженных ранах» семьи Шольтца настоящее искусство, искусство протеста».
По репортерскому отчету газеты «Раннее утро» от 15 февраля 1914 года, «поразила Горького также и аудитория студии. По словам писателя, вообще редко приходится наблюдать такое общение между сценой и аудиторией. Студии Горький предсказывает громадное будущее. Его мечтой, была бы постановка студийцами пьес для широких общественных кругов и рабочих».

А. М. Горький среди актеров 1-й студии МХТ.
Сидят слева направо: М. Ф. Андреева, В. В. Соловьева, С. В. Гиацинтова, В. Л. Мчеделов, А. М. Горький, Е. Б. Вахтангов, Ф. В. Шевченко. Стоят слева направо: М. А. Чехов, А. И. Попова, С. Г. Бирман, Р. В. Болеславский, Л. А. Сулержицкий, И. Ф. Колин, Б. М. Сушкевич. 1914 г.
Изощренное искусство интимно-психологического театра Вахтангов обратил против буржуазного и мещанского «уюта». Гуманизм свой – более страстный и действенный, чем гуманизм Станиславского и Сулержицкого, – он обратил против пассивного, рабского «утешения».
И тем сильнее прозвучала в его «Празднике» мысль о возможном где-то «примирении», о добрых человеческих отношениях, об отцовской и братской ласке, о дружбе и любви. В этом доме мир невозможен, но человечество не может жить без любви!.. У людей в пьесе Гауптмана нет никакого исхода – только смерть. Но зрители, идя за Вахтанговым, а не за Сулержицким, тем сильнее пережили то, что хотел и не мог найти Сулержицкий: уверенное чувство, что необходимы чистые, здоровые и любовные отношения между людьми. А вместе с тем возникало острое желание строить свою жизнь иначе, чем жила мучительно распадающаяся буржуазная семья.
Но Вахтангов, дойдя, по обыкновению, до последней грани, начал понимать, что допустил одну ошибку.
Часть прессы писала о «простоте тона» в «Празднике мира», о такой простоте, «которая не достигалась и в Художественном театре», «которая страшна и гораздо труднее какой угодно приподнятости». Но это было не совсем верно.
Нервы в зрительном зале были напряжены до пределов, И; публика действительно стонала и плакала. К. С. Станиславский, посмотрев спектакль на генеральной репетиции, не одобрил его за неврастеничность и не захотел выпускать на публику. Сулержицкий насилу добился разрешения показать «Праздник» артистам труппы МХТ. Те приняли спектакль противоречиво. Многие восторженно. Особенно горячо выступил на защиту Вахтангова В. И. Качалов. Сопротивление Станиславского было сломлено.
Но Вахтангов уже сам увидел, что прав был Л. А. Сулержицкий, когда он, возмущенный, сказал после одной истерики в зрительном зале:
– Как сама истерия не есть результат глубоких переживаний, а только показывает на болезненную раздражительность нервов, органов чувств, так и причины, вызывающие истерики, тоже относятся не к духовному или душевному миру, а к области внешних раздражителей нервов… И это не область искусства!
Сулержицкий резко выступил против истерии, к которой легко увлекала актера система «театра переживаний». Леопольд Антонович писал: «Передавать на сцене истерические образы, издерганные души тем, что актер издергает себе нервы и на этой общей издерганности, на общем тоне издерганности играет весь вечер, заражая публику своими расстроенными нервами, – прием совершенно неверный, безвкусный, антихудожественный, не дающий радости творчества ни актеру, ни зрителям. Хотя прием этот и сильно действует, но тут действуют больные нервы актера, а не художественное воспроизведение образа, – это у актера испорченные нервы, а не у его героя. Образ издерганного, истерического человека художественно достигается, как и всякий образ, не общим тоном, а правильным подбором задач, их расположением, правильным рисунком роли и искренним, насколько можно от себя, выполнением в этом рисунке каждой отдельной задачи, лежащей в основе каждого отдельного куска, объединенных сквозным действием. Тогда это искусство, которое, какие бы ужасные образы ни воплощало, всегда радует и дивит, в противном же случае это сдирание своей кожи для воздействия».
Работая с актерами над ролями пьесы Гауптмана, Евгений Богратионович не всех сумел на этот раз удержать от «игры на нервах». В дальнейшем это у него никогда больше не повторится.
3
Летом 1913 года Л. А. Сулержицкий увез Вахтангова к себе на дачу в Канев.
Здесь над светлыми просторами Днепра, на Чернечьей горе, похоронен Т. Г. Шевченко. Эти места под теплыми ветрами родной Украины поэт облюбовал при жизни.
Привольная, щедрая природа навевала на Вахтангова мечтательную задумчивость. Он предавался полному отдыху, подолгу лежал молча, глядя в небо, наслаждаясь ленивым течением мыслей и тишиной. Но Леопольд Антонович Сулержицкий не давал своим гостям покоя. Отдыхавшее в его доме общество друзей, артистов, их семьи и дети вечно были заняты множеством дел и игр, которые Сулержицкий без конца придумывал для всех. Взрослые должны были колоть и пилить дрова, копать землю, возить в бочке воду и вместе с детьми играть в матросов на Днепре.
Вахтангов жарился на солнце, но Сулержицкий постоянно поднимал его на ноги.
– Ну, «сонный грузин»… Опять лежишь «под чинарой» и мечтаешь? Нет, я должен сделать из него человека!
И ласковыми пинками отправлял «на работу».
Евгений Богратионович вспоминает [18]18
Из рассказа Вахтангова на вечере 1-й студии МХТ в декабре 1917 года, в первую годовщину со дня смерти Л. А. Сулержицкого.
[Закрыть]:
«Если бы уметь рассказывать, если бы уметь в маленькой повести день за днем передать лето Леопольда Антоновича.
А оно стоит этого, и именно день за днем, ибо Леопольд Антонович не пропускал ни одного дня так, чтобы не выделить его хоть чем-нибудь достойным воспоминания.
…Я попробую рассказать только один день такого лета, – лета, в которое он особенно использовал силу своего таланта объединять, увлекать и заражать.
Только один день. Это было в то лето, когда Иван Михайлович [19]19
И. М. Москвин.
[Закрыть]был адмиралом, сам он капитаном, Николай Григорьевич [20]20
Н. Г. Александров.
[Закрыть]помощником капитана, а Пров Михайлович Садовский министром иностранных дел и начальником «моторно-стопной» команды. Это было в то лето, когда Николай Осипович [21]21
Н. О. Массалитинов.
[Закрыть], Игорь, я, Володя и Федя Москвины. Маруся Александрова, Володя и Коля Беляшевские, Митя Сулержицкий были матросами и вели каторжную жизнь подневольных, с утра до сна занятых морским учением на трех лодках, рубкой и пилкой дров, раскопками, косьбой, жатвой, поездками на бочке за водой.
Это было в то лето, когда Николай Осипович назывался матрос Булка, Игорь – мичман Шест, я – матрос Арап, Федя – матрос Дырка, когда все, и большие и малые, сплошь все лето были обращены в детей этой изумительной способностью Леопольда Антоновича объединять, заражать, увлекать…
День именин адмирала Ивана Михайловича, 24 июня.
Еще за неделю волнуются все матросы. Усидчиво и настойчиво ведет капитан занятия на Днепре. Приводятся лодки в исправность, увеличивается парус огромной, пятисаженной, в три пары весел, лодки «Дуба», приобретаются два кливера, подновляются и освежаются все сто флагов и особенно один, белый с тремя кружочками – эмблемами единения трех семей: Сулержицких, Москвиных и Александровых, укрепляются снасти, реи, мачты, винты и ежедневно происходят примерные плавания и упражнения по подъему и уборке парусов. В Севастополе куплены морские фуражки, у каждого матроса есть по нескольку пар полной формы. Под большим секретом, из г. Канева, за пять верст от нашей дачи, нанят оркестр из четырех евреев – скрипка, труба, кларнет и барабан. Написаны слова, капитаном сочинена и разучена с детьми музыка – приветственный марш. Им же выработан и под его диктовку записан план церемониала чествования.
9 часов утра. Моросит дождь. Все мы оделись в парадную форму и собрались в маленькой комнате нижней дачи в овраге. Оркестр уже приехал. Леопольд Антонович разучивает с голоса простой, детский мотив марша и убеждает музыкантов переодеться в матросское платье.
– Мы хотим доставить удовольствие нашему товарищу – актеру. Он раньше был адмиралом, и ему приятно будет вспомнить, – убеждал он.
И убедил.
Они переоделись.
Тихонько, чтобы раньше времени не обнаружить себя, вся команда в шестнадцать человек подошла на цыпочках и выстроилась у крыльца дачи Ивана Михайловича, под самым окном его спальни. Леопольд Антонович – в капитанской фуражке, с двумя нашивками на матроске, Николай Григорьевич тоже в морской фуражке, с биноклем через плечо. Деловито и строго посматривает на команду начальство.
Мы все молчим, полные сосредоточенного и затаенного сознания важности момента.
Капитан дает знак музыкантам. Рывком, фортиссимо, бесстыдно фальшиво тарахтит туш и обрывается.
Мы в полном молчании ждем эффекта этого никак не мыслимого адмиралом сюрприза. Ждем долго и терпеливо. (И. М. Москвин проснулся от шума, в щелочку из-за занавески рассмотрел, в чем дело, и мгновенно принял игру. – X. X.)
Наконец, дверь на террасу медленно открывается и спокойными, ровными, неторопливыми шагами идет к лестнице адмирал.
Пестрый восточный халат, на голове чалма, в которую вставлено круглое ручное зеркало, пенсне.
У края лестницы адмирал остановился. Спокойно и серьезно обводит глазами стоящую внизу команду.
Напряженная пауза.
Капитан читает церемониал, им составленный…»
Все строго официально… Бранд-вахта у адмиральской террасы на шканцах. Морской парад. Вельбот-двойка с бронепалубной канонерки 1-го ранга двойного расширения «Дуб-Ослябя» под собственным г-на адмирала бред-вымпелом принимает г-на адмирала на борт. Морские парусно-такелажно-рангоутные маневры команды «Дуб-Ослябя» в колдобине Бесплодие. Поздравления от флотского экипажа и местного высшего и низшего общества.
«…Оркестр бешено, победно и нагло рванул марш, хор матросов с энтузиазмом поет приветствие:
Марш Княжей горы в честь адмирала Москвина
Сегодня для парада
Надета винцерада,
И нужно, чтоб орала
Во славу адмирала
Вся Княжая гора:
Ура!
Ура! Ура!
Сегодня, в день Ивана,
Нет «поздно» и нет «рано»,
И нужно, чтоб орала
Во славу адмирала
Вся Княжая гора:
Ура!
Ура! Ура!
Сегодня все мы дети.
Надев матроски эти,
Хотим, чтоб орала
Во славу адмирала
Вся Княжая гора:
Ура!
Ура! Ура!
Адмирал не шелохнулся. Опять напряженная пауза.
Глаза матросов, капитана и его помощников начинают слезиться от потуг сдержать смех.
Спокойным голосом, без повышения, серьезно, без искорки шутки, нисколько не зараженный взрывами пробивающегося смеха команды, по-москвински – адмирал произносит:
– Спасибо, братцы!
Медленно поворачивается, идет к двери, снова возвращается, выдерживает паузу:
– Еще раз спасибо.
И величаво-спокойно уходит…
Я не умею рассказать, что было с командой…»
День именин «адмирала» удался на славу. За обедом сын И. М. Москвина, Владимир, прочел написанный Е. Вахтанговым тост:
Славься, добрый адмирал!
Чин ты свой не замарал
На пути тернистом, торном.
Славен будь на море Черном!
Ты могуч, твой страшен взор,
Ты краса сих Княжих гор.
Не садись в мотор с Садовским…
Адмиральствуй над Азовским!
Краше роз и олеандров,
Ловок ты, как Александров.
Адмиральствуй между делом!
Славен будь на море Белом! и т. д.
……………
Славен будь над Скагерраком!
……………
Славен будь в Па-де-Кале!
О, прославься до Ламанша…
……………
Славься ты до Чатырдага!
Ждем поднятия мы флага.
С громом пушек, ружей, мин, —
Адмирал Иван Москвин.
Три лета подряд прожил Евгений Богратионович в Каневе у Сулержицкого.
Где бы эти два человека друг с другом ни встречались – в деревне, на улице города, в комнате среди знакомых, – они вносили в общество веселую артистическую игру. Это было соревнование в импровизации. Они всюду запоминали множество характерных черточек, слов, жестов, интонаций и изображали поведение самых различных людей – спорщиков, пьяных, уличных певцов и торговцев, детей, стариков, женщин. Обычно начинал Сулержицкий, Вахтангов подхватывал, и экспромтом разыгрывались неповторимые «дуэты», диалоги, маленькие рассказы о людях.
У Сулержицкого была неутомимая жажда к непосредственному знакомству с жизнью, ненасытный, жадный интерес ко всему, что он видел, и редкий в те годы талант – жить всегда увлеченно, весело, деятельно и заражать этим легко других. Никто другой в жизни Евгения Богратионовича не отрывал его так решительно от «созерцательного», инертного состояния и от «литературного» восприятия действительности. Сулержицкий постоянно толкал ученика к увлеченному «деланию» жизни во всех ее проявлениях и жестоко вытравлял в Вахтангове временами посещавшую его меланхолию.
От своих «командиров» в Каневе Вахтангов получил в 1913 году художественно исполненный диплом:
«Дана сия аттестация матросу Е. Б. Вахтангову в том, что он заслужил звание гребца 1-го ранга, а также может на фока-шкоте. Сей матрос усерден и храбер есть, но зело сон любит во вред начальству.
Капитан Л. Сулержицкий.
Помощник кап. Н. Александров.
Адмирал И. Москвин».
Наверху в спасательном кругу нарисован спящий загорелый Вахтангов, его будит пинком увесистый капитанский сапог. По кругу надпись: «Дуб-Ослябя» – «А ну, подскочи!»

Шуточный аттестат, выданный Е. Б. Вахтангову. Рисунок Л. А. Сулержицкого.
4
15 ноября 1913 года состоялся первый спектакль «Праздника мира». Успехи молодой Студии МХТ вызвали множество подражаний у совсем зеленой в театральном отношении молодежи. Так и в Московском коммерческом институте появилось в ноябре объявление: студенты и курсистки приглашались записываться в свою студенческую драматическую студию, которой еще только предстояло родиться.
Студия по своему составу ничем не отличалась от любого студенческого кружка, но инициаторы – пять студентов – требовали от вступающих необычно серьезного отношения к делу и полного подчинения дисциплине. Студийцы, в противоположность многим любителям, не должны были гнаться за постановкой скороспелых спектаклей. Не заманчивая возможность «поиграть на сцене» была целью организаторов студии, а, пока что, только знакомство с культурными основами театрального искусства. Это было прежде всего актом самообразования в дополнение к казенной программе института.
Идеалом инициаторов студии, их «учителем жизни» был Московский Художественный театр. Они далеко не были революционерами ни в жизни, ни в искусстве, эти восемнадцатилетние молодые люди. Но некоторым из них казалось, что приобщение к искусству Художественного театра, может быть, лучше всего воспитает их не только для модного тогда «нахождения себя», то есть выработки начатков миросозерцания, но для прогрессивной роли в общественной жизни, для лучшего служения народу и вообще для ответа на все вопросы, стоящие перед интеллигенцией. Моральное самовоспитание, товарищеское единение, отказ от легкомысленной любительщины и от актерского профессионализма, самоотверженное служение искусству и бескорыстное изучение его – вот основа, на которой быстро сложилось начальное ядро, этой организации.
В руководители был приглашен Е. Б. Вахтангов.
Придя к студентам, Евгений Богратионович начал с заявления, что где бы он ни оказался, с кем бы ни работал, он ставит себе одну задачу: пропаганду «системы» К. С. Станиславского.
– Это моя миссия, задача моей жизни.
Студенты были в восторге и от слов учителя, и от его обаятельного внешнего облика, и от сразу же поразившей их необыкновенной его способности проникать в их чувства и мысли и говорить с юношами и девушками на абсолютно для них понятном, всегда интимном волнующем языке.
Для того чтобы создать финансовую базу студии, решили все-таки поставить спектакль. Евгений Богратионович не возражает: воспитательную работу и объяснение «системы» ему легче всего вести в практической работе над пьесой. Студенты предлагают понравившуюся им «Усадьбу Ланиных» Б. Зайцева, только что напечатанную в одном из «толстых» журналов. Пьесу читают вслух, и Вахтангов, к удивлению всего маленького собрания, беспощадно ее разносит. Пьеса бездейственна, одни разговоры, никакой динамики. Но студенты обрушиваются на Евгения Богратионовича шумной лавиной протестов…
Чем же им нравится «Усадьба»? «Эта пьеса, – как писал потом один из рецензентов, – вся напоенная душистым ароматом любви и густыми благовониями деревенского приволья, как будто родилась из чеховской «Чайки». Когда вы смотрите «Усадьбу Ланиных» на сцене, вам кажется, что это одна из шести усадеб, расположенных на берегу Колдовского озера в имении Сорина. И здесь, как говорит одно из действующих лиц пьесы, все охвачены силой любовного тока, который кружит их, сплетает, расплетает и одним дает счастье, а другим – горе. Здесь у пруда стоит статуя богини любви Венеры, «устроительницы величайших кавардаков», скульптура XVIII века, вывезенная из Франции еще дедом помещика. Это место для объяснений в любви. Тут стоят скамейки, и со старинных времен на дубах и березах вырезаны пронзенные сердца. Здесь любят так же нежно и трагично, как любили в «Чайке», и во всей пьесе Зайцева разлита та же нежная лирика свежего весеннего чувства, какой была напитана драма Чехова. И кажется, как будто на смену отлюбившим и отстрадавшим персонажам усадьбы Сориных, через 20–25 лет, пришли новые люди, обитатели усадьбы Ланиных – племя младое, незнакомое, – готовые покорно и беззаветно повторить от века начертанный круг переживаний – любовь и печаль, восторги и муку обид. Как будто вместе с испарениями старого пруда, клубящегося по вечерам туманами, в этой усадьбе любви и печали, у подножия статуи Венеры, рождаются атомы взаимного притяжения, нежности и сердечной тоски, и все кружится в каком то вихре сладостного восторга и упоения любви».