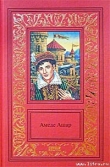Текст книги "Пророчество Корана"
Автор книги: Хесус Маэсо де ла Торре
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Confiteor Deo omnipotenti [88]88
Исповедаюсь Богу всемогущему (лат.).
[Закрыть]
Темная тень башни кафедрального собора падала на окно комнаты архиепископа Санчеса, который постарался придать своему лицу не гневное, а доброжелательное выражение.
Послышался робкий стук в дверь, вошел этот презренный брат Ламберто, раздувшийся от водянки, поднаторевший в лукавстве и всяких кознях, но сейчас, на середине комнаты, имевший смиренный вид. Он заметно потел, нервно сплетая руки над красно-синим крестом, знаком принадлежности к братству. Глаза его под пухлыми веками выражали беспокойство.
Шаркая сандалиями по полу, отделанному под мрамор, он подошел к прелату, который предупредительно протянул ему перстень, свободно развалившись под строгим балдахином лицом к окну, одетый в тунику из фиолетовой ткани. Нагрудный крест с сапфирами и топазами посверкивал на его впалой груди, оттеняя проницательный взгляд.
– Pax tecum, fater [89]89
Мир тебе, отец (лат.).
[Закрыть], – приветствовал сухо архиепископ.
– Et cum spiritu tuo, episcope reverendisime [90]90
И душе твоей, почтеннейший епископ (лат.).
[Закрыть], – пробормотал клирик.
В комнате стоял душный и недвижный воздух, слабый вечерний свет желтил переносной камин с красными углями, шкаф, заполненный кипами бумаг, старые военные доспехи из Падуи и темный алтарь, где трепетала пара свечей под черным распятием, выступавшим из дерева, будто аспид. Бархатные ткани покрывали стены, лишенные украшений.
– Adsumus [91]91
Вот, мы здесь (лат.).
[Закрыть], – нарушил тишину монах, перекрестился и провел тыльной стороной ладони по поджатым губам.
Архиепископ со своим обычным печальным выражением лица указал на табурет перед собой.
Чтобы успокоить монаха и развязать ему язык, он отечески попросил рассказать о том, как идут дела с вызволением пленных из страны иноверцев, о чем тот стал подробно отчитываться с некоторым бахвальством, дойдя до перипетий, которые ему приходится претерпевать на границе с Гранадой. Тут архиепископ прервал свои вопросы и вытащил из-за пояса письмо султанши, с которого свисали красные шнуры и пурпурная печать. Он согнул пергамент, чтобы оставить нужную часть текста, и со строгим выражением лица поднес его под непомерно расширившиеся глаза монаха, поднаторевшего в чтении арабских документов. Быстро и судорожно пробежав текст, тот понял со всей очевидностью, что за обвинения ему грозят. Это повергло его в настоящий ужас. В замешательстве он проглотил слюну, холодный пот ручьями потек под сутаной. Он пытался с ходу найти хоть какое-нибудь оправдание, но это ему не удавалось. Мысли метались между страхом и тяжким сомнением. Покраснев от внезапного позора, обрушившегося на него, он едва издал какой-то слабый звук, осознавая позор и крайнюю серьезность положения. Монах начисто растерялся, его душа была буквально растерзана этим невесть откуда свалившимся пергаментом, он понимал, что превращается в скандальное средоточие гнева церковной и монаршей власти, и суровое наказание, возможно самое страшное, неминуемо.
– Похоже, вы поддались искушению дьявола, брат мой, – архиепископ перешел на гневный тон, – и вам остается только предстать перед королевским судом, который отправит вас на костер за государственную измену. Положение отчаянное, падре.
Монах, понимая, что за предъявленным документом наверняка стоят конкретные люди и свидетели, отпираться не стал. Самоубийственное молчание, равно как и отрицание ни к чему бы не привели. Он был разоблачен, его жизнь зависела теперь от вспыльчивого нрава архиепископа Хуана Санчеса. Убедительность доводов потрясла его, все его устои обрушились, он полностью был в руках иерарха.
– Сдается мне, брат Ламберто, что вас ловко использовали люди, склонные к мести и предательству.
– Я, светлейший, не могу собраться с мыслями и…
Произнося свои аргументы, архиепископ следил за жестами монаха, за выражением ужаса на его лице, чтобы со все большей въедливостью вести дальнейший допрос.
– Вне всякого сомнения, вы недостойны носить сутану ордена Милосердия, и я не вижу никакого способа спасти вас от позорного суда, от обязательного пристрастного дознания и непременной постыдной казни. Вы понимаете всю серьезность положения?
Монах был совершенно парализован, его охватило безысходное чувство одиночества. При мысли о неминуемом бесчестии, о разрушительных последствиях всего им сотворенного он закрыл лицо руками, глаза его покраснели. Да станут ли мать Гиомар или королева защищать его, думал он в тоске. Они же начнут все отрицать. Доказательств их причастности нет. Только его слова и это странное обвинительное письмо. Он, блюститель закона Божьего, проводник добродетели и нравственности, неустанный миссионер Господень в землях страдальцев, духовник королевы Марии, вмиг превратился в позор своего ордена и вот-вот предстанет перед судом за измену и отступничество.
– А в чем меня будут обвинять, светлейший? – попробовал перейти он на наивный тон.
С бесстрастным и не сулящим ничего хорошего выражением иерарх отрезал:
– В крайне тяжкой измене святой матери Церкви и оскорблении его величества. Вы поступили как безрассудный невежда и покрыли себя бесчестием. Вас ждет костер.
Эти тяжелые, похожие на эпитафию слова падали, руша последние бастионы в сознании монаха.
– Ваше преосвященство, Господом Богом молю, спасите меня от этой напасти. Я чувствую, что попал в какую-то ловушку, уверяю вас, – жалобно проговорил он.
Лицо прелата тронула лукавая улыбка. Жертва оказалась разоруженной без особого сопротивления. И, словно речь шла о литургии, заранее расписанной, строгим голосом, но с долей отеческого сочувствия он сказал:
– У вас остается единственный выход, падре. Иначе перед вами черная пропасть.
– Целиком полагаюсь на ваше великодушие.
Тяжелая пауза повисла после этой реплики. Архиепископ с тем же непроницаемым выражением лица нанес последний бесстрастный удар:
– Я вас исповедую.
– Вы лично исповедуете меня, светлейший? – растерялся монах.
Иерарх усмехнулся и подтвердил:
– Исповедь – лучшее лекарство для тех, кто согрешил. Вы ступили на рискованный путь и проиграли. Однако милосердие Божье не имеет границ. Поведайте мне о ваших грехах.
– Я признаю свой низкий грех и готов открыть вам душу, – сказал монах.
– Вы находитесь в подобающем месте, где можете поделиться со мной всем, что знаете, – спокойно произнес епископ. – Вам все равно придется это сделать – либо на исповеди, либо на суде. Советую вам прислушаться к голосу своей души и освободить ее от тяжкого греха через святое причастие. Только таким образом вы сохраните свою пошатнувшуюся репутацию. Тайна исповеди должна ободрить вас, я жду разъяснения всего того, что связано с данным письмом, говорите подробно, чтобы не осталось никаких сомнений.
Сомнение все же возникло на дряблой физиономии монаха. В какой-то момент он решил было не открывать всей правды, но перспектива жестокого дознания подрывала его волю и погружала в отчаяние. Необычное предложение исповеди ему, священнику, показалось спасением, милосердным и обнадеживающим выходом.
– Так если я расскажу, что мне известно, меня не станут пытать, дело не предадут огласке, процесса, пристрастного и открытого, не будет? – с перехваченным горлом произнес он так искренне, что одно это говорило о его виновности.
– По воле Создателя и по сути святого причастия вас минет все это, и если вы решитесь дать показания, то их сохранит тайна исповеди. Быть посему, вас не тронут a divinis [92]92
По воле Божьей (лат.).
[Закрыть] и отправят в какой-нибудь монастырь по согласованию с вашими высшими чинами. Не в интересах королевства предавать огласке дела, касающиеся королевского алькова.
Монах, у которого в душе рухнула стена недоверия, был бледен, он больше не колебался. Конечно, он предпочел бы умереть где-нибудь забытым в дальней обители, чем в результате принародного провозглашения его изменником и злоумышленником против короны. Он решился, и эта определенность, результат примененного способа убеждения, уже была необратима.
– Если так, слушайте мои признания. – Монах встал на колени перед прелатом, как положено во время причастия. – Confiteor Deo omnipotenti… Падре, я каюсь в том…
Всего в нескольких шагах от исповедника и кающегося тихо сидели два секретаря архиепископа, скрытые за толстыми занавесями, с хорошо очинёнными гусиными перьями и мраморными чернильницами, наполненными атраментум, готовые записывать, не пропуская ни словечка, признания брата Ламберто.
–.. что был слаб духом и имел тайные переговоры с врагами Кастилии и истинной веры. Я признаю, что мои обязанности состояли в том, чтобы служить гонцом, – заявил он, проглотив слюну и облизав пересохшие губы. – Мне пришлось играть роль самую неприятную и опасную, светлейший отец.
– Что же это за обременительная роль, сын мой?
– Известна всем неприязнь королевы-матери к принцам-близнецам дону Фадрике и дону Энрике, сыновьям доньи Элеоноры де Гусман. Так вот, благородные советники, которые бывают у нее в келье в Сан-Клементе, видя заметное возвышение обоих бастардов, ту любовь, которой они пользуются в королевстве, их способности, а также предпочтение, оказываемое им королем, настаивают на их устранении, чтобы обеспечить трон принцу дону Педро.
– В Кастилии никто не посмеет пролить кровь детей короля Альфонса! – гневно вставил Санчес.
– Вы правы, светлейший, именно потому мне было поручено установить связи с наемниками Узмина под прикрытием моих постоянных поездок по поводу пленных в Гранаду. Его ненависть к нашей вере и открывшаяся возможность причинить вред нашему королевству стали хорошей почвой для переговоров. Они решили отправить инкогнито одного из своих фанатиков и исполнить приговор, когда дон Альфонс с сыновьями вернется после Гибралтарской кампании, за что потребовали предварительную плату в сто солидов золотом. Плата была внесена, а приговор был засвидетельствован их имамами на сатанинских книгах. И ничего нельзя уже поделать, потому что убийца поклялся исполнить свое дело и уже находится в пути.
– Святой Господи! Так речь идет об убийстве магистра ордена Сантьяго дона Фадрике и его брата дона Энрике. Как же я раньше не догадался! – воскликнул архиепископ, который подразумевал более высокую цель, и облегченно уточнил: – Так кто же все это подстроил?
– Насколько я знаю, королева Мария, донья Гиомар, некий доминиканец и еще одна-две незначительные личности, о которых я не могу вам ничего сообщить, потому что мне не дозволялось посещать встречи с ними. По полученным указаниям, моя миссия состояла в том, чтобы договориться с иноверцами, пользуясь личной защитой телохранителей султана. Мне было обещано, если Бог сохранит мне жизнь, место епископа в Сории, на моей родине, или место настоятеля какого-либо богатого монастыря в наших королевствах.
Епископ помолчал, потом, сменив хмурое выражение лица на милостивое, спросил:
– А какую роль играет в заговоре законный наследник дон Педро?
– Никакой. Поверьте мне, монсеньор. Он ни во что не посвящен. Он обожает короля и даже, кажется, чувствует привязанность к своим старшим незаконным братьям и завидует, что они могут скакать на лошадях рядом с королем.
Выдержав паузу для размышлений, иерарх продолжил допрос:
– Выходит, только королева, ясновидица и несколько неверных совершают все эти хитроумные ходы. А бывало, что вы оказывали им другие злокозненные услуги?
– Никогда, светлейший. Это случилось один-единственный раз. Дьявол помутил мой рассудок, честное слово. Не понимаю, как я мог поддаться на обман этих женщин, на их неопределенные обещания. Это мое тщеславие, соблазн дружбы с доньей Гиомар и ненависть к донье Элеоноре подвели меня, – простодушно осудил себя за прегрешения монах.
– Итак, не было иной цели, как только то, что вы мне рассказали: уничтожить сыновей-бастардов дона Альфонса, нашего господина и короля? – настойчиво повторил он.
Монах дрогнувшим голосом произнес:
– Я духовник королевы и могу поклясться на святом Евангелии. – Он взял себя в руки и продолжал: – Мое признание и раскаяние совершенно искренни, ваше преосвященство. Чтобы доказать вам это, если вы определите мне такое наказание, я готов добраться до королевского лагеря и предупредить короля и его сыновей, готов переодеться в рубище, покрыть голову пеплом и просить у них прощения. Бог видит: когда меня втянули в эту историю, я чувствовал, что она может стать причиной больших бед.
Архиепископ сурово поднял руку и возложил ее на голову съежившегося монаха, который с дрожью поглядывал на него краешком глаза.
– Достаточно моего отпущения грехов и подписи под документом. Дело закончим тем, что завтра вы тайно уедете из города. Вы сядете на судно, которое отчаливает с дневным приливом и направляется в Урдьялес [93]93
Кастро-Урдьялес – город в Кантабрии (ныне Страна Басков).
[Закрыть]. Склонитесь, падре. Отпускаю ваши грехи во имя Господа, – торжественно заключил он.
Будто погружаясь в блаженную грезу, монах закрыл глаза.
– Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti [94]94
Отпускаю грехи твои во имя Отца и Сына и Святого Духа (лат.).
[Закрыть].
Костистая рука архиепископа Санчеса прочертила в воздухе крестное знамение. Монах растроганно всхлипывал и целовал руки прелата, который уже глядел на двурушного клирика с презрительным безразличием. Он думал о том, что если все сделать половчее, то не пройдет и часа, как гонец от него отправится с подписанным документом в королевский лагерь, король будет в курсе дела и примет меры по охране дона Фадрике и дона Энрике, этого грешного, но любимого плода своих отношений с доброй доньей Элеонорой. Иерарх устал, но удовлетворенная гримаса тронула морщины на его лице.
Церковник поспешными шагами вышел из комнаты, и дворец заполнила надменная тишина.
* * *
В ту ночь удрученный брат Ламберто вернулся в свою келью только по окончании последней службы, но не стал ложиться на жесткое ложе. За весь день он не выпил ни глотка воды и не был в трапезной на общем ужине. Мучимый воспоминаниями о беседе с архиепископом, он понимал, что его прегрешение не может быть искуплено иначе, как его осуждением и казнью. Ведь он оскорбил свой орден и тем самым загубил свою карьеру в лоне святой матери Церкви. Случившаяся с ним беда состояла в том, что его использовали как разменную монету в соперничестве между бастардами и наследником трона. Стоя в одиночестве на коленях, он мысленно предавался бесстыдному разврату, представляя себя с доньей Гиомар.
Потом он открыл створку окна и долго смотрел на луну в состоянии тупого безразличия, пока взгляд его не остановился на темном силуэте, мелькнувшем на крыше. Тень тут же исчезла за ветвями, заслоняющими край здания. Это заставило монаха нахмуриться, приглядываясь. Следовало бы известить брата келаря о происходящем, потому что вряд ли можно было считать нормальными ночные хождения по крышам монастырских владений.
Но он тут же забыл о видении, приготовил кожаную походную сумку с немногочисленными личными вещами и письмо приору монастыря, в котором сообщал, что ему предстоит закончить жизнь затворником, имея тяжкий грех на своей совести. Снаружи доносился шорох кипарисов. Он стал ждать звона колоколов, погруженный в тягостную тоску. Он ни с кем не перекинулся ни словом, потому что делиться произошедшим ему было не с кем.
Наконец монастырская звонница прорезала затянувшуюся тишину, замелькали тусклые светильники, и тени монахов, выходящих из своих келий для совместной молитвы, заплясали на стенах. Отзвуки рассветного благостного пения разносились между арками, в нефах, в полукружье проходов, однако брат Ламберто оказался настолько выбит из обыденности, что не был способен воспроизвести ни одного псалма. Упадок сил, ощущение катастрофы и уныние поселились в его душе, столь же холодной, сколь и камни монастырских стен. Он решил не подниматься вместе с другими обратно в свою келью и мрачно оповестил ризничего:
– Брат, я совершу богослужение сейчас же. На день у меня много дел.
– Ваши риза и алтарь готовы с вечера, падре. Я вам помогу.
Монах переоделся в лиловое одеяние, предписывавшееся литургией Великого поста, и они с послушником в бледных утренних сумерках направились к алтарю в один из боковых приделов, где возвышалось изваяние скорбного Христа. Послушник открыл молитвенник и зажег лучинкой свечи, расставив их вокруг аналоя. В помещение едва проникал свет, и брат Ламберто, подслеповато щурясь, начал службу.
– Introito ad altare dei [95]95
Входя в алтарь Божий (лат.).
[Закрыть], – раздался его голос, резкий в пустой церкви.
– Ad Deum qui laetificat juventutem meam [96]96
Бога, что радует меня с юных лет (лат.).
[Закрыть], – откликнулся сонный прислужник.
Монах плохо видел, поэтому приподнял требник и приставил свечи ближе, чтобы яснее разбирать черные буквы «Introito». С трудом и паузами они продвигались через строки, однако послушник скоро заметил, что паузы становились все более странными. «Что это происходит с братом Ламберто?» – подумал он с беспокойством.
– Ut sanctum… Evangelium tuum… digne… valeam nuntiare [97]97
Да достойно… возвещу… святое… Евангелие твое (лат.).
[Закрыть], – запинаясь, читал брат Ламберто.
От свечей исходили белые тонкие лучики света, теряясь во мраке сводов. Неожиданно клирик начал дышать с трудом, отчаянно зевая, как будто ему не хватало воздуха. Он схватился за аналой и замолк, голова его упала на молитвенник. Потом он обернулся с совершенно искаженным от удушья лицом. Царапая руками горло, издал судорожный хриплый звук, словно ему жгло легкие, и с вытаращенными глазами рухнул на каменные плиты, голова его при этом стукнулась о пол со звуком пустой тыквы – сухо и страшно.
Послушник в смятении попытался помочь ему.
– Господи милосердный! – бормотал он. Перевернув недвижное тело монаха, послушав дыхание и пульс, он понял, что жизнь в него больше не вернется. Осматривая его язык, сухой, как пакля, он заметил на крыльях носа следы белого порошка, который, когда он приподнял тело, просыпался на сухие губы. Медленно выпрямившись, он осмотрел алтарь, пытаясь найти на ткани и ритуальных сосудах причину гибели. Внезапно наряду с масляным чадом свечей он почувствовал не только запах воска, но еще и горький пронзительный аромат, к которому он осторожно принюхался. Запах поверг его буквально в ужас.
Задыхаясь, он поспешил на поиски братьев обители; вскоре переполошившаяся толпа сновала по коридорам, ведущим к молельне. Беспорядочные огни, беготня и шиканье. Монахи обступили безжизненное тело брата Ламберто, всех сбивала с толку его пепельная бледность, будто маска комедианта. Высказывались предположения по поводу жуткой смерти, передавались из уст в уста, нешуточное беспокойство овладевало всеми.
– Это козни дьявола! – страшным бормотанием заверял настоятель своих послушников.
Приор по подсказке прислужника приблизился к почти потухшим свечам и осмотрел их. Свечи пахли только воском. Если они и содержали какой-то яд, то он уже улетучился. Было похоже, что это лишь воспаленное воображение престарелого послушника, привыкшего к частым пробам церковного вина.
– Все это никчемные сомнения, братья. Все симптомы апоплексического удара или это заворот кишок, – вынес заключение приор, и с ним согласились. – Помолимся о вечном упокоении его души.
– Misereatur tui omnipotens Deus [98]98
Да смилуется над тобой Бог всемогущий (лат.).
[Закрыть], – воззвал он. – Пусть примет Господь его в царствие небесное.
В ту ночь никто из монахов не смог заснуть; все думали о том, что Создатель не устает проявлять свое могущество, карая грешников. Брата Ламберто настигло возмездие не за скрытое попрание закона, а за позор, грозивший всему ордену.
Часть вторая
Время смерти
И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными.
Откровение, 6: 7-8
Бич Божий
Внимание Яго привлекла толпа, собравшаяся на ступенях кафедрального собора.
Женщины жестикулировали, слышались тревожные возгласы, стояла целая вереница жалобно взывающих о чем-то слепых, кто-то ругался, многие с перекошенными лицами воздевали руки к небу.
– Что тут происходит, Исаак? – оглянулся он на своего коллегу.
– Подойдем поближе, кажется, там королевские гонцы, – заволновался Исаак.
Волнение и голоса исходили от стен собора, где собравшиеся столпились возле посланцев, прибывших от осажденного Гибралтара. Их пыльные и усталые лица выражали уныние и страх. Конь под одним из них встал на дыбы и всхрапнул, когда всадник что-то сказал, и до обоих хирургов лечебницы Арагонцев дошел страшный, будто звук трубы Апокалипсиса, смысл сообщения. Сознание его не принимало, но неумолимая весть, будто разорвав душу, проникла в нее.
– В королевском лагере началась чума, сам король заболел! – такова была новость.
Трагическое известие заставило одних рвать на себе бороды, другие жалобно причитали, вскоре стенания стали слышны по всему городу, который только-только собрался широко отметить Страстную неделю. Городские общины уже воздвигли свои алтари и поставили статуи под балдахинами, чтобы славить страсти Христовы прямо на улицах, но теперь архиепископ приказал разом прекратить всякие приготовления. Апокалиптический бич настиг королевство, предчувствие неминуемой беды овладевало душами приунывших жителей.
Новость грозно катилась по Кастилии, опасавшейся за жизнь короля.
Король Альфонс, любимец народа, восстановивший мир в стране, укротивший мятежных феодалов и успешно сражавшийся с маврами, находился при смерти в своей походной палатке, став жертвой страшной болезни, от которой его армия, осаждавшая Скалу, редела на глазах. Создатель отвернулся от них из-за многих грехов, оставив беззащитными перед дьяволом, и не было другого средства, как только молиться, терпеть и покоряться горькой участи.
Через гонцов, наведывавшихся в Севилью, стало известно, что главный штаб, военачальники и их сыновья находились при короле в полном отчаянии, а врачи и хирурги безуспешно пытались противостоять чумной напасти кровопусканиями, надрезами и бальзамами. Монарх Кастилии слабел с каждым днем. Разве войско не находилось под Господней защитой, а также под покровительством таких святых, как святой Иаков, воочию узревший преображение Христа, или святой Михаил, покровитель крестоносцев? Как Господь сподобился наслать на него подобное наказание перед самым носом у осажденных иноверцев? Удрученные кастильцы не могли найти ответа на эти вопросы.
Возносили мольбы, непрерывно служили мессы, церковные и монастырские колокола непрестанно жалобно и глухо звонили, однако каждый день приносил все более мрачные вести. Яго не мог не вспомнить ужасные картины, виденные им в Провансе и Каталонии, жалея и себя, и жителей этой земли, потому что никто лучше него с Фарфаном не представлял размеров встававшей во весь рост опасности.
Так прошло несколько дней, в течение которых город погружался в пучину тревожного ожидания и страха, и вот со стороны моря вверх по течению Гвадалквивира на гребных лодках приплыла первая партия арбалетчиков, больных «генуэзской болезнью» – так моряки называли бубонную чуму; они встали у грязных причалов Оркадас, в шести лигах от города, и попросили помощи альгвасилов и лекарей из больницы Арагонцев.
Их мольбы о спасении подтвердили самые худшие прогнозы.
Около трех десятков носилок с больными, под повязками у которых скрывались гноящиеся язвы, были живым доказательством того, что эпидемия расползалась подобно дьявольской гидре. Они не были похожи на раненых или побежденных врагом воинов, раны и воспаления указывали не на их отвагу в бою в битве против кривых сабель поклонников лжепророка, а на слепое орудие самого страшного недуга, пожирателя людей, «черной смерти», бича Божьего.
– Воды! – хрипели безнадежно больные, чуя смерть. – Ради Бога, причастие!
Когда врачи из больницы Арагонцев преодолели расстояние до причалов Оркадас, им стала понятна серьезная опасность, которую представляло для городских жителей присутствие этих солдат с отчаянными воспаленными глазами, больше походивших на побитых налетчиков, чем на войско могущественного монарха. Эпидемия самая страшная, какую знал христианский мир, явилась со всей своей лютой мощью в богатый торговый центр Юга, который ждали теперь нескончаемые беды, разящий голод, горе и смерть.
Яго поднялся на одну из гребных лодок, от которой густо воняло мочой, гноящейся плотью, потом, серой и селитрой. Крысы копошились в связках канатов и прямо среди умирающих, которые в блевотине и нечистотах со стонами ожидали смерти.
– Ох, время страха и ужаса пришло на наши головы, – произнес Исаак.
– Всевышний отвернулся от нас. Болезнь эта не разбирает сословий, – вступил Церцер. – Что вам говорили салернские профессора об этой напасти?
– Ничего определенного, маэстро, – ответил Яго. – Эта pestis [99]99
Чума (лат.).
[Закрыть], как мы ее называем, пришла из Китая по Шелковому пути. Распространение ее приписывают действию какой-то газообразной массы, а еще заразным грызунам азиатских степей, сильным дождям, которые сменяют жаркое время года, и даже правлению Кубилай-хана, который с установлением pax mongolica [100]100
Монгольского мира (лат.).
[Закрыть] и идолопоклонства наладил торговлю между Востоком и Западом, а заодно и расползание эпидемий. Остальным мы обязаны, как известно, генуэзским мореплавателям, уж они наловчились распространять эпидемии. Так, им потребовалось несколько месяцев осады крепости Кафа в Готии [101]101
Средневековое название Крыма. Кафа – совр. Феодосия.
[Закрыть], чтобы впервые подхватить эту ужасную чуму, которая тогда поразила и осажденных, и самих осаждавших.
– Все это слова, друг мой, – заявил Церцер. – А я специально занимался этим типом болезней и просматривал тексты Ибн Хатиба [102]102
Ибн аль-Хатиб (1313–1374) – испано-арабский политик, историк и литератор. Автор трудов по медицине.
[Закрыть] и конечно же «Канон» Авиценны, а еще новые исследования. Все без исключения сходятся на том, что чумная болезнь происходит от разложения воздуха, которое поражает четыре сущности в теле человека. Понимаете?
– Воздуха? – удивился Яго. – И как же, по-вашему, эфирный элемент может стать причиной инфекционного процесса в теле? Это смелое утверждение, слишком смелое, мастер.
– В каком-то смысле да, уважаемый коллега. Когда гнилой воздух соприкасается с жидкостями, текущими в наших телах, поражается крайняя сущность человека, то есть его кровь, желчь превращается в черную желчь – в свою противоположность. Наступает болезнь. Очень просто.
– А почему вы думаете, что воздух может гнить? В окружающей атмосфере не заметна какая-нибудь порча. Как раз очевидна ее чистота, достаточно подышать ею.
– Да вы слушайте, что я говорю. Вы же знаете о моих наблюдениях за звездами, не так ли? – Он сделал загадочный жест рукой. – Так вот. Ровно пять лет назад, двадцать четвертого марта тысяча триста сорок пятого года при помощи моих линз и астролябий я мог наблюдать в созвездии Водолея соединение Юпитера, Сатурна и Марса, что с начала времен всегда совпадало с несчастьями и эпидемиями, опустошавшими мир. Это сочетание планет и повредило чистоту эфира, оно и вызвало пришествие чумы. Только это и ничто другое является причиной данного несчастья. Не сомневайтесь!
– Магистр, я не сомневаюсь в отношении эфира, сейчас не время предаваться спорам, но считаю, что механизм этой патологии надо искать в живых существах, которые по неизвестным нам причинам передают друг другу эту болезнь, – настаивал на своем Яго.
– Почитайте Авиценну, и вы убедитесь, сколь вы не правы, – бросил советник.
– Единственное, в чем можно быть уверенным, это в том, что эта напасть находится прямо перед нами. – Яго указал на больных. – Да хранит нас Бог.
Ректор Сандоваль, неспособный продемонстрировать хоть какие-либо медицинские познания, убеждал капитанов галер и альгвасилов держать больных в строгом карантине, не пускать к ним родных, которые уже просили перевезти заболевших в город, чтобы лечить их язвы или же похоронить.
– Настоящее проклятие Бога сказалось на этих несчастных, – тихо говорил дон Николас в кругу медиков. – Медицина мало может противопоставить каре за людские грехи. Тем не менее мы будем делать кровопускания и смачивать язвы шалфеем, однако никто с этих лодок не должен сойти на землю, вы отвечаете за это перед законом – под страхом виселицы.
– Вот видите, – сказал Церцер, снова обращаясь к Яго. – Вы считаете, что зараза передается с помощью живых существ, я вижу причину в небесных сферах, а наш декан, напротив, утверждает, что болезнь является следствием гнева Создателя. И мы еще будем кичиться нашей наукой?
Чумных арбалетчиков в камзолах, пропитанных потом, била дрожь и мучила жажда, они лежали между снастей, над ними роились мухи. Яго убедился, что у всех жар и воспалены железы под мышками и в паху, многих тошнило, отчего на палубе стояла дикая вонь, большинство молило о смерти, задыхаясь и харкая кровью прямо на месте – у них недоставало сил вставать к умывальным тазам. У многих кожа прорывалась кратерами потрескавшихся темных прыщей – признак близкой мучительной и неминуемой смерти. Сандоваль приказал зажечь сандаловые благовония и начать отпевание умерших.
Яго прикрыл нос и рот платком, на руки надел фетровые перчатки, методично обошел самых тяжелых больных, вскрывая им гнойники, всем давая снадобье, составленное им здесь же из армянского шалфея, лекарственной кашки и некоторых других компонентов, которое больные пили с жадностью в надежде на чудесное спасение. На берегу появились костры, в которых сжигали одежду, тюфяки и перевязочные материалы, а также была вырыта яма, в которой похоронили первых умерших. Яго хотел как можно раньше вернуться в город, чтобы предупредить друзей, в первую очередь Субаиду, Фарфана и Ортегилью, и даже посоветовать им покинуть город, поскольку понимал, что медицина здесь бессильна, а перспективы начинающегося бедствия непредсказуемы.
– Всего за неделю их тела превратились в гниющее месиво. Настолько ужасны проявления этой дьявольской болезни? – спросил Исаак.
– Друг мой, через несколько дней мы увидим здесь настоящий ад, – ответил Яго. – Чума пройдет по всей стране как Господь посреди Египта, поражая всякого первенца в земле Египетской. Чумное дыхание проникнет под двери, перекинется через стены, отравит самые укромные источники, им будет насыщен воздух и сущности людей по капризу провидения. Ты, кто-то другой, я – все мы можем попасть под эту косу.
Густые клубы дыма поднимались в ясное небо, грозная новость о приходе эпидемии распространилась мгновенно, паника овладела городом, его ворота закрылись для всех, кто мог явиться сюда извне. За неделю до Пасхи, в праздник Входа Господа в Иерусалим, все замерло в ожидании, отовсюду слышались лишь жалобные стенания:
– Чума отравляет воздух Севильи! Костлявая завладеет нашими телами на потребу червям! Смилуйся над нами, Господи!
* * *
Охваченные горьким предчувствием, словно яд тысяч змей уже растекся по колодцам и ручьям, горожане все-таки надеялись, что несчастье пройдет мимо, однако неделю спустя, заскрипев, открылась калитка в воротах Ареналя, привлекая внимание испуганных жителей по соседству, которые жгли шалфей и розмарин перед своими дверьми. Из калитки возник гонец, раздались сигналы трубы и барабана. Его сопровождал копьеносец. Они преодолели расстояние от Гибралтарского лагеря до Севильи, чтобы донести краткую и катастрофическую новость. Народ высыпал на улицу и, онемев, слушал известие о несчастье, болью отозвавшемся в сердцах: «Король Альфонс Одиннадцатый умер. В Святую пятницу он предстал перед Божьим судом. Его не сломили ни назарийцы, ни враги Христовы, сломила „черная смерть“. Молитесь за упокой его души».