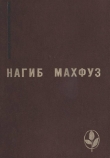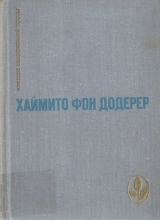
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Хаймито Додерер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 48 страниц)
В последующие дни Брандтер спал неспокойно и с рассветом обычно был уже у себя в мастерской. Прошла, наверное, неделя со дня его поездки в Юденбург, и вот однажды, поднявшись особенно рано – звезды только начинали меркнуть, а на реке еще лежал туман, – он вышел во двор, чтобы дождаться рассвета. Очертания горы напротив, такие привычные при свете дня, сейчас пока не родились, не определились, а едва слышный равномерный шум реки, протекавшей в каких-нибудь полутораста шагах от дома, делал тишину еще ощутимей. Брандтер, сидя на лавке перед домом, пил подслащенное молоко, которое каждое утро стояло для него наготове в теплом устье печи, и закусывал свежим белым хлебом. Легкие нарушения безмолвия, при этом производимые – например, тихое дребезжание кружки и тарелки, когда он ставил их на лавку, – сразу же поглощались огромным запасом тишины, накопившимся за ночь, и эти только что нанесенные крошечные ранки на девственном теле занимавшегося утра тотчас затягивались снова. Утро же нежно и властно окутывало одинокого человека, будто незримое толстое одеяло.
На востоке зажегся первый бледный луч. Дальние Козьи хребты придвинулись чуть ближе и обрисовались на фоне неба. С проселочной дороги, бежавшей вдоль реки, отдаленно донеслось неторопливое цоканье лошадиных копыт и громыхание колес. Брандтер повернул голову на эти звуки. Вскоре стала видна и повозка, крестьянская телега, на которую – это при все уменьшавшемся расстоянии отчетливо увидел Брандтер – хозяин взвалил другую, должно быть поломанную, повозку – высокую двухколесную тележку, не слишком обычный и употребительный экипаж; одно колесо его, очевидно, было вконец сломано. Брандтер, наблюдавший это явление в сумерках рассвета, на миг мрачно сдвинул брови. Вообще-то его удивило, что в такую рань к нему явился клиент, ведь эту повозку, скорее всего, везли к нему, чтобы он ее починил. Крестьянин ехал неспешной рысью и уже приближался к тому месту, где ему надо было свернуть с дороги в боковую колею, подводившую к мастерской каретника – путь к ней указывал знак при дороге (колесо на шесте).
Но крестьянин и не думал сворачивать, его лошадь продолжала трусить дальше мимо Брандтера и тащила свой громыхающий груз по дороге к Юденбургу. И тут зоркий глаз Брандтера разглядел хозяина телеги: это был один из двоих унцмарктских крестьян, сидевших на постоялом дворе за соседним столом.
Брандтер, поднявшийся было, чтобы встретить гостя, застыл на месте и осенил себя крестным знамением. Теперь только он понял, что все это означает. Итак, отныне местные крестьяне снова будут ездить в Юденбург к каретнику, как ездили прежде, до того, как он здесь поселился. Он, конечно, знал почему. Сквозь зубы Брандтер послал проклятья болтливым и несдержанным во хмелю товарищам.
Но это было еще полбеды. Несколько дней спустя, войдя в горницу по окончании трудового дня, он увидел, что жена сидит заплаканная и, как никогда, обозленная на него. Она не желала ничего говорить. Где она была? У лавочницы, выдавила она и снова начала всхлипывать. Тут он обо всем догадался и без обиняков сказал ей, в чем дело. Она расплакалась страшно и неудержимо и, рыдая навзрыд, время от времени выкрикивала отдельные слова, вроде: «мерзкие болтуны», «какой позор для нас!» и «я сказала, что это все неправда».
– Зачем ты это сказала?! – резко спросил Брандтер.
– Затем… затем, что это позор… мои родители… О, что я наделала!
– Я тебя не неволил! – сказал Брандтер и, выйдя из горницы, так хлопнул дверью, что посыпалась известка.
В сенях он сразу остановился и застыл в оцепенении, глубоко потрясенный собственной несправедливостью и вместе с тем в неистовом отчаянии от своего положения. Значит, впредь он должен жить, будто привязанный к позорному столбу? Не о своем добром имени думал он и не о глупых людях там, в деревне, с их пересудами. Пусть их судачат. Но вот Ханна… Как быть с нею? Он возвратился в горницу и попросил у жены прощения.
Однако при всем том не следует думать, что Брандтер оглядывался на свою прежнюю жизнь с чувством вины и раскаяния. Его боязливо-достойное поведение, к которому он возвратился тотчас же после единственного своего срыва, можно было бы скорее уподобить поведению узника в тюрьме, который никогда не меряет шагами свою камеру из конца в конец, намеренно никогда не пользуется всем ее пространством, ибо все-таки менее тягостно остановиться по собственной воле, нежели натолкнуться на дверь, запертую замком и задвижкой, или на непреодолимую стену. Но вот теперь, именно в эти дни, наш Брандтер, можно сказать, натолкнулся на стену, и от удара голова у него гудела. В дальнейшем он еще меньше расположен был хоть в чем-то прекословить жене. Он весь ушел в себя, да, похоже, он напряженно размышлял.
9Дорожный экипаж, запряженный четверкой, приближался с запада к городу, и вот меж зелеными холмами показались его передовые укрепления и предместья; еще дальше взгляду открылись желто-серые выступы звездообразных бастионов, а за ними, тая в голубой дымке, бурое море крыш – ядро города, над которым там и сям вздымались церковные башни, выше всех – тонкий шпиль собора св. Стефана, поражавший издали своей новизной, будто поднялся он только сейчас.
На карете красовался герб графини Парч. Спереди и сзади сидели ливрейные слуги, впереди скакали верховые, правда, в одежде других цветов, и один вел в поводу свободную лошадь: это были люди маркиза де Кауры, который впекал навстречу своей старинной приятельнице и ожидал ее в Хадерсдорфе.
Теперь графиня и маркиз сидели в глубине кареты, в то время как баронесса фон Доксат, пользовавшаяся экипажем графини, покойно возлежала на мягкой передней скамье, подпираемая подушками и закутанная в китайскую шелковую шаль такой непомерной ширины, что маленькая старая дама совершенно утопала в ее волнах.
С удовольствием предвкушая окончание путешествия, графиня сегодня была особенно бойка на язык и вовсю тараторила по-французски, хотя надо сказать, что самая тема разговора особого удовольствия ей не доставляла. После того как маркиз еще раз устно пересказал ей все подробности последних событий, давно уже известные ей из писем, она разразилась горестными жалобами на пренебрежение, выказанное молодым фрейлинам двора в связи с готовящимся представлением балета. Особливо же ее племяннице фройляйн фон Лекорд. Последняя еще в феврале при первой пробе всего порядка музыки и танцев, имевшей место в самом узком кругу, в присутствии их величеств, исполняла в первом из двух стихотворений, что должны быть представлены с помощью придворного музикуса, главную роль – роль Дафны. При этом не только сведущие в деле итальянцы – в их числе Бенедетто Феррари, сочинивший текст к «L'inganno d'amore» [81]81
«Любовный обман» (итал.).
[Закрыть], той самой пиесе, что с музыкой Антонио Бертали снискала такой успех в дни Регенсбургского сейма! – не только эти итальянцы восторженно рукоплескали ей, но также их величества государь и государыня выразили полнейшее свое одобрение. И вот извольте, сетовала графиня, на ее место является вдруг какая-то окаянная деревенская девка, gosse Hiaudite. Сама она, конечно, этой особы не знает, но ежели, как утверждает маркиз, это та самая, что осенью на приеме у княгини Ц. высказывалась столь неделикатным образом, то можно друг друга поздравить! Кстати сказать, все эти Рандеги вкупе не кто иные, как мужики сиволапые, равно как и прочие в том же роде, кого сейчас столь ласкают в Вене, подумать только, ихние нескладехи – и что они такого из себя представляют, коровницы, птичницы, и все тут – уже приглашаются исполнять придворный балет; это будет поистине коровий балет! Entre nous soit dit [82]82
Между нами говоря (франц.).
[Закрыть]. Но этого еще мало, ей, графине Парч, надлежит вдобавок весь этот придворный коровник опекать и наставлять. Их императорские величества почли за настоятельную необходимость не менее трех раз изъявить ей через посредство своего посла в Париже их высочайшую волю и особо подчеркнуть, чтобы она не преминула своевременно прибыть в Вену. Ее зять (он-то и был послом) доверительно показал ей секретный циркуляр венской придворной канцелярии, содержавший сие указание, причем на весьма видном месте.
– Эдакая скотина, является себе в Вену, а от самой еще несет навозной кучей. И кто же из петухов, по-вашему, на этой куче кукарекает первым? Граф Куандиас.
– Слабость графа к женщинам низкого состояния, особая его к ним приверженность хорошо известны, – заявил маркиз, заталкивая пальцем в нос очередную понюшку, чего графиня решительно не терпела, как и его привычку к нюханью табака вообще, однако на сей раз она от души рассмеялась.
– Чему он недавно, как вы мне сказывали, новое дал подтверждение!
Однако когда Каура принялся обрабатывать вторую ноздрю, она все же рассердилась и со злостью сказала:
– Между прочим, вам, маркиз, следовало бы сейчас потереться при дворе, да вашем месте я бы присмотрелась ко всему этому поближе – к танцам и прочему, – быть может, вы подцепите одну из этих фаршированных гусынь, ведь чего-чего, а жиру у этих деревенских хватает. Богатые они, выражаясь вульгарно. А вы теперь, сдается мне, в самой поре.
Похоже было, что ей удалось задеть его за живое, потому что этот изрядно потасканный старый холостяк скривил свое длинное худое лицо и тяжело, часто задышал; понюшкам, однако, это как будто не повредило: Каура вдруг оглушительно чихнул, что вообще привычным нюхателям табака не свойственно. Сидевшая напротив баронесса Доксат вскрикнула и, спасаясь от фонтана брызг, вся ушла под свой желтый шелк. Вновь обретя дыхание, маркиз помышлял о мести и немедля уязвил графиню в самое слабое место, а именно в ее трусливое сердце.
– Как долго намерены вы, графиня, пребывать в Вене?
– Около шести недель. Так я, во всяком случае, уведомила свою сестру, госпожу фон Лекорд, в чьем доме мне сызнова приготовлены те же апартаменты, что и осенью.
– Придется, как видно, пробыть подольше, – заметил маркиз.
– Почему вы так думаете? – в удивлении спросила графиня.
– Из-за крестьян, – смакуя свою месть, произнес Каура. – От обратной поездки вам придется отказаться. И нынешнее ваше путешествие было, наверное, небезопасно, о чем вы и не подозревали. Но может статься, что через месяц вся страна придет в смятение. Поговаривают, будто в Вене некоторым войсковым частям дан приказ быть наготове, в том числе и полку Кольтуцци. Так что наш граф, говоря между прочим, может не сегодня-завтра откукарекаться.
Он умолк, с удовлетворением наблюдая, что пилюля оказала свое действие: графиня Парч на миг побледнела. Однако она, казалось, быстро почуяла, что маркиз, пользуясь одним из имевших хождение слухов, только тешит свою злобу, а потому обрушилась на него:
– Вы тут в Вене с вашими вечными крестьянами! Да, да, крестьяне подступили к Вене, верно, только не с дубьем, а с бабьем, и это бабье даже танцует на придворном театре балет! Хоть таким манером их, может быть, приметят! Экий вздор! Сперва сказывали, будто беспорядки творятся в одной только Штирии, теперь же вы говорите и о других землях. Через Штирию-то я не ехала! Пустая болтовня! К тому же меня известили, что в Штирии ни одна собака еще не взлаяла. Меня вам не запугать.
Маркиз молчал. Но ему досталось еще пуще. К преужаснейшей его досаде, графиня села на любимого конька – свои ученые штудии – и с чрезвычайной горячностью стала говорить о Кирхере, государевом наставнике, который и ее тоже издавна наставляет в науках – сии наставления и суть самая истинная и самая заветная цель ее поездок в Вену!
– Какой несравненный муж! – воскликнула она и набрала в грудь побольше воздуха, дабы во время дальнейшей тирады не задохнуться в тисках корсета. (Как раз в ту минуту баронесса фон Доксат, задремавшая под своей желтой шалью, неприлично и отнюдь не тихо захрапела.) – Какой несравненный муж! Денно и нощно прилежа своим штудиям, он, как видно, исполнен решимости ничего не упустить из того, что имеется на круге земном, будь то свободные искусства, будь то естественные науки, будь то познания о ближних и дальних странах, – не упустить, дабы в строгом порядке и с должными пояснениями представить все это нам, жалким смертным, в своем музее, этом истинном давиле виноградника муз! Сколь отрадна мне надежда удостоиться вскорости лицезрения сего досточтимого наставника его величества императора римского и – говорю это с гордостью – также и моей ничтожной особы. При этом какая детски наивная душа! В предпоследнем письме ко мне он выражает величайшую свою радость от того, что некий господин высокого звания, исполненный рвения к наукам, посетил его дом и долго у него пробыл: кто же, по-вашему, маркиз, был человек, сумевший внушить моему учителю столь доброе opinio [83]83
Мнение (лат.).
[Закрыть]о себе? Наш граф Мануэль, наш петух, кукарекающий на штирийской навозной куче! Quel betise [84]84
Что за глупость (франц.).
[Закрыть], ведь каприз сего молодого человека не что иное, как баловство – пустая шалость. После упомянутых коровниц решил он разнообразия ради припасть к источнику муз! Однако благородная невинность сего высокого ума находит в том радость, мысля о каждом из нас неизменно лишь самое доброе, лелея каждое растеньице, как подающее надежду. Он писал ко мне, сей почитания достойный муж, что раздобыл для меня книгу, которая ныне ожидает моего внимания у него в музее. Это книга о моей родине, о прежнем моем отечестве: о Гельвеции, о Швейцарии! Титул ее: «Mirabilia Helvetiae» – «Достопримечательности и чудеса Швейцарии»…
Терпение маркиза готово было иссякнуть.
Графиня так высоко взобралась на Парнас, что могла уже впить в себя достаточно горного воздуха для фразы вроде нижеследующей:
– Лишь благородные устремления наук и искусств вызывают у жизни, нас окружающей, через нас самих неизменно звучный отклик, и лишь тот, кто живет в мире Аполлона, лишь тот остается поистине молодым, я это испытала на себе…
Каура кашлянул: «Гм, гм».
Графиня собиралась уже спросить его: «Какого это рожна вы кашляете?» но тут послышался частый стук копыт мчавшихся галопом лошадей: ливрейный лакей Кауры, будучи послан верхом в город, возвращался теперь в сопровождении также верхового слуги Лекордов, дабы предуведомить графиню, что ее ожидают сестра, племянница, ванна и трапеза.
* * *
Балет при дворе давался, как и было определено заранее, в следующую среду. Поскольку погода держалась неизменно теплая и ясная, то под открытым небом, на площади, замкнутой зданием императорского дворца, была сооружена более чем просторная сцена со всеми необходимыми аксессуарами: гротами, беседками и превосходно удавшимся изображением поросшего тростником берега Пенея, который во второй части представления благодаря открывающемуся в глубине виду пирамид легко превращался в Нил. Гидравлические устройства для двух этих классических рек были многократно опробованы, равно как и машина, долженствовавшая спустить с неба Гермеса или Меркурия для нападения его на стоокого Аргуса. Итальянские живописцы и архитекторы после повторной придирчивой проверки всего в целом объявили, что сцена окончательно готова. Все устройства для освещения и всевозможной игры света накануне вечером, то есть во вторник, также были подвергнуты проверке и достойно выдержали испытание.
С наступлением темноты вся кишащая людьми площадь превратилась в глубокую яму, мерцающую огоньками – скрытые под виноградными гроздьями и гирляндами, повсюду на шнурах развешены были канделябры. Только сцена была погружена во тьму и частью затянута занавесом. С расположенного напротив нее еще пустого и темного балкона ниспадали тяжелые ковры с вензелем императора. Вся остальная публика была уже в сборе. В ярко освещенных окнах слева и справа от балкона, служивших в этот вечер ложами иностранным князьям, дворянам и послам, виднелось множество голов, которые то наклонялись одна к другой, то оборачивались назад, в глубину комнаты; сидевшие там переговаривались с гостями, которые только еще входили и рассаживались. Многие из присутствующих рассуждали о том, что по воле императрицы, обнародованной лишь в последнее время, к исполнению балетов, которые им предстоит увидеть, ни в коем случае не будут допущены мужчины, и даже языческих богов, как Юпитер и Меркурий, станут представлять единственно дамы, избранные для того ее величеством. Особенное любопытство вызывала фигура Меркурия по той причине, что он должен летать. Жалели остальных исполнительниц мужских ролей, прежде всего тех, которым надо выступать с бородой, – ведь все же это придворные дамы! Часто назывались имена обеих исполнительниц главных ролей, фройляйн фон Рандег, изображавшей в первом балете Дафну, и другой сельской барышни, той, что во втором играла Ио, – почти в каждой группе зрителей имена эти раз-другой да звучали. Однако ни родители, ни прочие родичи этих двух девиц ко двору приглашены не были.
Театр, потолком которому в данном случае служило высокое звездное небо, гудел как улей; масса шумевших, вертевшихся и почти невидимых зрителей казалась во тьме еще многочисленней, чем была на самом деле – на самом деле в театре присутствовало не более трехсот человек! Внезапно часть этого зала-двора озарилась светом: на балконе для высочайших особ, а также в прилегавших к нему покоях зажглось множество канделябров и ламп. Как только публика это заметила, гул голосов стал стихать и понемногу смолк совсем. В наступившей тишине крепкие запахи щедро излитых духов и эссенций ощущались почему-то сильнее, чем прежде, пока царил общий шум, но казалось, что и эти благоухания, приглушенные, подобно голосам, недвижно висели в застойном, безветренном воздухе.
Прошло довольно много времени – жужжание голосов меж тем ничуть не усилилось, – и внезапно, словно по какому-то мгновенно переданному знаку, воцарилось совершеннейшее безмолвие. Вся площадь и здания вокруг нее с ярко освещенными окнами и множеством голов – все застыло в мертвенной неподвижности. Живыми оставались только огни.
Эту зияющую пустоту со звонкой силой прорезал четырехголосный клич фанфар.
Как раз в эту минуту на балкон вступили их величества – император об руку со своей молодой еще супругой-мантуанкой, а позади них на миг показался явившийся вместе с ними эрцгерцог Леопольд… Следом за императором незамедлительно заняли места и все другие лица, вышедшие на балкон.
В публике никто не шелохнулся, ни один лорнет не был поднесен к глазам.
Вдруг мелькнуло что-то белое – перчатка. Знак к началу. По второму сигналу фанфар заиграл скрытый от зрителя оркестр, и в тот же миг открывшаяся сцена благодаря молниеносно и ловко повернутым и поднятым светильникам превратилась в пестрое море огня.
* * *
Еще мечет копье свое в зверя могучая дева, кудри ее – золотистое пламя, прельстительной силы которого она не ведает, – только мешают ей при броске, и потому она по-девичьи схватила их тесьмой; но вот в перекрестье множества лучей, сверкая, как алмаз, появляется на вершине скалы ужаснейший из богов; насмешками Аполлона побужденный применить всю свою силу, он поднимает маленький лук, на розовом бедре у него висит колчанчик со стрелами.
Он поражает стрелою Феба, и рана сердца горит, не заживая.
Он поражает и охотницу, но иной, затупленной стрелой, чтобы ее сердце, еще не раскрывшееся, как свернутый в почке лист, дремало и впредь, не зная пробужденья.
Даже пылкая страсть бога бессильна против этого маленького твердого камня, похожего на сжатый детский кулачок.
Куда бы он ни ступил, этот жестоко страждущий бог, везде повергает он мирозданье в хаос, в муки собственного сердца: огнем полыхают гроты, ярко освещая зелень лесов, под его стопами пылает земля.
Таким его видит Дафна, и она бежит, объятая ужасом, не замечая его красоты, видя лишь хмурые тучи, всеобщее смятение, которое представляется ей тяжкой его виной; ибо вся природа вокруг возмущена. Стройные ноги мчат ее прочь с быстротою ветра, легко, словно серна, прыгает она вниз с шестифутовой скалы, словно серна, гонимая свирепыми псами:
Но она еще раз ускользает от него, и Феб в страхе за деву, которую его пылкое преследование толкнуло на такой гибельный бег по камням и скалам, на время перестает бежать за ней следом. Протянув руки в страстной мольбе, стоит он под старыми деревьями, у входа в беседку, манящую цветным огнем, подле каменной скамьи, она же, трогательно поникнув от изнеможения, как повисшая ветвь, бредет по широкой дороге, будто едва касаясь ногами светлого гравия, да, она отваживается даже пройти невдалеке от Аполлона, и ее предостерегающе поднятые руки на сей раз приковывают его к месту.
Но вот, оттого что она продолжает удаляться, нить влечения натягивается, снова трепеща от биения сердца бога, боящегося невозвратимой утраты, и небожитель опять бросается за нимфой.
Только один раз еще, вихрю подобно, мчат ее стройные ноги. Теперь же, когда она достигла берега Пенея, бегство окончено, и вся она стремится ввысь, в позе молящей, с поднятыми руками и воздетыми вверх ладонями; да, кажется, будто бегство было серебряной лестницей звуков, а ее нынешняя поза – это самый высокий тон. Речной бог слышит ее, он исполняет просьбу в музыке нарастает звенящее тремоло, подобное шелесту леса, – свершается вымоленное ею превращение:
Ножная девичья грудь корой украшается тонкой,
Волосы в зелень листвы превращаются, руки же в ветви;
Резвая раньше нога становится медленным корнем,
Скрыто листвою лицо, красота лишь одна остается.
И пока Аполлон еще страстно обнимает деву-древо, на глазах у всех, в потоке зеленого света, завершается чудо превращения: дерево поднимается из земли, поглощает члены тела, охватывает голову. А теперь, радушно принимая в свой круг новоявленную сестру, – Аполлон тем временем обламывает лавровую ветвь от кроны Дафны и, вознося ей хвалы, поднимает вверх – все деревья рощи превращаются в прелестных нимф, обитающих каждая в своем стволе, как его душа, и в хороводе плавно кружатся вокруг заливаемой потоками света и столь неравной теперь пары.
* * *
В полной тишине, отчасти вызванной искренней взволнованностью, с императорского балкона раздались одинокие, но громкие рукоплескания; они развязали бурю.
Мануэль пытался выбраться из толпы. На свое счастье (как он полагал), он обнаружил в незапертой соседней комнате на огромном бюро, принадлежавшем, должно быть, одному из чиновников придворной канцелярии, письменный прибор и стопку бумаги. Выразив в нескольких торопливо набросанных французских фразах свое восхищение, он подписался просто: Мануэль. Нашелся и лакей, которому были вручены золотая монета и сложенная в несколько раз записка.
Писание этой записки и поиски подходящего для передачи слуги заняли некоторое время, вот почему Мануэль, возвратясь на свое место у окна, застал второй балет, который начался почтя сразу же после первого, уже в полном разгаре. Ио давно была превращена в телку и подарена Юноне, которая, приставив к ней стражем мерзкого Аргуса и покамест довольная, вновь поднялась на высоты Олимпа.
Этот Аргус, восседавший ныне на скалистом утесе, был истинным кунстштюком хитроумного итальянца: более чем сто ярко освещенных глаз гигантской головы не смыкались ни на миг – когда закрывался один, рядом раскрывался другой, сверкая попеременно красноватым и зеленоватым светом. Меж тем бедная телка своим жалостным мычанием и неуклюжими прыжками вызвала – что и ставилось целью – веселье публики. Но сценические устройства придавали представлению такую естественность, что в сцене, когда Инах узнает свою дочь, столь постыдно превращенную в скотину, узнает, читая буквы, которые она копытом чертит на песке, и в новом зверином обличье вновь обнимает ту, которую уже считал потерянной, публика опять была искренне растрогана.
Но вот, с необыкновенной легкостью спорхнув с высоты примерно четвертого этажа, появляется Меркурий. (Одна из молодых провинциальных барышень сразу же охотно вызвалась исполнять эту роль, не побоявшись в такой мере довериться театральной машинерии.) Он опускается на утес рядом с многооким чудовищем. И пока оркестр во множестве вариаций сопровождает и развивает усыпляющую мелодию его флейты-сиринги, в другом углу обширной сцены представляют – для того опять должен был служить все тот же Пеней, хотя поэт имел в виду совсем другую классическую реку, – историю сотворения пастушеской свирели Паном, которого нимфа однажды тоже оставила с носом, после чего опечаленный бог соорудил себе из тростинок инструмент и стал утешаться игрою. Этим рассказом хитрый Меркурий пытается усыпить неумолимого и многоокого стража Аргуса. Благодаря этому молодая дама, изображавшая наверху Меркурия, могла, по видимости играя на флейте – на самом деле, разумеется, играл музыкант в оркестре, – наивыгоднейшим образом показать свое актерское искусство, выразительными жестами она как бы рассказывала Аргусу обо всем, что происходило тем временем на берегу Пенея.
Умерщвление Аргуса Меркурием с помощью серповидного меча – при этом с утеса лилось столько крови, сколько может вместить в себя изрядная винная бочка, – произвело в публике сильнейший эффект. Когда же наконец телица, на которую Юнона наслала безумие, громко мыча, обошла весь круг земной, покамест не достигла Нила (освещенного теперь во всей своей перспективе), где «согнула колена у брега… и улеглась, запрокинув упругую выю»; когда наконец Юнона со своей высоты подала знак к прощению, то зрители с большим нетерпением воззрились на сцену, ожидая обратного превращения этого милого животного в еще более милую деву, какую они видели в начале пиесы:
И лишь смягчилась она, та прежний свой вид принимает,
И пропадают рога, и кружок уменьшается глаза,
Снова сжимается рот, возвращаются плечи и руки,
И исчезает, на пять ногтей разделившись, копыто.
В ней ничего уже нет от коровы, – одна белизна лишь.
В этом образе она под конец и явилась, после того как ловко скинула с себя одну за другой звериные шкуры, становившиеся все тоньше и тоньше, и одновременно понемногу распрямляясь (в этот костюм, похожий на легко отпадающие шкурки луковицы, актрису облачили за сценой в то время, когда публика напряженно следила за Меркурием). Самыми последними опали уже только прозрачные покрывала, и хорошенькая, чуть полноватая девушка стояла теперь на берегу Нила почти без одежд, вместо платья окутанная высочайшими и всеобщими громовыми аплодисментами, каковые в этот миг были наверняка ей дороже самого роскошного наряда.
* * *
В просторной, но низкой зале, находившейся на той стороне образованного дворцовыми зданиями четырехугольника, к которой непосредственно примыкала сцена, устроены были уборные для юных дам. В большом помещении, где от множества горящих свечей воздух слишком нагрелся и был наполнен запахами пудры, румян, пахучих эссенций и свежими, крепкими испарениями молодых женских тел, звенело неумолчное щебетание и чириканье, и попеременно то в одном, то в другом углу начиналась возня и беготня – это означало, что кому-то надо своевременно подготовиться к новому выходу на сцену. Во всю длину залы на равном расстоянии один от другого расставлены были туалетные столики, для каждой девушки – особый, противоположная же стена почти сплошь скрыта была большими, плотно сдвинутыми венецианскими зеркалами. Но при более внимательном рассмотрении можно было заметить, что длинный ряд столиков в одном месте, хотя и не точно посередине зала, прерывался, так образовались словно бы две группы: эту милость испросили себе молодые фрейлины, чтобы пребывать хотя бы на некотором расстоянии от «коровника» и оставаться в своем кругу.
В «коровнике», отправляя свою пастушескую должность, полновластно распоряжалась графиня Парч – отделившиеся фрейлины называли ее «обер-швейцарихой», – которой помогала, иногда даже замещая ее, приставленная к ней пожилая придворная дама. Графиня дирижировала как молодыми дамами, так и отрядом портных и камеристок, непрестанно метавшихся по зале, потому что их звали по меньшей мере в пять мест разом, и они, бросаясь туда-сюда, то стоя на коленях, то присев на корточки или приподнявшись на цыпочки, перед каждым выходом на сцену той или иной богини или нимфы что-то подправляли и подравнивали, одной двумя-тремя стежками суживали слишком широкое, другой, наоборот, распускали слишком тесное одеяние, приглядывались, примеривались, совещались, и лица их при этом выражали напряженнейшую озабоченность, а во рту неизменно зажаты были булавки.
Во время короткого антракта после представления «Дафны» графиню позвали наверх к императрице Элеоноре, и та в самых любезных выражениях поблагодарила ее за труд и заставила даже на несколько минут присесть подле нее на балконе, когда уже начали второй балет – этому отличию, замеченному всеми, «швейцариха» несказанно обрадовалась. Графиня испросила у ее величества дозволения через некоторое время незаметным образом удалиться, ибо перед сценой, представляющей изобретение сиринги лесным богом Паном, а также рассказ Меркурия, ей необходимо еще раз подвергнуть осмотру юных дам, ведь они выходят все вместе, так как переживаниям Пана ритмически и мимически аккомпанирует на втором плане хоровод нимф; почетная задача возглавить сей хоровод выпала ее племяннице фройляйн фон Лекорд.
Императрица милостиво улыбнулась, отпустила графине Парч еще несколько поистине очаровательных комплиментов насчет только что упомянутой юной дамы, а под конец заметила, что графиня может еще немного посидеть с нею, дабы тоже насладиться прелестным балетом, хотя бы его фрагментом, ведь своим успехом он во многом обязан ей, к тому же нет сомнений, что там, внизу, в уборной, ее, графини, усилиями налажен уже такой безупречный порядок, что она без раздумий может ненадолго передоверить все дело заменяющей ее придворной даме. Если же чуть погодя она все-таки пожелает сойти вниз, чтобы оказаться там вовремя, то пусть légeremènt [86]86
Легко, тихо (франц.).
[Закрыть]поднимется с места, когда сочтет это необходимым.
Так что графиня Парч, посидев несколько минут на балконе и посмаковав свой триумф, тихо поднялась, из-за тесноты в ложе не без труда сделала реверанс, коего не делать было никак невозможно, и наконец-то появилась внизу, где приготовления к балетному аккомпанементу приключениям Пана шли уже полным ходом. Все без изъятия молодые дамы были в сильнейшем волнении, добрая их половина бегали полунагие туда-сюда, а щебет и чириканье достигли своей вершины.
Однако спустя четверть часа зала совершенно опустела, исчезли и портнихи, которым придворный лакей отечески дал понять, что в коридорах для них приготовлены вино и сладости.