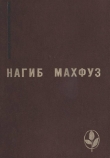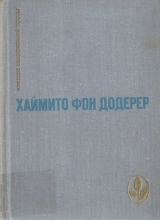
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Хаймито Додерер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 48 страниц)
* * *
Встретив по дороге домой гимназистов, Дональд в тот день не пошел больше на завод и только один раз поговорил по телефону с Хвостиком. За едой он сумел, ни слова не сказав, так перепугать толстяка Августа, что тот выскочил из-за стола при первой же возможности.
На этот раз, как и всегда, Дональд после обеда растянулся на диване в слабой надежде заснуть. И ему это удалось, хотя всего на несколько минут. Во сне ему померещилось, что его маленькая школьная парта из Бриндли-Холла стоит рядом с диваном. Он вскочил и вышел на галерею. Напротив была комната отца. Внезапно на него пахнуло прелестью обоих этих домов, окруженных парками, как в Бриндли-Холле, так и здесь, на Принценалле. Суровый и чистый запах кожи, исходивший от многочисленных кресел в холле, чувствовался и здесь, наверху, он заполнял собою тишину и застоявшийся воздух. Но Дональд был отлучен от того и другого страхом и досадой. А это не давало ему наслаждаться одиночеством. Сегодня на улице гимназисты играли с ним как с мячиком, во всяком случае, он так это воспринял. Ему казалось, что Август стоит во главе направленного против него заговора этих бездельников. Право же, они зашли слишком далеко! Надо было отойти от них, отступить в эти холодно-сдержанные, заботливо ухоженные дома, а не стоять на улице с гимназистами. Они ожесточили Дональда, Август со своими дружками.
Дональд прошел в свою комнату и немного привел себя в порядок. Из холла он поговорил по телефону с Хвостиком. Потом позвонил в издательство на Грабене, тщетно. На Аухофштрассе никто не снял трубки. И он ушел из дому с намерением сбежать. Ему хотелось сейчас отыскать часть города, в которой он еще никогда не бывал. Отыскать в одиночку, без машины, без шофера.
* * *
Кабачок Марии Грюндлинг за Мацляйнсдорфской церковью был странным заведением и являл собою резкий контраст с другими венскими заведениями такого же рода, как тогдашними, так и нынешними; вообще-то национальный характер за пятьдесят лет существенно не меняется. А возможно, и вовсе не меняется. Но здесь о венской манере обслуживать гостей не могло быть и речи. Иной раз гостя выставляли за дверь, прежде чем он успевал занять место за столиком, а в ответ на заказ кружки пива объемистая хозяйка грубо предлагала посетителю позаботиться о себе где-нибудь в другом месте, ее-де уже клонит ко сну.
И все же две тесные комнаты всегда были полны народа, хотя случалось, что хозяйка всех выдворяла из помещения или же кому-нибудь одному грубо отказывала в том, чего он просил вежливейшим образом, в какой-нибудь ерунде – в порции ветчины или колбасы, и речь шла лишь о том, чтобы принести это из буфета. Но и в этом ему отказывали, и гостям нередко приходилось здесь самим обслуживать себя или своих приятелей, под командой хозяйки. «А теперь что вам понадобилось?! Бутерброд с ветчиной? К черту! Но господину Пюрингеру можете принести бутылочку вина». Хозяйка почти никогда не поднимала со стула свои 128 килограммов, а официанта она не держала.
И все-таки находились люди, которые и слышать не хотели о другом кабачке, ибо тот или иной спектакль здесь всегда был обеспечен. К примеру, нежданные удаления гостей, которые сегодня и в этот час пришлись не по вкусу хозяйке. («Не могу на вас смотреть, идите куда-нибудь подальше».) Или наоборот – нескрываемое выражение симпатий. («Люблю смотреть на твою мордафью! Ты у меня душанчик! Сейчас угощу колбаской».) Эти ее слова относились к муниципальному советнику, уже давнему пенсионеру, семидесяти шести лет от роду, который удирал сюда от своего одиночества и желая посмеяться. Но ежели он смеялся слишком много, хозяйка пускала в ход глушитель. («Такой старикан, как ты, не должен много хохотать. А то не успеешь оглянуться – и дуба дашь».) К любимым гостям хозяйка обращалась на «ты».
В их числе был и художник Грабер, пожилой дородный господин, выдающийся живописец и в свое время лучший иллюстратор сказок. Этот приятнейший человек с большим и значительным лицом (оно сразу же бросалось в глаза), с носом, похожим на почтовый рожок, усаживался на почетное место рядом с хозяйкой, поскольку оно одновременно являлось еще и местом исключительным, так как она не только не выбрасывала его из заведения, но и не отказывала ему в его просьбах, а также не делала нежных и заботливо продуманных намеков на ожидающую его могилу, не угрожала ему никакими глушителями. Ввиду того, что одни гости здесь обслуживали других, на него была возложена обязанность открывать буфет и снова его запирать, если кому-либо разрешалось пользоваться блюдами холодной кухни (другой здесь попросту не было), для чего хозяйка всякий раз снимала ключи с завязки передника.
Грабер, человек на редкость работящий, хорошо знавший жизнь и говоривший на многих языках, приходил сюда, так как любил вечерком выпить пива и мирно посидеть за столиком. Последнее было ему гарантировано, тогда как в других кабачках на это рассчитывать не приходилось. Гости же Марии Грюндлинг вставали все, как один, если кто-нибудь начинал дебоширить или проявлять недостаточное уважение к авторитету хозяйки. Дебошир вызывал гнев всех здесь присутствующих мужчин, не менее шести пар кулаков протягивались к его лицу, среди таковых и весьма увесистые кулаки господина Грабера, который, кстати сказать, носил титул профессора, о чем здесь, конечно, никто не знал.
В этом мирном уголке Грабер медленно погружался в пиво и в дремоту, участвуя в разговоре, который велся как-то мимоходом или вдруг начинал изобиловать шуточками и остротами, конечно, не на уровне господина Грабера, но, несомненно, доставляя ему удовольствие.
Среди посетителей нет-нет да и встречались люди, чем-то напоминавшие господина Грабера. В каждом кабачке бывают гости, которых он заслуживает, – так по читателям можно узнать цену писателю, даже если ты сам не прочитал ни единой его строчки. Хвостик тоже разок забрел сюда, вскоре после того, как хозяин заведения, где его отец служил кельнером, отошел от дел и продал свой кабачок другому. Хвостик редко здесь бывал, но знал благодушнейшего Грабера и даже имел один из бесчисленных иллюстрированных им сборников сказок – подарок художника с собственноручной надписью. В книге было множество удивительных лесных человечков, карликов из корней, шиковатых парнишек, пней с широко открытыми глазами.
Бывали здесь гости и совсем другой породы – через Винер-Нойштадт с близлежащего Южного вокзала они приезжали из тогда еще королевско-венгерского Бургенланда, точнее говоря, с полоски земли между постепенно сходящими на нет горами Штирии и глубоко на равнине расположенным Нойзиндлер-Зе. Люди крестьянского обличья, почти все в сапогах, по той или иной причине они приехали в Вену, наверное, и на рынке хотели побывать, мужчины и женщины в одинаково высоких сапогах. Это были мирные люди, они говорили на каком-то тарабарском наречии, если вообще не по-венгерски или по-хорватски.
Когда Дональд, протаскавшись несколько часов по городу, заглянул сюда. Хвостик сидел слева от хозяйки. Грабер, по обыкновению, справа, а рядом с ним две простые, уже старые, хотя и свежо выглядевшие, женщины, обе с высоких сапогах.
Муниципальный советник тоже был здесь.
– Вот что, мой мальчик, – заговорила хозяйка с новым гостем, – ты все растешь, этому, видать, конца не будет. Садись-ка и подожми свои ходули. С башней святого Стефана не побеседуешь, а подзорную трубу я дома оставила. А-а, господа друг друга знают, – сказала она, когда Дональд и Хвостик поздоровались. – Ты с виду англичанин. Садись сюда, жентильмен, рядом с Фини и Феверль.
* * *
Поскольку эти смышленые дамы ориентировались в Вене, Глобуш Венгерский – он еще жил и процветал! – время от времени посылал их туда по разным делам и кстати кое-что купить и привезти: для кухни, для дома, а заодно еще и для туалетного столика управляющего Гергейфи, который до сих пор сохранил прежнюю стройность, очень любил парфюмерию и привык к крему для бритья под названием «Проснись!», а крем этот в Мошоне нельзя было достать. Этот трудолюбивый человек нам вспоминается как даритель пары хорошеньких гусарских сапожек, предназначенных Феверль.
* * *
Когда фигуры из области относительной и метафорической святости опять пусть на самое короткое время – снисходят до нас, обыкновенных людей, и бродят в толпе нам подобных, они быстро попадают в сети, расставленные писателем; глядь, и в них уже барахтаются две разжиревшие троянские лошадки. Не спешите! Мы скоро их опять освободим, но сначала мы хотим посмотреть, как они теперь управляются со всеми делами.
Сейчас им уже далеко за шестьдесят; но обе на диво хорошо сохранились. Собственно, они уже давно в отставке. Но в Мошоне по-прежнему незаменимы следовательно, незаменимые пенсионерки. Обе, по правде говоря, интереснее, чем были в возрасте, положенном троянским лошадкам. Вернее, теперь они менее ординарны, чем тогда. Удивительный случай? Ведь люди с годами выглядят все более ординарными. Исключением можно назвать разве что начальника почтового отделения Мюнстерера.
Они все еще «парная упряжка». А это значит, что каждая осталась идентичной не только сама себе, но другой, что при такой двуликости отнюдь не является правилом, и это неопровержимо доказывает прискорбный случай с бр. Клейтонами. Критики, конечно, будут утверждать, что автору не удалось «точнее обрисовать каждую из этих двух фигур и подчеркнуть различия между ними». Не в том дело, что ему не удалось, а в том, что он даже и не попытался это сделать! Попробуйте-ка спрофилировать этих двух! Я с самого начала их путал и никогда не знал, как они выглядят поодиночке, а только как обе вместе.
* * *
На Хвостика появление здесь Дональда произвело тревожное впечатление, ему это показалось многозначительным фактом, а не простой случайностью. Сам он как-то в разговоре с Дональдом среди прочих достопримечательностей Вены описал и кабачок Марии Грюндлинг, но это было давным-давно, вместе они никогда здесь не бывали, хотя в свое время и собирались. Теперь Дональд заявился сюда в девять вечера, весь потный, без машины, в запыленных ботинках, и с жадностью выпил кружку пива – все вопреки своим всегдашним привычкам.
Но Хвостик уже научился стойко держаться в этой ситуации, которую он переживал без унизительной муки в кишечнике, а со своеобразной возвышенной грустью: и сейчас перед ним возникла картина – граница леса, они выходят на солнечный свет, а с вершины горы срывается ветер. Опять он выходит на простор, словно преодолел ступеньку лестницы или перепрыгнул через ограду, при этом прояснившаяся ситуация осталась внизу, вполне доступная взгляду. То, что ворвалось в его жизненный круг (сколько долгих и серьезных усилий потребовалось на укрепление такового!), перебаламутив уже сбывшееся, как он теперь догадывался, не было следствием ошибки, попустительства или упущения, не было это и злополучной случайностью; нет, оно состояло из такого же крепкого и прочного материала, из которого был сделан сам этот жизненный круг. Значит, надо держаться стойко! И Хвостик держался. Если ему суждено этого столь милого его сердцу молодого человека взять с собой в поездку – а почему, собственно, должны рушиться планы?! – тогда игра будет выиграна и еще раз выиграна, как раз в тот момент, когда корабль – у них были заказаны места на «Кобре» – отойдет от мола. Он уже сейчас видел первую узкую щель между бортом корабля и причалом, и вот возле мокрого борта уже плещется вода, а на набережной стоят люди, все лица обращены к кораблю, все машут платочками, и с верхней палубы вздымает ввысь медленно-торжественный хорал – императорский гимн – все это Хвостик представляет себе, с тревогой глядя на Дональда, который сидит против него рядом с двумя незнакомыми рыночными торговками (влажные волосы у него прилипли к вискам); он заказал два литра вина – должен же молодой человек угостить их как следует! – а заодно и пачку сигарет, предложил обеим закурить и сам закурил – все очень непривычно, все, так сказать, в порядке эксцесса – по крайней мере так это воспринял Хвостик, хорошо знавший своих англичан. Но завтра или послезавтра вернется Роберт Клейтон из гостиницы «Альпийское подворье»; далее прием у Гольвицера, абсолютно неизбежный, и вскоре после него они должны уехать.
«Это хорошо, – подумал Хвостик, – для него это будет просто счастье. В Вене ему теперь нельзя оставаться ни в коем случае».
Наиболее скромные гости за столом молчали, оробев от присутствия незнакомых господ.
– Вина не выпьешь, жентильмен? – спросила хозяйка Дональда, который сидел перед пустой пивной кружкой, а к стакану с вином даже не притронулся. Тогда он осушил его одним глотком. Профессор Грабер давно уже подозревал, что он собою представляет. Появление абсолютно неуместных здесь гостей стало уже как бы традицией заведения. Поговаривали даже, что сюда время от времени заглядывают и очень именитые гости, впрочем, возможно, что на кое-кого из них возводили напраслину. Но в конце концов и сам профессор Грабер был лицом весьма заметным. Он вынул изо рта сигару, добродушно выпил за здоровье Дональда и сказал по-английски:
– Ваше здоровье, сударь!
Дональд, нимало не удивившись, поблагодарил его. В этом городе такое смешение языков! К этому он давно уже привык. Но после того, как он вылил со своим визави, у него отлегло от сердца. Он снова налил старухам, хозяйке и трем соседям по столу – твердой рукой, как точно отметил Хвостик, – потом вытащил трубку и осторожно вытянул свои длинные ноги.
– Ну, теперь ты в порядке, жентильмен! – сказала хозяйка, когда над столом поплыли голубые клубы «кепстена».
Муниципальный советник, приятно взволнованный, потянул носом.
– Пахнет дальними странами, – сказал он. – Америкой пахнет.
Это были единственные слова, которые пожилой господин произнес за все время.
* * *
Вскоре Дональд и старина Пепи отправились домой, правда, по убедительной просьбе первого, пешком. Это был долгий путь вниз, к Пратеру. Светящиеся часы показывали начало одиннадцатого. Прекрасный вечер оживил улицы. Когда двое одиноких мужчин, двое холостяков – а оба они были холостяками и одинокими, сейчас, может быть, более чем когда-либо, – ночью не спеша кружат по центру большого города, то это ситуация ни в коем случае не гиблая, не скучная, а по меньшей мере обнадеживающая, со множеством выходов в разные стороны, вглубь и вовне.
Возможно, здесь дело было в разнице возрастов, определявшей особенность ситуации, и в той почти нежной и заботливой заинтересованности Хвостика в жизни младшего друга, о которой мы все-таки хотим сказать, что она проистекала из своеобразного чувства вины. В таком случае это чувство было уж очень возвышенным.
Он считал себя одиноким. Мило уехал. С ним Хвостик не мог, как раньше, беседовать о делах, что всегда действовало на него благотворно. Но теперь словно засов задвинули. Груз доверия, взваленный на него Робертом Клейтоном, с тех пор как он вместе с Моникой находился в «Альпийском подворье», сделал невозможным подобные беседы.
Дойдя до церкви св. Павла, они пошли дальше, углубляясь в центр города. От запаха асфальта, выдыхавшего из себя дневной жар, у Хвостика появилось предощущение жаркого лета в городе. Это было по ту сторону путешествия, позади него. Об этом путешествии он сейчас и толковал Дональду, тем самым как бы продвигаясь вперед ощупью, и уже почувствовал, что здесь – боль, боль, связанная с этим путешествием, и что сейчас он как бы задел и сдвинул плохо сидящую повязку, которая страшилась любого прикосновения и разумно прикрывала рану.
Поэтому-то Дональд и сам заговорил о поездке, все приготовления к ней были уже завершены.
Старина Пени догадывался, почему Дональд захотел идти пешком: это был страх одиночества там, на пустой вилле, на краю Пратера. И ему, хотя сам он никогда в жизни не вылезал так из собственной шкуры, как теперь Дональд, был ведом страх, который неизбежно поджидает каждого, кто уже не рассчитывает на размягчающую и разрушительную поддержку повседневности, ибо утратил способность ею воспользоваться.
И в то время как Хвостик бок о бок с Дональдом шагал в направлении Кернтнерштрассе, прописная истина касательно перемены места как лучшего средства против несчастной любви вдруг показалась ему весьма сомнительной. Все равно никуда от нее не денешься.
Удивительно, как этот Хвостик умел выйти за пределы собственного опыта, ему помогало врожденное сознание жизненных бурь, хотя именно они больше всего пощадили убогую молодость Хвостика, вероятно только потому, что бедность и жизненные невзгоды не оставили для них места.
В те времена, когда мы вместе с обоими господами проходим мимо Оперы, города по ночам еще не были оживлены, как нынче, разноцветной и растворяющейся вдали игрой света; зато непережитым осталось и то, как все это затемнялось со дня на день, – темные глыбы под гнетом страха. Хвостик и Дональд свернули вправо на пешеходную аллею Рингштрассе. Дональд замедлил шаги. Здесь уличный шум не помешал бы им говорить. Лишь изредка по широкой мостовой, над которой еще не парила яркая цепь электрических лампочек, проезжали автомобили или фиакры. Но высокие дуговые фонари вечное полнолуние больших городов – все вокруг заливали молочным светом.
Лишь возле Городского парка Дональд решился:
– Господин Хвостик, – сказал он по-английски, – это предстоящее нам путешествие весьма желательно мне в сугубо личном смысле. В последнее время я потерпел неудачу. Может быть, мне нужно навсегда покинуть эти края. Поехать, например, в Чифлингтон, на тамошний завод.
– Мне было бы чрезвычайно жаль, – сказал Хвостик и в тот же миг понял, что эти слова могут оказаться последними откровенными и прямыми словами, которые он скажет Дональду, в том случае, если и тот почтит его, Хвостика, своим доверием. Он чувствовал, что этот момент уже близок. Если Дональд станет выражаться яснее, то Хвостиково положение будет очень и очень неловким. Хвостик остро ощущал приближение опасности.
Дональд заговорил о Монике, назвал ее по имени. Это было, если можно так выразиться, его грехопадение, вызванное внезапным приступом слабости, может быть, вследствие физического переутомления, а может быть, и от непривычки к спиртным напиткам. Но Хвостика он тем самым поверг в настоящий конфликт с самим собой, причины которого, конечно же, коренились не в сиюминутной слабости.
Дональд мало что сказал, и ничего особенно умного, к тому же его слова были не в ладах с истиной. Но как же может быть иначе? Что он мог бы рассказать, что осветить? Ему пришлось бы тогда говорить и о необъяснимом, может быть, о дурноте накануне приема в саду, о том, как в комнате стемнело из-за дождя, – но как раз это-то он и отмел с самого начала. Это все не имело ничего общего с Моникой. И все-таки. Он сказал:
– Как мне это ни больно, но я так и не сумел установить с ней настоящего контакта.
– Простите меня, мистер Клейтон, – сказал Хвостик, – но не исключено, что с такой особой это никому бы не удалось.
Первая поперечная повязка. Задумано хорошо. Это должно унять, смягчить боль. Тонкая благодарность Хвостика. Вдобавок: сейчас, на высоте 1000 метров над уровнем моря, Моника наверняка была вполне контактна.
– Все-таки здесь дело в некоторой автократичности натуры, – еще присовокупил Хвостик.
Да, черт возьми, так будет лучше! О, и пусть нам еще больше встречается таких «автократических натур»! В особенности это пошло бы на пользу нашей молодежи! Но где и в чем Моника проявила тогда свою автократичность по отношению к Дональду? Все это чепуха. Бедняга Хвостик порет сейчас сущую чепуху. А что ему еще остается?
– А после вашего возвращения из Англии, мистер Клейтон, вы говорили с фройляйн Бахлер?
Позор. Итак, он спешит в укрытие. А что ему делать?! Я спрашиваю: а кто же, собственно, оказался несостоятельным в присутствии Моники? Разумеется, не Пепи. Никоим образом. Он обнял свою бело-светящуюся звезду и сам стал при этом красным, как раскаленная чугунная печь.
Жалкий этот разговор еще немного продолжался, когда они дошли до конца Городского парка и свернули вправо. Вдоль узкой стороны парка они прошли молча, потом поднялись на мост, под которым на многочисленных путях товарной станции стояли рядами темные вагоны. Слышалось звяканье буферов. Здесь уже начиналась та часть города, где они жили и трудились. Хвостик живо это ощутил. Слева, на главной таможне, он сам лично отправлял в Бухарест фирме «Гольвицер и Путник» большие партии станков. Теперь они шли по Зайдльгассе. Смолянистый запах торцовой мостовой. Хвостик вдруг вспомнил, как он когда-то взял здесь фиакр, чтобы поехать к своему тогдашнему домовладельцу, советнику Кайблу, прощальный визит перед переселением из Адамова переулка. Вот они уже идут мимо завода. Возле ворот освещенное оконце ночного сторожа. «Сюда приметалось что-то совсем новое», – подумал Хвостик. Да, он готов был признать, что все не может двигаться вперед, оставаясь таким, как прежде. Окна кафе «Неженка» были еще освещены. Неужто Дональд захочет туда заглянуть? Но он прошел мимо, даже немного прибавив шагу. У моста они пожелали друг другу спокойной ночи.
Хвостик еще раз быстро оглянулся.
Дональд уходил, высокий и стройный.
«Я ведь знал его еще совсем мальчиком, – подумал Хвостик, – я изредка видел его в саду их виллы. А теперь он страдает от любви».
Нет, ему не свойственно было пренебрегать страданиями, которые были ему чужды. Он отлично сознавал всю серьезность ситуации, а это обычно редко удается осознать вовремя. Но что ему было делать с этим сознанием? Разве не сводится все к тому, что ты убеждаешься – у тебя зрячие глаза, но руки-то слабые.
На пристани чувствовалось дыхание воды, а от Пратера сюда долетал аромат зелени. Хвостик подошел ближе к откосу. Потом повернул налево, перешел через дорогу и зашагал по переулку, ведущему к его дому.
* * *
На следующий день вернулся Роберт и уже под вечер появился в конторе, весело и громко приветствуя Дональда и Хвостика. Пени про себя решил, что он изменился. Несколько спал с лица, загорел и, казалось, весь стал как-то легче и подвижнее. Покупка локомобилей прошла гладко, сообщил Роберт, хотя он (это относилось к Дональду) чувствовал себя там уже не так уверенно; он несколько отстал, чтобы толком разобраться во всех деталях этого дела. Потом его пригласили совершить поездку в горы. Хорошо, что он не поехал в Венгрию на машине, – ужасные дороги. Машина тогда – наверное, к счастью, была в ремонте.
Вечером Август был встречен громким «о-ля-ля!» и толчками в бок. После обеда Роберт и Дональд в холле обсуждали текущие дела. И рано ушли спать. Дональд тоже очень устал.
На другой вечер был soirée у Гольвицера, куда на сей раз получил приглашение и Хвостик. Старики Эптингеры извинились, что не смогут быть.
Хвостик поехал туда вместе с Клейтонами. Опять большой съезд на Фихтнергассе, поток разнообразных взаимных приветствий уже на тротуаре перед виллой, а затем не менее оживленный и бесформенный introitus с путаницей голосов уже в холле. Оттуда все устремились в первую гостиную (оба англичанина и Хвостик молча присоединились к обществу), где с шумом и смехом окружили маленького хозяина дома. Последний, как только приметил Роберта Клейтона, разомкнул образовавшийся круг и поспешил навстречу Роберту:
– Я рад, мистер Клейтон, сегодня видеть вас здесь.
Далее последовал оживленный обмен рукопожатиями с Дональдом и Хвостиком.
Сердечность иной раз изливается таким потоком, который все делает невидимым, затопляя целиком всю суть человека; и при этом она может быть подлинной, хотя бы на время. И опять здесь можно было увидеть множество лиц, каких обычно не встретишь в кругу промышленников – бородатые профессорские лица и бритые лица знаменитых актеров Бургтеатра. Множество разговоров и дебатов на темы, не всегда и не всем здесь привычные. Англичане и Хвостик дошли до зимнего сада, двери которого сегодня были открыты в парк. На пороге стояла пришедшая из парка Моника Бахлер.
Роберт поздоровался с Моникой приветливо, добродушно и непринужденно, Хвостик осыпал ее комплиментами с известной торжественностью, из которой можно было уловить, что он сознает всю значительность ее особы, а Дональд растерялся (до сих пор, верный своей природе, он держал себя в руках), не сказав ни единого слова, пожал ей руку и поклонился.
Они остались здесь, в зимнем саду, куда летом никто не заглядывал, возле бассейна с фонтаном и стали смотреть на воду, на медленно плавающих сазанов, ибо в этот момент им ничего другого не оставалось и никому ничего толкового в голову не приходило. Хвостик первым сделал открытие, что декоративные водоемы коммерции советника Гольвицера несут еще и утилитарную, вернее, гастрономическую нагрузку, по крайней мере в определенное время года.
Во второй половине бассейна не было рыб. Там, куда падала вода из фонтана, были устроены пещеры и гроты из туфа: Хвостик обнаружил там раков, два или три из них разгуливали в воде неподалеку от этих пещерок. Хвостик указал на них Роберту, на Роберта один из раков произвел ошеломляющее впечатление своей живостью. Он тут же обернулся к Монике и сказал ей, что здесь есть на что посмотреть. Она с интересом нагнулась над краем бассейна. Дональд тоже заглянул в него.
Но все это не удивило Хвостика, странным ему показалось другое мелкое обстоятельство: Роберт только сейчас – раньше этого никогда не бывало заговорил с Моникой по-английски. Обычно в Вене он почти не пользовался родным языком, и лишь звоня по телефону с гор старине Пени, вел с ним доверительные беседы по-английски. Но сейчас вдруг, опустившись на колени у края бассейна, Роберт сказал Монике по-английски:
– Мы их поймаем!
И вот она тоже опустилась на колени. Это выглядело так, будто они собираются наперегонки ловить раков. Но Моника выиграла это состязание. Решительным движением сунув руку в воду, она по всем правилам, двумя пальцами, схватила рака, вытащила из воды и подняла повыше. Через секунду то же самое сделал и Роберт Клейтон.
– Мой больше! – воскликнула Моника.
– Верно, – отозвался Роберт (теперь снова по-немецки).
Оба эти экземпляра были весьма внушительных размеров – «раки экстра», как их называют в ресторанах. Каждый поднял выловленного им рака повыше, для сравнения, оба рака в ярости шевелили клешнями в воздухе и били своими мощными хвостами так, что и Моника, и Клейтон оказались забрызганными. Хвостик, позабыв свое удивление, с неподдельным интересом наблюдал за добычей, вероятно, он впервые в жизни видел так близко живого речного рака. Дональд стоял в стороне. Раков выпустили обратно в бассейн.
– Пока вас не съест старик Гольвицер! – вслед им сказала Моника.
Эта небольшая сцена, во время которой в зимнем саду не было никого, кроме них (все гости и на этот раз устремились в буфет), позднее стала предметом разговора, который Дональд и Хвостик вели, расхаживая перед ужином по прогулочной палубе спустя два дня после отплытия из Триеста; было уже темно, море казалось черно-синим, и отчетливо слышался плеск разрезаемой бушпритом и бьющейся в борта воды. Только теперь, с появлением первых звезд, стала заметна высота неба. Хотя Дональд и Хвостик, как всегда, рассматривали ситуацию с разных позиций, в этом пункте они чувствовали одинаково: что именно здесь, в этой игре, при всей ее незначительности, что-то было им обоим непонятно, некоторая утрированность, как они считали, по крайней мере со стороны Роберта, и, пожалуй, своего рода усердие со стороны Моники.
* * *
Они плыли на роскошнейшем пароходе, совершавшем круиз по маршруту Левант [26]26
Общее название стран, прилегающих к восточной части Средиземного моря.
[Закрыть]– Стамбул. Пребывание в портах было весьма на руку Хвостику и Дональду, а в Бейруте они даже могли, не сходя с корабля, вести деловые переговоры с партнерами. Из Константинополя им предстояло Восточным экспрессом доехать до Бухареста (фирма «Гольвицер и Путник»), затем в Белград (инженер Восняк, Мило), далее в Будапешт и оттуда в Хорватию, где их снова ожидали кое-какие важные дела. Должны они были побывать и в Слуни. Перед их отъездом Роберт Клейтон неоднократно советовал старине Пепи во что бы то ни стало посмотреть это место.
– Это будет действительно великолепным заключительным аккордом, – так говорил он Дональду. – В свое время это была моя идея. Мы с твоей матерью ездили туда в свадебное путешествие.
Дональд непрерывно страдал после второго приема у Гольвицера и после отъезда из Вены, порою страдал ужасно – ну и поделом, сказали бы мы, но мы не можем себе этого позволить, хотя бы уже потому, что человек здесь вступил на тяжкий путь. Скажем так: страдая, Дональд постепенно вживался в истинное положение вещей, серьезность которых, как нам известно, давно уже осознал господин Хвостик.
Хвостик по-прежнему был заинтересованным лицом. Он просто не мог оставаться в стороне по причинам, которые мы уже знаем. Но то, что теперь вторглось в его жизненный круг и сбило его с толку – в круг, который он действительно создавал с трудом и долготерпением! – в одинаковой мере оживляло и удручало его. В том-то и заключалась особенность его тогдашнего положения. И он об этом знал. В глубине его души вновь возникло то давно прошедшее время, время, исполненное трудов и забот, время, потребовавшее срочных и неотложных перемен. Он теперь частенько вспоминал свой прощальный визит к советнику земельного суда доктору Кайблу, которого он потом никогда больше не видел, хотя тогда и шла речь о новой встрече по случаю какой-нибудь холостяцкой пирушки. Особенно часто он вспоминал это здесь, на корабле. С тех пор прошло больше тридцати лет. То время виделось ему в весьма трогательном свете. И что-то даже возвращалось к нему от тогдашней растроганности.
Хорошо! Пусть так! Такова уж была душевная организация Хвостика. А что из всего этого выйдет, он, конечно, не знал.
Но даже и сторонний наблюдатель, вроде мюнхенского терапевта доктора Пауля Харбаха, должен был заметить, что Дональд сейчас в дурном состоянии, что он не владеет собой. А доктор Харбах был к тому же врачом, и врачом выдающимся. Как врач он вскользь намекнул Хвостику, что мистеру Клейтону следовало бы поберечь себя, что сердце может не выдержать такой нагрузки. Он сказал еще что-то о губах Дональда и употребил выражение «синюшные» или «слегка синюшные», этого Хвостик не понял. Доктор Харбах считал, что это неспроста.
Но он всегда и во всех случаях оставался сторонним наблюдателем, а не только раз в год, когда на несколько дней приезжал в Вену, в родительский дом. Сейчас он только что оттуда и в соответствии с временем года гостил на вилле в Хаккинге, а не на Райхсратштрассе. Затем побывал с друзьями в горах, а теперь – у него был отпуск – пустился в морское путешествие, впервые за семь лет. С неопределенными целями, сказал доктор Харбах. Пока что он собирается доехать до Стамбула.