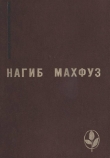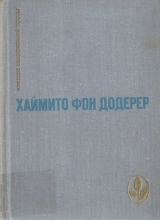
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Хаймито Додерер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 48 страниц)
– Но господин директор! – воскликнула она.
А он:
– Ах, оставьте, госпожа Мицци!
А она:
– Тысяча благодарностей, господин директор, и желаю вам приятного отдыха. – Она попятилась к входной двери и тут сделала книксен. – Целую ручки, господин директор.
Хлоп. Хвостик еще услышал, как она спускается. Руководство и сопровождение Мюнстерера. Это было почти так, как если бы тот дал ему десять крон специально для Венидопплерши.
Лишь тут он действительно вошел в квартиру и зажег свет. Хлоп. Все. Ушел, ускользнул, теперь он в безопасности. («Оторвался от противника» так это называлось потом, через пять лет, в первую мировую войну во время отступления.) Отнюдь не своими силами. Он и вправду был совсем не глуп, этот Хвостик, чтобы некоторую свою пассивность считать решительностью и выдающимся достижением. Сейчас он отыскал бутылку коньяка, в ней оказалось не больше половины. Ему это было абсолютно необходимо. Тут он вспомнил, где стоит коробка с железной дорогой: в спальне под кроватью.
Словно что-то защелкнулось в Хвостике, какое-то доселе ему почти неизвестное сочленение. И оно как будто дало ему досуг для игры – совсем так, как он в первой комнате, сдвинув в сторону кресла и столик, освободил место на блестящем навенидопплеренном паркете, похожем на зеркальную гладь пруда. Затем он подошел к окну, из которого больше не был виден Пратер. Там, где раньше было свободное пространство, теперь тлели непонятные призывы отдельных, еще освещенных окон. У него, Хвостика, было время и место, чтобы делать то, что ему заблагорассудится, чтобы наслаждаться так, как ему нравится: благодаря руководству и сопровождению Мюнстерера и пятикроновым монетам впридачу. Он потянул за шнурок, и шторы задернулись.
Потом он пошел в спальню и там сразу же вытащил из-под кровати железную дорогу.
Рельсов оказалось гораздо больше, чем ему помнилось; таким образом, подумал он, это был уже не просто короткий путь вокруг изножья супружеской кровати – половина снаружи, половина под кроватью, – рельсы в темноте уходили гораздо дальше. Значит, поезд дольше оставался там и лишь затем выезжал на свет божий.
Хвостик соединил отливающие серебром рельсы на паркетном полу, аккуратно вставляя каждый крючок в предназначенную для него петельку. Для этого ему, разумеется, пришлось опуститься на колени. Получился большой овал – в нем могла бы уместиться кровать – с двумя прямыми отрезками пути. Теперь он поставил на рельсы вагоны. Их было четыре – один почтовый и три длинных пассажирских. Толкнешь их легонечко, и они мягко покатятся по рельсам, звук такой, будто что-то журчит. Паровоз и тендер были очень увесистые. Хвостик осторожно вынул их из коробки. Здесь же лежал и ключ для завода механизма.
Когда состав был готов, он осторожно завел механизм.
Из низкой паровозной трубы скорого поезда торчал клок ваты, белый и незапыленный, действительно похожий на рвущийся из трубы дым. Хвостик заметил это в момент, когда поворачивался ключ. И тут вдруг сюда, в эту комнату, точно кубик, свалилась та спальня в Адамовом переулке и мальчик, что стоял на коленях перед маленькой железной дорогой. Прежде всего в глаза ему бросилась вата, которую засунули в паровоз во время последней игры (ведь была же когда-то последняя игра).
Хвостик нажал на никелированную кнопку сбоку кабины машиниста, которая запускала часовой механизм.
Потом придвинул к рельсам кресло.
Поезд тронулся. Сперва медленно, немного клонясь на поворотах, потом на прямой набрал скорость, а перед поворотом опять сбавил ход. И так по кругу, много раз, шесть или, может быть, семь. Все было очень красивое, совсем как новое.
Так он просидел до глубокой ночи.
Маленький поезд все ездил. Хвостик заводил его вновь и вновь. Он шел не только по равнине паркетного пола, но по спирали мало-помалу уходил вглубь, под сверкающий навенидопплеренный паркет, проникал под загар прошлого и, кружа по спирали, вновь выбирался наверх, в настоящее, в усталость. Хвостик подождал, покуда кончится завод. Железная дорога была погружена во тьму. Рано утром он хотел еще раз взглянуть на нее, а потом аккуратно разобрать и уложить в коробку. Может быть, уже навсегда.
* * *
Прием в саду у Клейтонов в «Меттерних-клубе» оценивали по-разному. Август счел его скучнейшим топтанием на одном месте с барышнями Харбах (что не мешало ему при этом хохотать во всю глотку). Действительные члены клуба придерживались иного мнения. Надо с младых ногтей привыкать к светским приемам, а это был настоящий светский прием, сказал Хофмок, великолепная практика. Зденко при этом высказывании Фрица чувствовал себя не слишком хорошо.
Конечно, говорили и о Монике. Но не о госпоже Харбах. Эта тайная тема, безусловно, относилась к влекущей области непристойного. Каждый воспринимал госпожу Харбах как тупик, который никуда не ведет. Какое торжество инстинкта у столь юных господ!
Нет сомнения, что последние события только укрепили позиции Августа. К тому же мнение, будто инженер не может быть джентльменом, было поколеблено отцом и сыном Клейтонами. В особенности Хериберту фон Васмуту это дало пищу для размышлений.
Зденко становился все более одиноким. Это звучит печально, напоминает о старости и закате жизни. Но для него это было счастливое состояние. И его успехи в учебе служили теперь для упрочения этого состояния. Они служили уже не «дендизму» и не «impassibilité», как это было у других членов «Меттерних-клуба». Хотя и последних тоже не в чем было упрекнуть. Впрочем, Август в этой связи вызывал некоторые сомнения. Его веселость была непрозрачна. Возможно, ему недоставало чувства формы. Однако ему удалось благодаря своим родственникам и их приемам в саду – всех ошеломить и повергнуть в изумление. Ему вообще это было свойственно. Такова была его манера продвигаться в жизни: хитрость вкупе с ошеломляющими эффектами. Когда однажды они прогуливались по Пратеру в стороне от Главной аллея, навстречу им по одной из широких дорожек в лиственном лесу галопом мчалась оседланная лошадь без всадника, с болтающимися поводьями. Они еще издали завидели ее. Молодые люди отошли в сторонку. Но Август бросился наперерез лошади, что-то крича, и, раскинув руки, преградил ей дорогу, так что лошадь в изумлении встала на дыбы и бросалась то вправо, то влево, пока Август не схватил поводья. И вот он уже сидит верхом. Животное сразу успокоилось. Толстяк уселся поудобнее в седле и сказал, что отведет лошадь в манеж, откуда она сбежала. Местом встречи назначено было кафе «Неженка». И с этими словами он пустил лошадь рысью. О своих уроках верховой езды (которые он брал очень неохотно) Август никогда прежде не упоминал.
Зденко становился все более одиноким. Всякую минуту он готов был к тому, что внезапно меняющиеся стены вновь начнут ходить ходуном, шататься и раскачиваться, утратят привычную устойчивость. Если обычно этот возраст характеризуется гудящим и звенящим переизбытком замыслов и порывов, то здесь, в случае с нашим юный господином фон Кламтачем, все обстояло наоборот. Сейчас, в конце учебного года, они гуляли в Пратере, тогда как большинство их школьных товарищей (даже те, кого раньше называли «элементами») пребывали в состоянии удручающей и не слишком полезной для здоровья напряженности, спасали то, что еще можно было спасти, бились в жестоких тисках, занимались безнадежной статистикой, распределяя по дням, оставшимся до переходных экзаменов, еще не пройденные страницы учебников; а здесь, в «Меттерних-клубе», учебный год давно был окончен. Они уже готовились к следующему году, последнему, в конце которого им предстояли экзамены на аттестат зрелости. При помощи учебников, которые только с осени пойдут в ход, они уже продвинулись так далеко, что, в сущности, были готовы к следующему классу и даже к экзамену в конце его. «Дендизм» был укрыт броней наук. Теперь их деятельность пошла на убыль. Выполнялись только повседневные обязанности. Можно было гулять. Они достигли того состояния, восхитительнее которого трудно себе представить. Никаких забот, уйма времени, и вся жизнь впереди.
И они играли в теннис у Клейтонов, сидели вокруг Моники, которую всякий раз встречали здесь. Роберт любил окружать себя мальчиками. Более того, они, как ни странно, теперь составляли его основное окружение. Друзья Роберта, а не только Августа.
Жирный смех Августа слышался чаще, с тех пор как уехал Дональд. Можно даже сказать, что он бесстыдно выставлял напоказ постоянно прекрасное настроение. Прежде оно нередко подавлялось одним только взглядом Дональда за столом или в саду. Особенно гнетущими были эти взгляды, когда Дональд при этом вынимал трубку изо рта, словно собирался что-то сказать. Но никогда ничего не говорил.
Характерно, что эти немые интермеццо между Дональдом и Августом не укрылись от внимания Роберта. Да, дело зашло так далеко, что он подчас нарочно пытался подбить толстяка на какую-нибудь наглость, только чтобы спровоцировать Дональда. Однако его попытки не имели ни малейшего успеха.
Зденко становился все более одиноким. Время было тихое, и столько времени, сколько сейчас, у него еще никогда не бывало. Все прошло, кончилось, как дорожки парка кончаются, впадая в спокойную кольцевую дорожку. Самое разнородное соединялось здесь воедино. То, что они уже теперь соприкоснулись с ораторским искусством Демосфена и до конца постигли его длинные периоды, которые для большинства гимназистов навсегда останутся путаными ходами лабиринта, где из-за любого поворота может появиться Минотавр, на сей раз чтобы поставить им «неуд», то, что у членов «Меттерних-клуба» вырастали крылья при этой пляске на грамматическом канате, крылья, надежно державшие их, и теперь в каждом обороте, в каждом извиве аттической прозы являлось им ее совершенство – как будто летишь над речной долиной, – все это и, может быть, еще то, что он, Зденко, вполне освоился с мыслью о заменимости госпожи Харбах и госпожи Фрелингер, так что обе они остались позади, когда из запутанных дорожек парка он выбрался на спокойную кольцевую дорожку (на сей раз в шезлонгах рядом с теннисным кортом лежали Клейтон и заменимая Моника); далее – то, что он неожиданно для себя и очевидно для других должен был стать «примусом», или первым учеником в классе (к чему отнюдь не стремился), – все это вместе относилось сейчас к тому движению, которое совершала его жизнь: она встала за его спиной, за его спиной она упорядочивалась. Она толкала его вперед с помощью уже пройденных предметов. Он вышел на кольцевую дорожку, и эта дорожка была пуста.
Такое состояние длилось всего лишь несколько недель. Это были как раз те недели, когда город прогревался, накапливая для лета невыносимую жару, покамест она еще разделялась развевающимися лентами легкого ветра, который полосой волок за собою запах вара с того места, где чинили асфальт.
Если существует пустое пространство, то существует и опасение: кто же его займет? То, что Хофмок встречался с Пипси, почти ровесницей, младшей в семействе Харбахов, в «Меттерних-клубе» считали просто смешным. Эти отношения обходились полным молчанием, хотя сам он рассказывал о них в клубе. Свидания происходили в чопорных кондитерских. Никто не желал сопровождать туда Фрица, не желал в этом участвовать. (Малышка расспрашивала Хофмока о его друзьях.) Вообще это тоже рассматривалось ими как тупик, не согретый даже подземным огнем и невозможными возможностями. Для Зденко все это давно уже угасло.
Может быть, только поэтому и еще по причине возросшей уверенности в себе он представлял собой известное исключение и вел себя иначе, нежели его товарищи по клубу. Так дело дошло до прогулки в Хюттельдорф. Предварительно они зашли на виллу Харбахов в Хаккинге за двумя барышнями, так как в это время года вся семья уже перебиралась с Райхсратштрассе за город. Фриц и Зденко прошли через парк по широкой, посыпанной гравием дорожке, которая круто поднималась вверх, к дому. Юный господин фон Кламтач при этом удивленно спрашивал себя, чего он здесь, собственно, ищет. Разумеется, не «великосветские связи», о которых с ранних лет так откровенно заботился Фриц Хофмок и о чем он намекнул, когда они ехали сюда в прокуренном вагоне городской железной дороги. До такой степени проникся он воззрениями отцов и начальников департаментов, что распространял эти воззрения и на семью промышленника.
Поезд остановился и на станции «Сент-Вейт», неподалеку от Аухофштрассе.
Изумление сейчас как бы отдалило Зденко, он словно смотрел в перевернутый бинокль. Это было здесь, вблизи, было действительно и несомненно. Он нажал на кнопку звонка, и гора Сезам сразу беззвучно открылась – распахнулись оливково-зеленые створки дверей.
Барышни спустились в вестибюль, обширность которого сообщала дому какой-то барский оттенок, дому, который в остальном был обычным монстром того времени – как в страшном сне, сплошные ниши, раковины, эркеры, все выкрашено ослепительно-белой краской, здание как из взбитых сливок.
В последовавшей засим прогулке в Хальберталь лишь одно-единственное обстоятельство кажется нам заслуживающим внимания: а именно то, что Зденко все время путал одну барышню с другой, так что Фрицу Хофмоку это уже становилось неприятно. Но Зденко, по-видимому, был не в состоянии удержаться от этих промахов. Левая барышня что-то ему рассказывала, а вскоре он обращался к правой так, будто это она только что говорила с ним о катании на пони. То, что Зденко путал их имена, было еще полбеды. Но обе сестрички Харбах вовсе не были так уж схожи между собой, разве чуть больше нормальной меры семейного сходства, не говоря уж о том, что Пипси была меньше ростом, чем старшая сестра. Но юному господину фон Кламтачу они, очевидно, казались близняшками!
И все-таки им всем было весело, и они с широкой дороги сошли на дорожку, ведущую в глубь леса, в зеленую чащу. Куковала кукушка, девушки болтали и смеялись, хотя для Зденко их смех и болтовня значили не больше чем кукование кукушки на дереве. Он просто вбирал в себя благозвучие этих голосов, раздававшихся под высокими зелеными сводами.
* * *
Эта прогулка с Пипси и ее сестрой, которую Зденко впоследствии вспоминал так же, как парное молоко, что они тогда пили в «Лесной хижине», привела в результате к тому, что оба эти создания опять появились в саду виллы Клейтона. Хофмок ловко ухватился за эту возможность, а именно за слова Роберта – пусть, мол, они приведут на теннис девушек.
Причудливый фон для новой парочки! Моника теперь даже находила известную привлекательность в глупости барышень Харбах, в интеллектуальной атмосфере, окружавшей молодых людей, они казались совсем уж молочно-невинными. Она наслаждалась тем, что Клейтон окружил себя именно такой компанией. Моника лежала на террасе в шезлонге и пила крепкий чай. На корте началась игра. Роберт, весь в белом, как и остальные – на сей раз он тоже собирался играть, – слез с помоста из просмоленных досок, на котором стояла судейская скамья, и подошел к Монике. Она вступала в это лето, словно сквозь благоухающую стену.
Старина Пепи тоже был здесь и сидел на террасе рядом с Моникой в свете предвечернего солнца. Он был наделен волшебной силой, недоступной человеческому разуму. Моника, похоже, поняла это. Каких только ситуаций из своей деловой практики она ему ни излагала, достаточно было ей показаться ему на глаза, коснуться голосом его слуха, как ей сразу все уяснялось и она без всякого труда принимала определенное решение. В сущности, Монике довольно было только заговорить с Хвостиком.
В этой ситуации проглядывала шаткость, а следовательно, и недолгий век. Но кольцевая дорожка успокаивала своей завершенностью, так это воспринимал не только Зденко, но и остальные два действительных члена «Меттерних-клуба».
С отъездом Роберта Клейтона все кончилось.
* * *
Разумеется, теперь Дональд должен был вернуться в Вену, хотя, кроме него, на здешнем предприятии не было ни одного инженера.
В последние дни в Бриндли-Холле он заметно переменился. Самопознание, как нам уже известно, не было ему свойственно, а к чему же иному оно могло в конце концов свестись, как не к расхождению швов, если так можно выразиться, и чем дальше, тем больше (а под конец уже совсем далеко от Моники). Нет, он не отклонился в сторону. Ничуть. Тут крылась одна ошибка. Настолько он это уже понял. Сейчас он мысленно добрался до вечера накануне приема в саду. Тогда у него было что-то вроде тошноты. Недомогание. Это облегчило его положение. Ибо тут просто нечего было обдумывать. Тогда он словно нырнул в облако. В комнате стало темнее. Хлещущий дождь. С Моникой это никак не было связано.
Но обычное его поведение с Моникой было в корне неверным. Ну конечно. Его нерешительность. Но разве тем самым он не оказывал ей уважения?! (Эти мужчины-северяне могут довести человека до сумасшествия возвеличениями своего предмета и следующей засим Тристановой томностью! Вдобавок это всегда не соответствует действительности и на самом деле все обстоит подозрительно иначе! Молодые люди! Сапог!) Но если он обнаружил ошибку, он мог еще все поправить. Конечно, кое-что надо было наверстать. Да, безусловно! Отец просто хорошо относится к Монике. Тем лучше. Жить без отца было бы чистейшим вздором, невозможно! И в то время, как в голове его шевелились подобные мысли, Дональд вдруг вспомнил, что за время, прошедшее между приемом в саду и его отъездом, он ни разу не смог дозвониться Монике.
Когда пароход в окружении чаек подошел к Остенде, а из синей сегодня воды одиноко торчал знак, указывающий фарватер, Дональд проникся решимостью. Да, он все наверстает, исправит любую ошибку. Тогда он просто был подавлен. А теперь пора действовать. С такими мыслями стоял он возле своего плоского кофра в зале таможни. Потом в купе первого класса еще не отошедшего поезда он буквально рухнул на мягкое сиденье. В первый раз в жизни словно чья-то сверхмощная рука, как подъемный кран, подняла его и перебросила в потусторонний мир посреди нашего мира. На свете есть только Моника.
* * *
Тотчас же по приезде в Вену он позвонил в издательство, так как на Аухафштрассе никто не отвечал, и узнал, что она в отъезде на несколько дней, так неопределенно это прозвучало.
И здесь снова одиночество в большом доме, хотя, увы, и не полное одиночество, здесь был еще и Август.
Хвостик не мог ему сказать, где в настоящее время находится его отец. Вероятно, все еще закупает локомобили в Венгрии. Ему пришлось лично выехать туда, поскольку Дональд так долго отсутствовал. А там, в Англии, конечно, воспользовались прекрасной возможностью разрешить все свои задачи, ведь с самого начала было ясно, что одной только установкой станков дело не ограничится.
Весна быстро набирала силу, нахально вмешиваясь во все, сводила с ума роскошеством света. Ливни и апрельское непостоянство погоды давно уже миновали, дни стояли сплошь голубые. Сирень еще не расцветала. Но уже близилось время путешествия на юго-восток. Откладывать его на разгар лета было невозможно. Хвостик давно уже составил план поездки, с учетом расписания всех железнодорожных и пароходных линий.
Все это они детально обсуждали в саду, расхаживая взад и вперед по подстриженному газону. С практической точки зрения Дональд мог ехать в качестве технического эксперта, как инженер, ну и, конечно, как младший глава фирмы. Если бы он сейчас, расхаживая по газону, оперся на Хвостика, вернее, на его плечо, это было бы вполне уместным жестом и в известной мере воздало бы должное правде. Так и случилось, хотя и на иной манер: Дональд попросил его остаться к обеду (несмотря на то, что они все уже обговорили) и не желал принимать никаких возражений. Только шутки ради стоит упомянуть, что нашему старичку сегодня вечером предстояла стариковская вылазка, ну, скажем, в скрытую от нас сторону его жизни. Но все это сейчас выскочило у него из головы. Ибо уже в саду и во время деловой беседы он почувствовал, что происходит с Дональдом. Если человек о чем-то умалчивает, сразу чувствуется, что он о чем-то умалчивает; мы также чувствуем, когда у другого начинает скрипеть замок его молчания, когда плотина молчания готова вот-вот прорваться. А Хвостик не был неосведомленным человеком. Он только был угнетен своими личными обстоятельствами. Мы уже сказали, что он понимал серьезность создавшегося положения. Более того, это была ужасающая перспектива: увидеть, как этот молодой человек тяжко борется на том самом ринге, который он, Хвостик, совсем недавно с благодарностью покинул легко и бодро.
Для Дональда лето уже наступило, хотя было еще начало мая, с нерасцветшей сиренью и время от времени развевающимися лентами прохлады, если не холода, в саду и на улице. Но в нем самом был тот мрак, который иной раз зарождается в нас от сильной жары и нестерпимо яркого летнего солнца, заодно с ощущением, будто ты связан по рукам и ногам. Листва была светло-зеленой. Для Дональда она уже потемнела.
Они обедали вместе с Августом, который сразу же после обеда откланялся с лукавой усмешкой. Хвостик и Дональд вышли в холл и сели в кресла. Им подали кофе. Затем Дональд едва не заговорил о том, что на самом деле еще не было свершившимся фактом. Но он сделал всего лишь одно замечание: что, живя в двух странах, в конце концов в обеих перестаешь чувствовать себя дома.
* * *
В действительности именно это было для него очень ощутимо и создавало угрожающе шаткий фон, его самого тоже шатало с тех пор, как кран поднял его с постамента, на котором он стоял доныне (лучше бы сказать фундамента!), и постамент этот был не что иное, как его совместная жизнь с отцом. А теперь ему предстояло жить совсем одному, что уже заранее омрачало наступающее лето, да вдобавок это неизбежное теперь прощание с Веной. Он позвонил в издательство. Она еще не возвращалась.
Между тем до отъезда надо было кое-что уладить, но теперь все шло гладко, одно без труда вытекало из другого. Обстоятельства складывались так, словно они, эти обстоятельства, затаили дыхание. Такое можно наблюдать не только в счастье, но и в несчастье. Даже Август, которого Дональд видел только за столом, казалось, немного придержал свой жирный смех. Из какого-то его замечания, брошенного вскользь, можно было заключить, что здесь играли в теннис с его друзьями и барышнями Харбах. Дональд не выказал к этому ни малейшего интереса.
На следующий день, когда он возвращался домой к ленчу, ему навстречу попались два гимназиста, а именно Васмут и Кламтач. Он остановился с этими вежливо приветствовавшими его молодыми людьми. Он ведь был в Англии? Да. А когда вернется из путешествия мистер Роберт Клейтон? Дональд отвечал, что ждет его со дня на день. Ведь он сам через несколько дней уезжает на месяц на Ближний Восток.
– Вам можно позавидовать! – воскликнул Васмут.
– Там будет жарковато, – сказал Дональд.
– Значит, опять не судьба вам, мистер Клейтон, быть у нас судьей, как это было задумано с самого начала, – сказал Зденко. – Хериберт и Август мне тогда еще об этом сказали. Собственно, мы на вашем корте вообще играли без судьи. Фройляйн Бахлер все время лежала в шезлонге на террасе, а таким образом ваш отец тоже не мог все время быть с нами. Она, по-моему, не играет в теннис.
Блеклая молния метнулась от Дональда к Августу, этому скрытному хитрюге с его всегда ровной манерой поведения. Теперь, когда Дональд сам падал – а в эти мгновения он знал, что падает, чувствовал это впервые в жизни, постоянная уловка, с помощью которой эта скотина («brute», сейчас он думал по-английски) Август умудрялся всех и вся не принимать всерьез, показалась ему бесконечно ненавистной: потому, что намного превосходила собственное его бессилие.
* * *
Молодые люди учтиво распрощались с англичанином. Тот повернул (Кламтач посмотрел ему вслед), потерял равновесие, видимо наступив на брошенную кем-то по южной привычке фруктовую кожуру, медленно выпрямился и, вновь обретя равновесие, ушел, еще раз кивнув гимназистам. Зденко, идя дальше, искоса взглянул на Хериберта, который, по-видимому, ничего не заметил. Но теперь снова закачались окружающие его стены, словно на петлях или на шарнирах. Однако они не закрылись так плотно, как это было через некоторое время после появления госпожи Генриетты Фрелингер. Сейчас осталась щелка. В нее Зденко с удивлением наблюдал воздействие, которое он оказал на совсем чужую жизнь, предоставив ей дальше идти своим чередом. («Мы», мог бы подумать Зденко, ибо Хериберт с тем же правом мог бы упомянуть об этой фройляйн Бахлер.)
Так Зденко впервые в жизни столкнулся с обстоятельствами, о которых никогда не думал и о которых ровно ничего не знал, иными словами, с доселе неведомым ему объектом. И этот объект не свалился ему на голову, точно свинцовый плод познания, для этого он был слишком хрупок, но внезапно все вокруг стало куда привлекательнее, куда интереснее для исследования: жизнь, в которой участвовал он, Зденко, по другой, не тот, хорошо ему известный Зденко. Так на улице за несколько секунд он сдал своего рода экзамен на аттестат зрелости, который в гимназии предстоял ему только через год. Правда, в «Меттерних-клубе» подготовка к таковому уже значительно продвинулась.
Продолжая смотреть в щелку, мысля конкретно и наглядно (любое проявление ума и одаренности находит свое отражение в отдельных достоинствах человека), он без труда уяснил себе образ мыслей и нравственную нечистоплотность толстяка Августа и в общих чертах знал уже, пожалуй, не меньше, чем Хвостик, сознавал даже серьезность положения. Сейчас он увидел Роберта Клейтона, слезавшего с просмоленной до черноты судейской скамьи; Роберт отправился к Монике на террасу и застрял там.
Зденко предстояло лето у хорватской тетки, долгое, пустое, пространное лето. Разумеется, родители пожелают иметь его четвертым игроком в тарок. Но пожалуй, в тех краях возможны и дальние прогулки. И выберется время подумать.
* * *
Моника проснулась с первым светом дня, села на кровати, придвинулась к Роберту и склонилась над ним, погруженным в глубокий сон. Выражение лица у него было как у маленького серьезного мальчика. Так вблизи, без помех она с наслаждением смотрела на его голову, его лицо. У хороших лошадей «головы сухие», говорят лошадники, чистые, ничего лишнего: ни скоплений жира, ни припухлостей, складок или желваков. Так и у Роберта. Ее ладонь, раскрытая и бессильная от восторга, лежала рядом с его головой. Спящий чуть повернулся, потом еще раз, и его выпуклый затылок оказался в ее ладони. Она обхватила его и слегка сжала пальцы. Вспоминая очень четко плоский затылок Дональда, она поняла с еще небывалой ясностью бутафорскую роль сына, стоявшего впереди отца как ширма или, вернее, неплотно прикрытая дверь. Она прошла в нее. И теперь почувствовала, что ее правая рука держит какой-то сосуд, а в нем содержится не более и не менее как тайна ее собственной жизни.
Слишком взволнованная, чтобы лежать без движения, она тихонько поцеловала Роберта в лоб, осторожно выпростала руку из-под его головы, выскользнув из кровати, накинула пеньюар. Застекленная дверь на маленький балкон чуть-чуть скрипнула. Моника испуганно оглянулась на спящего. Но он не проснулся. Лежал и спал. Такой как есть, не больше, не меньше, просто мужчина.
Она вышла на балкон и неплотно прикрыла дверь. Ее встретила свежесть, более того, холодок и полная тишина, которую не нарушал даже шорох, весь дом спал… Остроконечные вершины елей на крутом склоне под нею вдали сливались в сплошной мшистый поток, волнистыми уступами устремлявшийся в долину и сливавшийся в одно темное пятно. Оттуда вставал день, и его росток, окутанный парящими нежными облачками, сиявшими пунцовым и желтым цветом, был единственным уголком неба среди пустой и ровной голубизны, привлекавшим к себе взор.
Моника была здесь своя, на этом балконе перед одной из комнат гостиницы в горах, чуть пониже перевала над головокружительной пропастью, как была своя и там, где провела сегодняшнюю ночь. Неожиданно выглянул краешек солнечного шара – точно кусок добела раскаленного угля. Ни один луч еще не проникал сюда. Моника вернулась в комнату. Дверь скрипнула. Она юркнула в постель и свернулась клубочком под одеялом. Боб все еще спал.
* * *
На самом деле он из-за локомобилей ненадолго съездил в Венгрию, затем из Оденбурга [25]25
Старое австро-венгерское название; теперь город Шопрон (Венгрия).
[Закрыть]через Зауэрбрунн выехал в Винер-Нойштадт и сюда, в горы, где хотел дождаться Монику. Она тоже приехала не в своем автомобиле, а по железной дороге, на последней станции перед Земмерингским виадуком наняла фиакр и за три с половиной часа добралась доверху.
Место здесь было уединенное, особенно в будни и до начала каникул.
Связь поддерживал Хвостик. Это уже само по себе свидетельствует о позиции, которую он занял, и о доверии, которое ему оказывалось. Старина Пепи сообщил и о прибытии Дональда. Телефонные разговоры Хвостик вел из своей квартиры и всегда по-английски.
Приезд Дональда не был причиной для того, чтобы сократить пребывание здесь, в горах. Но у старика Гольвицера должен был состояться вечерний прием («soirée», как говорили тогда), и Клейтон на сей раз не мог там не быть, ибо пропустил прошлый прием, а тем паче теперь, перед поездкой Дональда на Восток, поскольку тот на обратном пути должен был заехать в Бухарест в фирму «Гольвицер и Путник». Моника тоже была приглашена. Для нее, конечно, ничего не значило пренебречь этим приглашением. Но «дело» не допускало ее слишком долгого отсутствия.
Итак, им было дано лишь несколько дней, и эти дни стали плодом внезапного решения обоих, когда выяснилось, что Роберту необходимо поехать в Венгрию. Это было своего рода бегством. Они жаждали освобождения. Даже в квартирке Моники на Аухофштрассе оба не чувствовали себя отъединенными от того, что было до этих пор. Здесь же они были ото всего укрыты, отделены, как бы изгнаны из нашего мира в мир потусторонний; они даже и вообразить себе не могли, что будут ограждены так надежно. Над ними смыкались бесконечные леса; самоуспокоенность, тишина казались ясно видимыми сквозь просеки и вырубки. В те давние времена, когда молодой император еще охотился в этих местах на лесную дичь, крутые склоны были опоясаны дорожками. Остатки этих дорожек, усыпанных пружинящими хвойными иглами, давали возможность бесцельно гуляющей парочке заглянуть в самую чащу леса, испещренную затейливыми солнечными узорами, опушенную мшистой каймою. Лес поглощал. Он не кончался, не начинался, всю местность заодно с Робертом и Моникой он завернул, закутал в свой темный плащ.
Итак, когда пришло время, они уехали из лесу в Вену – два с лишним часа рысцой под гору, – изредка даже пуская в ход тормоз, сперва по извилинам перевала с дальним и открытым видом, потом по нижним населенным пунктам до самой железнодорожной станции. Возвращение, погружение в будни, глубокое изумление уже на перроне Пайербах-Райхенау, где имелся газетный киоск и служитель гостиницы, доставивший их багаж.