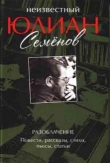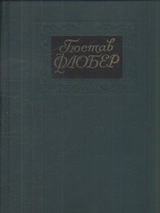
Текст книги "Собрание сочинений в 4-х томах. Том 4"
Автор книги: Гюстав Флобер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
На дворе стемнело; хозяин грубым тоном приказал жене принести свечу к нему в кабинет.
На выбеленной стене были пришпилены булавками литографии левых ораторов. Над столом елового дерева висел шкафчик с книгами. Сиденьями служили единственный стул, табуретка и старый ящик из-под мыла. Учитель делал вид, что не замечает окружающей нищеты; его лицо с ввалившимися от голода щёками и узким лбом выражало гордость и дикое упрямство. Никогда в жизни он не сдастся.
– Вот что меня поддерживает, – сказал учитель, указывая на полку с кипой газет. И тут он с лихорадочным волнением поведал гостям свой символ веры: разоружение армии, упразднение магистратуры, уравнение заработков, равенство состояний; тогда наступит золотой век в форме республики во главе с диктатором, который энергично возьмётся за дело.
Потом учитель достал бутылку анисовки, три стакана и провозгласил тост за героя, за бессмертную жертву, за великого Максимилиана.
В эту минуту на пороге появилась чёрная сутана аббата.
Поклонившись всей компании, он подошёл к хозяину и спросил, понизив голос:
– Как дела со святым Иосифом?
– Они ничего не дали, – ответил тот.
– Это ваша вина!
– Я сделал всё, что мог.
– Вот как?
Бувар и Пекюше из деликатности собрались уходить. Пти усадил их снова и спросил, обратившись к священнику:
– Это всё?
Аббат Жефруа, помедлив, заметил, смягчая выговор учителю кислой улыбкой:
– Говорят, вы уделяете недостаточно внимания священной истории.
– Священная история? Велика важность! – воскликнул Бувар.
– Что вы имеете против неё, сударь?
– Да ничего. Только, пожалуй, есть вещи поважнее, чем анекдоты про Иону и царей Израиля.
– Думайте, что хотите, воля ваша! – сухо отрезал священник и продолжал, не обращая внимания на посторонних или же в пику им: – Катехизису уделено слишком мало часов.
Пти пожал плечами.
– Берегитесь. Вы потеряете пансионеров!
Заработок по десяти франков в месяц с ученика был главной его доходной статьей. Но вид поповской сутаны выводил его из себя.
– Ну и пускай, можете мстить, сколько хотите.
– Духовному лицу не подобает мстить, – ответил священник хладнокровно. – Только напоминаю вам, что согласно закону пятнадцатого марта мы обязаны наблюдать за начальным обучением.
– Ещё бы, я знаю! – воскликнул школьный учитель. – За этим следят даже жандармские полковники. Не хватает только сельского стражника! Для полноты картины!
Он рухнул на табуретку, едва сдерживаясь, кусая себе руки, мучаясь сознанием своего бессилия.
Аббат тихонько тронул его за плечо.
– Я не хотел вас огорчать, друг мой. Успокойтесь, будьте благоразумны... Скоро Пасха; я надеюсь, что вы подадите пример и придёте к причастию, как другие.
– Ну уж это слишком! Как? Я должен исполнять эти глупые обряды?
Услышав подобное кощунство, священник побледнел. Его глаза метали молнии, подбородок дрожал.
– Умолкните, несчастный! Перестаньте! А ваша жена ещё стирает церковное бельё!
– Так что же? Чем она провинилась?
– Она постоянно пропускает церковную службу. И вы в церковь не ходите!
– Э-э! За это учителей не увольняют.
– Их можно перевести в другую школу.
Аббат замолчал. Он отошёл в тень, в глубину комнаты. Хозяин задумался, понурив голову.
Если даже они переберутся на другой конец Франции, потратив на переезд последние гроши, всё равно там окажутся под другими именами тот же священник, тот же ректор, тот же префект; все, кончая министром, казались ему звеньями одной тяжёлой цепи, его сковавшей. Он уже получил первое предупреждение, будут и другие. А что дальше? И, как в бреду, ему представилось, что он скитается по большим дорогам, с мешком за плечами, вместе с любимой семьёй, и протягивает руку к почтовой карете, прося их подвезти.
В эту минуту на кухне его жена закашлялась, грудной ребёнок запищал, а мальчуган заплакал.
– Бедные дети! – ласково сказал священник.
Отец зарыдал.
– Хорошо! Согласен! Я сделаю всё, что вы требуете.
– Будем надеяться, – проговорил аббат, отвешивая прощальный поклон.
– Доброй ночи, господа!
Учитель продолжал сидеть, закрыв лицо руками. Он отстранил подошедшего к нему Бувара.
– Нет, оставьте меня! Хоть бы мне подохнуть! Несчастный я человек.
Друзья возвратились домой, благословляя судьбу за свою независимость. Их ужасало могущество духовенства.
Его влиянием пользовались для поддержания общественного порядка. Республика доживала последние дни.
Три миллиона избирателей были лишены права участвовать во всеобщем голосовании. Залоги для издателей газет были повышены. Цензура снова введена. Просмотру подвергались даже романы-фельетоны. Идеи философов-классиков считались опасными. Буржуа провозглашали главенство материальных интересов, а народ как будто был доволен.
Деревенский люд возвращался к своим прежним господам.
Граф де Фаверж, владевший земельной собственностью в Эвре, вошёл в Законодательное собрание, и его переизбрание в муниципальный совет Кальвадоса было обеспечено.
Он счёл своим долгом устроить завтрак для наиболее влиятельных лиц в округе.
Гостям был оказан самый любезный приём; их поразил вестибюль, где три лакея помогали им снять пальто, бильярдная с двумя гостиными в виде анфилады, растения в китайских вазах, бронзовые статуэтки на каминах, золочёные багеты на панелях, тяжёлые занавеси, широкие кресла, роскошная обстановка. А в столовой, при виде стола, уставленного серебряными блюдами с жарким, рядами бокалов перед каждым прибором, множеством закусок и огромным лососем посредине, все лица просияли.
Всего было семнадцать человек, в том числе два крупных землевладельца, супрефект из Байе и какой-то господин из Шербура. Граф де Фаверж извинился перед гостями, что его супруга не может принять их по случаю мигрени. После того как приглашённые отдали дань восхищения грушам и винограду, переполнявшим четыре корзины по углам, разговор зашёл о важной новости: проекте высадки в Англии войск генерала Шангарнье.
Герто одобрил этот план в качестве военного, священник – из ненависти к протестантам, Фуро – в интересах торговли.
– Вы проповедуете средневековые взгляды, – сказал Пекюше.
– В средних веках было много хорошего, – возразил Мареско. – Хотя бы наши соборы...
– А сколько злоупотреблений...
– Что за беда! Если бы не произошла революция...
– Да, революция, все зло от неё! – сказал священник со вздохом.
– Но революции содействовали все, даже аристократы (извините меня, граф), они были в союзе с философами.
– Что вы хотите! Людовик Восемнадцатый узаконил грабеж. С тех пор парламентский строй подрывает все основы...
Подали ростбиф; несколько минут слышен был только стук вилок, чавканье да шаги лакеев, которые, скользя по паркету, повторяли два слова: «Мадера! Сотерн!».
Беседа возобновилась благодаря незнакомому господину из Шербура, который спросил, как удержаться на краю пропасти.
– У афинян, которые имеют нечто общее с нами, – заметил Мареско, – Солон обезоружил демократов, повысив избирательный ценз.
– Лучше бы распустить Палату, – заявил Гюрель, – вся смута исходит из Парижа.
– Необходима децентрализация! – сказал нотариус.
– С широкими полномочиями, – добавил граф.
По мнению Фуро, местные власти должны быть полными хозяевами в округе, могут даже запретить проезд по своим дорогам, если сочтут это нужным.
В то время как одно блюдо сменяло другое – куры под соусом, раки, шампиньоны, салат из овощей, жареные жаворонки, – сотрапезники обсудили множество проблем: улучшение системы налогов, преимущества крупного землевладения, отмену смертной казни; супрефект не упустил случая привести по этому поводу словцо одного остряка: «Пусть господа убийцы начнут первыми!»
Бувар был поражён контрастом между окружавшими его прекрасными вещами и пошлыми разговорами; ему всегда казалось, что слова должны соответствовать обстановке и под высокими потолками должны рождаться великие мысли. Это не мешало ему раскраснеться от удовольствия, и за десертом он видел все блюда и компотницы как бы сквозь туман.
Пили разные вина – бордо, бургундское, малагу... Граф де Фаверж, зная вкусы соседей, велел откупорить шампанское. Собутыльники, дружно чокаясь, предложили тост за успех выборов, а попозже, в четвёртом часу перешли в курительную, чтобы выпить кофе.
На столике, среди номеров «Универ» валялась карикатура из «Шаривари»; там был изображён гражданин, у которого из-под фалд сюртука свешивался хвост с глазом на конце. Мареско объяснил смысл карикатуры. Все долго хохотали.
Гости пили ликеры, стряхивая пепел от сигар на шёлковую обивку. Аббат, убеждая в чём-то Жирбаля, нападал на Вольтера. Кулон дремал. Граф де Фаверж говорил о своей преданности Шамбору.
– Пчелиные ульи доказывают превосходство монархии.
– Зато муравейники – превосходство республики.
Впрочем, доктор уже больше не стоит за республику.
– Вы правы! – сказал супрефект. – Форма государственного строя значения не имеет.
– Если сохранена свобода! – вмешался Пекюше.
– Честному человеку не нужна ваша свобода, – ответил Фуро. – Я не мастер говорить речи, я не журналист. Но уверяю вас: Франция хочет, чтобы ею управляла железная рука.
Все хором стали призывать спасителя отечества.
Уходя, Бувар и Пекюше слышали, как граф де Фаверж говорил аббату Жефруа:
– Необходимо восстановить повиновение. Государство погибнет, если будут обсуждать его указы. Божественное право – вот в чём единственное спасение.
– Вы совершенно правы, граф.
Бледные лучи октябрьского солнца протянулись за лесом, дул свежий ветер; шагая домой по сухим листьям, друзья с облегчением дышали полной грудью.
Всё, чего они не смели высказать в замке, вырвалось наружу.
– Какие идиоты! Какая низость! – восклицали они. – Трудно вообразить столь отсталые взгляды! Да и что, собственно, значит божественное право?
Приятель Дюмушеля, профессор, объяснивший им законы эстетики, ответил весьма учёным, обстоятельным письмом.
Теорию божественного права сформулировал при Карле II англичанин Фильмер.
Вот она:
«Создатель даровал первому человеку господство над миром. Оно перешло к его потомкам, власть короля исходит от бога. „Король – образ бога“, – пишет Боссюэ. Отцовская власть в семье учит повиноваться единой воле. Короли созданы по образцу отцов».
Локк опровергает эту доктрину. Родительская власть отличается от власти монарха, ибо любой подданный имеет те же права по отношению к своим детям, как монарх – к своим. Королевская власть существует лишь благодаря народу, государь – избранник народа, – об этом напоминает старинный обряд коронования, когда два епископа, указывая на короля, спрашивали у знатных сеньоров и у простолюдинов, признают ли они его своим государем.
Следовательно, власть исходит от народа. Он имеет право «делать всё, что хочет» – по Гельвецию, «изменить государственный строй» – по Вателю, восстать против несправедливости – согласно Глафею, Отману, Мабли и прочим. А св. Фома Аквинский разрешает народу свергнуть тирана. По словам Жюрье, «народ даже не обязан быть правым».
Удивлённые подобной аксиомой, друзья достали Общественный договор Руссо.
Пекюше одолел его до конца; потом, закрыв глаза и запрокинув голову, приступил к разбору.
Было якобы заключено соглашение, в силу которого личность отказалась от своей естественной свободы.
Общество со своей стороны обязалось защищать личность от несправедливостей природы и передать ей в собственность полагающиеся ей блага.
Но где доказательства, что такой договор был заключён?
Нет доказательств! К тому же общество не даёт никаких гарантий. Граждане занимаются только политикой. Но нужны и ремесленники, поэтому Руссо рекомендует ввести рабство. Наука погубила человеческий род. Театр развращает нравы, деньги ведут к гибели, государство должно заставить народ исповедовать какую-нибудь религию под страхом смерти.
«Как? – удивились друзья. – И это проповедник демократии?»
Все реформаторы подражали Руссо, и потому они достали Исследование социализма Морана.
В первой главе излагается доктрина сенсимонизма.
Во главе государства стоит Отец, одновременно и папа и император. Право наследования отменяется, всё имущество, движимое и недвижимое, переходит в общественный фонд, который распределяется по принципу иерархии. Общественным достоянием управляют промышленники. Но бояться нечего: вождём станет тот, «кто больше любит».
Одного недостаёт – женщины. От женщины зависит спасение мира.
– Я ничего не понимаю.
– Я тоже.
Они углубились в фурьеризм.
Все несчастья проистекают от принуждения. При свободном проявлении страстей наступит гармония.
Наша душа заключает двенадцать основных страстей: пять эгоистических, четыре анимических, три распределяющих. Первые стремятся к развитию личности, вторые – к группам, последние – к группам групп или сериям, совокупность которых образует фалангу, общину в тысячу восемьсот человек, живущих во дворце. Каждое утро фалангистов увозят в каретах на полевые работы и каждый вечер привозят обратно. Все ходят со знамёнами, устраивают празднества, едят пироги. Любая женщина, если хочет, может иметь трёх мужчин: мужа, любовника и производителя. Для холостяков в каждой фаланге имеется штат баядерок.
– Это бы мне подошло! – сказал Бувар и погрузился в мечты о «гармоническом» обществе.
Благодаря улучшению климата земля станет ещё прекраснее; путём скрещивания рас человеческая жизнь удлинится. Люди научатся управлять облаками, как теперь управляют молнией, по ночам над городами будут идти дожди, чтобы смыть всю грязь. Корабли станут бороздить полярные моря, оттаявшие под лучами северного сияния. Всё сущее происходит от сочетания флюидов, мужского и женского, излучаемых полюсами земли; северное сияние – не что иное, как течка планеты, оплодотворяющее истечение.
– Это выше моего понимания, – сказал Пекюше.
После Сен-Симона и Фурье задача свелась к реформе заработной платы.
Луи Блан в интересах рабочих предлагает отменить внешнюю торговлю; Лафарель требует облегчить труд машинами; ещё кто-то – понизить акциз на вино, или перестроить цехи, или раздавать даровую похлёбку. Прудон изобретает единообразный тариф и требует сахарной монополии.
– Все эти социалисты стремятся к тирании, – заметил Бувар.
– Да что ты!
– Право же!
– Ты говоришь вздор!
– А ты меня возмущаешь.
Они выписали сочинения, содержание которых излагалось в книге Морана. Бувар, отметив несколько страниц, сказал:
– Читай сам! Здесь нам предлагают, как пример для подражания, есеев, Моравских братьев, Парагвайских иезуитов, вплоть до тюремного режима. У икарийцев на завтрак даётся всего двадцать минут, женщины рожают в больнице, а книги запрещено печатать без разрешения властей.
– Но ведь Кабе идиот.
– А вот что сказано у Сен-Симона: публицисты должны представить всё ими написанное в комитет промышленников. А вот тебе из Пьера Леру: закон принуждает граждан выслушивать оратора до конца. А вот из Огюста Конта: священники наставляют молодёжь, руководят умственным развитием и поручают властям регулировать деторождение.
Цитаты привели Пекюше в уныние. Но вечером, за обедом, он затеял спор:
– Я согласен, что в трудах утопистов встречаются нелепости, и всё же они заслуживают нашего восхищения. Их удручало уродство жизни, и, чтобы её изменить, сделать прекраснее, они готовы были всё претерпеть. Вспомни: Томасу Мору отрубили голову, Кампанеллу семь раз пытали, Буонаротти заковали в цепи, Сен-Симон умер в нищете, а сколько было других! Все они могли бы жить спокойно, так нет! Они шли своим трудным путём, с высоко поднятой головой, как герои.
– Неужели ты веришь, – сказал Бувар, – что теории какого-то господина могут изменить мир?
– Всё равно! – воскликнул Пекюше. – Теперь не время погрязать в эгоизме. Попытаемся отыскать лучшую систему.
– Значит, ты надеешься её найти?
– Разумеется.
– Это ты-то?
От хохота у Бувара тряслись и плечи и живот. Красный как рак, заткнув салфетку под мышкой, он поддразнивал приятеля, повторяя:
– Это ты-то? Ха, ха, ха!
Пекюше вышел из столовой, громко хлопнув дверью.
Жермена кликала его по всему дому и едва нашла; он сидел впотьмах, в нетопленой комнате, забившись в кресло и нахлобучив картуз на лоб. Он не был болен, но о чём-то сосредоточенно думал.
Когда обида прошла, Бувар и Пекюше решили, что их научным занятиям не хватает основы: знакомства с политической экономией.
Они погрузились в изучение спроса и предложения, капитала и арендной платы, ввоза и вывоза, запретительной системы.
Однажды ночью Пекюше проснулся от скрипа сапог в коридоре. Накануне он, как обычно, сам запер дом и задвинул засовы; он окликнул Бувара, который крепко спал.
Они долго прислушивались, лежа под одеялами, не шевелясь. Шум больше не повторился.
Они спрашивали служанок, но те ничего не слыхали.
На другой день, прогуливаясь в саду, друзья заметили следы подошв на куртине и две сломанные жерди в ограде: очевидно, кто-то через неё перелезал.
Надо было заявить об этом стражнику.
Не найдя его в мэрии, Пекюше завернул в бакалейную лавочку.
Кого же он увидел в дальнем углу за столиком, рядом с Плакваном и другими собутыльниками? Горжю! Он был разодет по-городскому и угощал вином всю компанию.
Друзья не придали значения этой встрече.
Продолжая изыскания, Бувар и Пекюше подошли к проблеме прогресса.
В прогрессе науки Бувар не сомневался. Но в литературе он его что-то не замечал; даже если благосостояние людей повышается, то прелесть жизни исчезает.
Чтобы убедить друга, Пекюше принёс лист бумаги:
– Вот, смотри, я провожу наискось волнистую линию. Те, кто прошли бы по этому пути, при каждом понижении, не могли бы видеть горизонта. Между тем линия идёт вверх и, несмотря на изгибы, достигнет вершины. Такова схема прогресса.
В эту минуту вошла госпожа Борден.
Это было 3 декабря 1851 года. Вдова принесла газету.
Они быстро пробежали воззвание к народу, прочли, что Палата распущена, а депутаты арестованы.
Пекюше побледнел. Бувар молча уставился на вдову.
– Как? Вы ничего не говорите?
– Что же я могу сказать, по-вашему?
Они даже забыли предложить стул г-же Борден.
– А я-то спешила, хотела вас обрадовать! Ох, вы совсем не любезны сегодня!
Обиженная их невежливостью, она ушла.
От удивления они лишились дара речи. Потом отправились в посёлок, чтобы поделиться с кем-нибудь своим возмущением.
Мареско, принявший их за столом, заваленным бумагами, держался другого мнения. Кончилась болтовня в Палате, и слава богу. Теперь политику будут вести по-деловому.
Бельжамб даже не слыхал о перевороте, к тому же ему на это наплевать.
На рынке они остановились поговорить с Вокорбеем.
Доктор уже оправился от изумления.
– Напрасно вы так волнуетесь, не стоит портить себе кровь.
Фуро прошёл мимо них, насмешливо пробурчав:
– Сели в лужу, демократы!
А капитан, гулявший под руку с Жирбалем, крикнул издали:
– Да здравствует император!
Один Пти мог понять их чувства, и Бувар постучал ему в окошко; учитель вышел из класса.
Он находил чрезвычайно забавным, что Тьера посадили в тюрьму. Наконец-то народ отомщён.
– Ну, господа депутаты, теперь ваш черёд!
Жители Шавиньоля одобряли расстрелы на бульварах. Нечего щадить побеждённых, нечего жалеть пострадавших. Кто поднимает восстание – тот негодяй.
– Возблагодарим всевышнего! – говорил священник. – А после него Луи Бонапарта. Он призывает к себе самых достойных людей. Граф де Фаверж будет сенатором.
На следующий день к Бувару и Пекюше явился Плакван.
Почтенные господа слишком много разговаривают. Он даёт им совет помалкивать.
– Хочешь знать мое мнение? – сказал Пекюше. – Так как буржуа жестоки, рабочие завистливы, священники раболепны, а народ в конце концов признает любого тирана, лишь бы ему не мешали хлебать суп из котла, то Наполеон правильно поступил. Пускай он затыкает им рты, топчет их, истребляет! Они заслуживают ещё худшей кары за их ненависть к праву, за их подлость, глупость, слепоту.
Бувар задумался.
– Вот тебе и прогресс! Экое надувательство!
И добавил:
– А уж политика! Какая гнусность!
– Это не наука, – заявил Пекюше. – Военное искусство гораздо серьёзнее – там можно предвидеть, что произойдёт. Давай этим займёмся.
– Нет уж, слуга покорный, – отозвался Бувар. – Мне всё осточертело. Продадим-ка лучше нашу лачугу и уплывём к дикарям, к чёрту на рога!
– Воля твоя!
Во дворе Мели накачивала воду.
На деревянном насосе был длинный рычаг. Опуская его в колодец, она нагибалась, и тогда видны были до самых икр её ноги в синих чулках. Потом девушка быстрым движением вскидывала правую руку, слегка повернув голову, и Пекюше, глядя на неё, испытывал какое-то совсем новое чувство, наслаждение, невыразимое очарование.
7
Потянулись тоскливые дни.
Боясь разочарований, они перестали заниматься наукой; жители Шавиньоля сторонились их, из официальных газет невозможно было ничего почерпнуть, и они оказались в глубоком одиночестве, в полной праздности.
Порою они раскрывали книгу, но вскоре откладывали её; к чему читать? Иной раз им приходило в голову, что пора почистить сад – через четверть часа их уже одолевала усталость; или что следует осмотреть ферму – они возвращались домой полные отвращения; или что надо заняться домашним хозяйством – Жермена начинала вопить; от всего этого они отказались.
Бувар надумал было составить каталог музея, но потом пришёл к выводу, что все их безделушки – вздор.
Пекюше занял у Ланглуа ружьё, чтобы пострелять жаворонков; ружьё взорвалось при первом же выстреле и чуть не убило его.
Итак, они скучали, как скучают в деревне, когда белесое небо томит своим однообразием сердце, утратившее надежду. Прислушиваешься к шагам человека в сабо, проходящего вдоль изгороди, или к каплям дождя, падающим на землю с крыши. Время от времени опавший лист коснётся оконного стекла, потом закружится и исчезнет. Ветер доносит издалека неясный похоронный звон. Из хлева слышится мычанье коровы.
Они зевали, сидя друг против друга, заглядывали в календарь, посматривали на часы, ждали, когда настанет время обедать; а горизонт был всё тот же: прямо перед ними – поля, справа – церковь, слева – вереница тополей; вершины их раскачивались в тумане беспрерывно, с жалобным скрипом.
Некоторые привычки, на которые они до сих пор старались не обращать внимания, теперь раздражали их. Пекюше становился совершенно несносен тем, что постоянно клал свой носовой платок на скатерть; Бувар не расставался с трубкой и при разговоре раскачивался из стороны в сторону. У них возникали распри из-за кушаний или из-за качества масла. Сидя друг возле друга, они думали о разных вещах.
Неожиданное событие ошеломило Пекюше.
Два дня спустя после Шавиньольского бунта, прогуливаясь в надежде отвлечься от политических огорчений, он вышел на дорогу, осенённую густыми вязами, и вдруг услышал позади себя крик:
– Остановись!
То была госпожа Кастильон. Она бежала в противоположную сторону и не заметила его. Мужчина, шедший перед ней, остановился. То был Горжю; они подошли друг к другу неподалеку от Пекюше, от которого их отделял только ряд деревьев.
– Это правда? – спросила она. – Ты идёшь драться?
Пекюше юркнул в ров, чтобы подслушать.
– Ну да, иду драться, – отвечал Горжю. – А тебе-то что?
– И ты ещё спрашиваешь! – воскликнула она, заломив руки. – А если тебя убьют? Ангел мой, не ходи!
Её синие глаза умоляли красноречивее слов.
– Не приставай! Я должен пойти.
Она злобно усмехнулась.
– Значит, другая позволила?
– Не смей о ней говорить!
Он поднял кулак.
– Нет, дорогой мой, нет. Я молчу, я – ни слова!
Крупные слёзы потекли по её щекам в складки воротничка.
Был полдень. Над желтеющей нивой сияло солнце. Вдали плыл верх медленно двигавшейся коляски. В воздухе всё замерло: ни крика птицы, ни жужжания насекомого. Горжю срезал себе тросточку и очищал её от коры. Г?жа Кастильон по-прежнему стояла, опустив голову.
Бедная женщина думала о тщёте всех жертв, о его долгах, которые она покрыла, о будущих платежах, о своей погубленной репутации. Она не жаловалась, а только напоминала ему о днях их любви, когда она каждую ночь ходила к нему в сарай, так что однажды муж, приняв её за вора, выстрелил через окно из пистолета. Пуля до сих пор ещё в стене.
– Как только я увидела тебя, ты показался мне прекрасным, как принц. Я обожаю твои глаза, твой голос, походку, запах.
Она добавила тише:
– Я схожу по тебе с ума!
Он улыбался; он был польщён.
Она обняла его, откинув голову, как бы в благоговении.
– Дорогой! Бесценный! Душа моя! Жизнь моя! Хочешь, поговорим? Скажи, что тебе надобно? Деньги? Так мы их добудем. Я была неправа. Я тебе докучала. Прости меня! Закажи себе платье у портного, пей шампанское, кути, я тебе всё позволяю, всё, всё!
В порыве отчаяния она прошептала:
– Даже её! Только вернись ко мне.
Он склонился к её губам, обхватив её за талию, чтобы она не упала, а она твердила:
– Дорогой мой! Бесценный! Какой ты красавец! Боже, какой красавец!
Пекюше замер во рву, край которого приходился ему под подбородок, и смотрел, еле переводя дыхание.
– Не распускайся! – сказал Горжю. – Из-за тебя я ещё опоздаю на дилижанс. Готовится славная потеха, и я хочу принять в ней участие. Дай мне десять су вознице на выпивку.
Она вынула из кошелька пять франков.
– Ты мне их скоро вернёшь. Чуточку терпения! Ведь он теперь в параличе! Подумай хорошенько! А если хочешь, пойдём в часовню Круа-Жанваль, и там, любовь моя, я перед пресвятой девой поклянусь, что выйду за тебя, как только он умрёт!
– Да муж твой и не собирается умирать!
Горжю пошёл от неё прочь. Она нагнала его, стала цепляться за его плечи.
– Возьми меня с собою! Я буду твоей служанкой. Ведь нужен же тебе кто-то. Только не уходи! Не бросай меня! Легче умереть! Убей меня!
Она валялась у него в ногах, ловила его руки, целовала их; чепец свалился у неё с головы, потом упал гребень, и её короткие волосы разметались. Они были седые на висках. Она смотрела на него снизу вверх, вся в слезах, с покрасневшими веками и припухшими губами; он так озлобился, что оттолкнул её.
– Отвяжись, старуха! Прощай!
Она поднялась, сорвала с груди золотой крестик и кинула ему вслед:
– Вот тебе! Сволочь!
Горжю удалялся, постёгивая тросточкой ветки деревьев.
Госпожа Кастильон не плакала. Рот у неё приоткрылся, взгляд погас; она стояла неподвижно, окаменев от отчаяния; она была уже не живым существом, а всего лишь развалиной.
То, что подсмотрел Пекюше, было для него словно открытием мира, целого мира с ослепительным сиянием, беспорядочным цветением, океанами, бурями, кладами и бездонными пропастями. От этого мира веяло ужасом? Ну что ж! Он стал мечтать о любви, ему захотелось испытать такую же страсть, какая владела этой женщиной, самому внушать её.
Всё же он ненавидел Горжю и однажды в казарме еле удержался, чтобы не выдать его.
Он чувствовал себя униженным при виде тонкой талии любовника г-жи Кастильон, его пушистой бороды, изящных завитков на висках; ведь у него-то самого волосы липли к черепу, как мокрый парик, туловище, облачённое в какую-то хламиду, напоминало диванный валик; у него недоставало двух зубов и вид был хмурый. Он считал, что судьба к нему несправедлива, что он обездолен и что друг разлюбил его.
Бувар каждый вечер оставлял его в одиночестве. После смерти жены ничто не мешало ему подыскать себе другую, и теперь она холила бы его, вела бы хозяйство. Правда, он состарился, теперь уже поздно думать об этом.
Бувар, однако, взглянул на себя в зеркало. Щёки его не утратили румянца, волосы курчавились, как и прежде, все зубы были целы, и при мысли, что ещё может понравиться, он почувствовал прилив молодости. В памяти его возник образ г-жи Борден. Ведь она заигрывала с ним: первый раз – во время пожара скирд, второй раз – у них за обедом, потом в музее, когда он декламировал, а недавно она, забыв обиду, приходила три воскресенья подряд. И он отправился к ней, потом стал бывать чаще в надежде увлечь её.
С тех пор как Пекюше обратил внимание на молоденькую служанку, черпавшую воду из колодца, он стал чаще заговаривать с нею; подметала ли она коридор, развешивала ли белье или орудовала кастрюлями, он не мог вдоволь налюбоваться ею и сам удивлялся своим чувствам. Он пламенел и томился, словно вновь стал подростком; воспоминание о г-же Кастильон, обнимающей Горжю, преследовало его.
Он стал расспрашивать Бувара о том, как ведут себя распутники, когда хотят покорить женщину.
– Делают подарки, угощают в ресторанах.
– Так, так. А дальше?
– Некоторые женщины делают вид, будто упали в обморок, чтобы их отнесли на диван, другие нарочно роняют носовой платок. Лучшие из них откровенно назначают свидание.
Бувар пустился в описания; они воспламеняли воображение Пекюше, как непристойные картинки.
– Первое правило – не верить их словам. Я знавал таких, которые казались святыми, а на самом деле были настоящими Мессалинами! Прежде всего – смелость.
Но смелым не становишься по заказу. Пекюше со дня на день откладывал решение, да и присутствие Жермены смущало его.
Надеясь, что она потребует расчёта, он заставлял её всё больше работать, не пропускал случая сделать ей замечание, когда она напивалась, вслух возмущался её нечистоплотностью, леностью и добился того, что ей отказали от места.
Теперь он был свободен!
С каким нетерпением ожидал он момента, когда Бувар уйдёт из дома! Как билось у него сердце, когда за Буваром захлопывалась дверь!
Мели шила за столиком у окна, при свече; время от времени она зубами перекусывала нитку, потом прищуривалась, чтобы продеть её в ушко.
Прежде всего он поинтересовался, какого рода мужчины ей нравятся. Такие, например, как Бувар? Вовсе нет; она предпочитает худых. Он осмелился спросить, были ли у неё любовники.
– Никогда!
Подойдя поближе, он любовался её тонким носиком, маленьким ртом, контуром её лица. Он говорил ей комплименты и призывал быть умницей.
Склоняясь над нею, он видел под корсажем белые выпуклости груди, от которых исходило тёплое благоухание, согревавшее ему щёку. Однажды вечером он прикоснулся губами к пушку на её затылке, и его охватил трепет, проникший до мозга костей. В другой раз он поцеловал её в подбородок и еле удержался, чтобы не укусить, так упоительна была её кожа. Она ответила на его поцелуй. Комната завертелась. Глаза его заволокло туманом.
Он подарил ей башмаки и часто угощал рюмочкой анисовой...
Чтобы помочь ей, он вставал спозаранку, колол дрова, разжигал плиту, простирал свою заботу до того, что вместо неё чистил обувь Бувара.
Мели не падала в обморок, не роняла платок, и Пекюше не знал, на что решиться; желание его распалялось от страха утолить его.
Бувар упорно ухаживал за г-жой Борден.
Она принимала его несколько чопорно, затянутая в сизое шёлковое платье, которое потрескивало, как конская сбруя, и при этом для важности играла своей длинной золотой цепочкой.