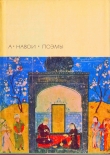Текст книги "Хосров и Ширин"
Автор книги: Гянджеви Низами
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Хосров узнает о поездке Ширин. Гибель Ферхада
Вседневно хитростно искал владыка мира
Каких-нибудь вестей о действиях кумира.
Он больше тысячи лазутчиков имел.
Был каждому из них дан круг особых дел.
Лишь пальчиком Луна дотронется до носа,
Они спешат к царю для нового доноса.
Когда на Бисутун взошла Ширин и там
Узрела кряж сродни булатным крепостям,—
Все соглядатаи промолвили владыке:
«Ферхад увидел рай в ее прекрасном лике,
И сила дивная в Ферхаде возросла:
Силач взмахнет киркой – и валится скала.
Восторгом блещет он, в его душе разлитым.
Он, меж гранитных глыб, сам сделался гранитом.
Железом, что дробит угрюмых скал табун,
Сутулой сделает он гору Бисутун.
Воинственен, как лев, твой недоброжелатель
И рвет недаром кряж, ведь он – кладоискатель.
Лисица победит, в уловках зная толк,
Хоть в состязание с ней вступит сильный волк.
Хоть груда ячменя увесистей динара,
Весы шепнут: «Динар, ты ячменю не пара».
Коль с месяц он свою еще промучит грудь, —
То из спины горы наружу выйдет путь».
И шах изнемогал от этой ярой схватки.
Как сохранить рубин? Не разрешить загадки!
И старцев он спросил, гоня кичливость прочь:
«Какими мерами могли бы вы помочь?»
И старцы молвили, не медля ни минуты:
«Коль хочешь, шахиншах, распутать эти путы,
Ты дай Ферхаду знать среди его вершин,
Что смерть внезапная похитила Ширин.
Немного, может быть, его ослабнут руки, —
И он прервет свой труд от этих слов разлуки».
И принялись искать глашатая беды,
Чей хмурый лоб хранит злосчастия следы,
Того, кто как мясник в крови вседневной сечи,
Того, кто из усов огонь смертельный мечет.
И вот научен он дурным словам; сулят
Иль золото ему, иль гибельный булат.
Идти на Бисутун, свершить худое дело
Он должен. Для него иного нет удела.
И дерзостный пошел, вот перед ним – Ферхад.
Кирку сжимала длань, не знавшая преград.
Ферхад, что дикий лев, с себя сорвавший путы.
Рыл гору он, как лев, напрягшийся и лютый.
О лике сладостном слагая песни, бил
Он яростно гранит; он словно пламень был.
Ферхаду вымолвил нежданного глашатай,
Как будто горестью неложною объяты»:
«Беспечный человек! Вокруг себя взгляни.
Зачем в неведенье свои проводишь дни?»
Ферхад: «Я друга чту, и для него с охотой
Я время провожу, как видишь, за работой.
Того я друга чту, чьи сладостны слова
И кем на жизнь мою получены права».
И вот когда узнал горькоречивый вестник:
Тут ворожит Ширин – пленительный кудесник,
Он, тягостно вздохнув, сказал, потупя взгляд:
«О смерти Сладостной не извещен Ферхад!
О, горе нам! Когда сей кипарис веселый
Был сломлен бурею, подувшей в наши долы,
Мы амброю земли осыпали Луну,
Снесли дорогой слез на кладбище Весну.
И, прах похоронив прекрасной черноокой,
Направились домой мы в горести глубокой».
В Ферхада за клинком он направлял клинок,
Вздымал за стоном стон, чтоб сильный изнемог.
Когда «О Сладкая! – сказать посмел. – О горе!» —
О, как такой вещун не онемел, о, горе!
Чье сердце этих тайн хотело б не хранить?
Внимал им или нет – не смеешь говорить!
Когда в Ферхадов слух метнули вестью злою, —
С вершины пал Ферхад тяжелою скалою.
Вздохнул Ферхад, и вздох был холоден: копье
Казалось, в грудь его вонзило острие.
Рыдая, молвил он: «Не зная облегченья,
Я ведал тяжкий труд, и смерть полна мученья.
Пускай пастух овец бесчисленных пасет,
Волк жертву нищего из стада унесет.
Да, цветнику сказал шербетчик, рвущий розу:
«Вернуть все взятое не забывай угрозу».
Проворный кипарис покрылся прахом! Ах,
Зачем же мне чело не осыпает прах?
Румяных лепестков развеяна станица!
Зачем же мне сады, когда вокруг – темница?
Уж пташка унеслась в край отдаленный свой!
Зачем же не кричу я тучей громовой?
Погас над миром свет, горевший звездным знаком!
Зачем же в этот день мир не покрылся мраком?
В небытии с Ширин свидание мое!
Я, не промедливши, уйду в небытие!»
Оповестил о ней он и моря и сушу,
И, прах поцеловав, свою он отдал душу.
Веем ведомо: судьбе иного дела нет,
Как души отнимать, гасить для смертных свет.
К злосчастному стремясь, рок позабыл о мере,-
И входят бедствия, все распахнувши двери.
Он видит: счастья нет, лишь горечь дни сулят:
Он вложит сахар в рот – тот обратится в яд.
За розу ухватясь, он скажет: «Ты близка мне».
Не росы на него посыплются, а камни.
Увидит бурный мир, увидит: мир – не гладь.
Из мира этого свою забрать бы кладь!
Поводья свесились, неудержимо время,
А юности нога попасть не может в стремя.
Свой рок преодолеть придет тебе пора,
Лишь только ты уйдешь из этого шатра.
В четвертых небесах прибудешь к серафимам,
Чтоб в сонме светочей все ж сделаться незримым.
Мир – див; храни свой дух – да будет скован див!
Дух добронравием от дива оградив.
Не делай для себя свой нрав суровый адом.
Пусть раем станет он, ведя других к усладам.
Коль человечен ты, послушай речь мою:
Не только в небесах, но ты и здесь – в раю.
О глаз! Беспечный глаз! Ты мир узри воочью.
Мир обними, как те, недремлющие ночью.
Как долго под землей ты будешь спать, о друг!
Крутящихся небес тебя забудет круг.
Лет пятьдесят игры злокозненной промчится,-
Сей костью глиняной доколь тебе кичиться?
Пусть и пять тысяч лет – срок воровской игры,-
Брось кость, ведь все равно играешь до поры.
Что крепче, чем кремень? Под ветра частым взмахом
Он все же стал песком, он стал зыбучим прахом.
О коврик кожаный – земля! И вновь и вновь
На этот коврик льют одну лишь только кровь!
Кровавые дожди впитала эта суша.
Кто мог бы из-под них спасти и Сиавуша?
В песчинках взвившихся, что закрутил бурун,
Несется Кей-Кобад иль мчится Феридун.
И людям не найти на всем земном покрове
Горсть глины без людской, людьми пролитой, крови.
Кто знает, что таил сей вековечный храм,
Счет вечерам его и счет его утрам?
Столетие пройдет – и все течет сначала.
Лишь век умчится прочь – уж век другой примчало.
И с веком человек свой также кончит век,
Чтоб он на сущность дней своих не поднял век.
Но что в крупицах дней среди тысячелетий
Увидеть сможешь ты иль услыхать на свете?
Все ж и добро и зло в столетье каждом есть,
И в том для мудрого о некой тайне весть.
Коль ты не хочешь быть в гонении бескрайном,
Ты век не поучай другого века тайнам.
Чреда ночей и дней, что пегий конь, летит,
От бега времени ничто не защитит.
Хоть ты на сто наук свершил свои набеги,
Тобой не будет взят в поводья этот пегий.
Себя боготворить не должен ты, о нет!
Забвение себя – спасения завет.
Котел земли кипел по воле звезд, но что же?
Необработанной земля подобна коже.
Небес игорный дом, незримый для очей,
Все деньги отобрал у многих богачей.
Иль кажется тебе, что ты с невестой? Мудрый!
Мечту на ветер брось, не будь с сереброкудрой.
Быть может, грянет смерч, и злой его полет
Невесту – жизнь твою – с землею разведет.
Придет ли смерч иль нет, забудь свою усладу.
Не зажигай в ночи напрасную лампаду.
На горсти праха ты. В твоей горсти лишь прах.
Хоть руку для земли зажег бы ты впотьмах, —
Ей будет нипочем твою увидеть муку,
Ей не присыпать, нет, израненную руку!
Нам тягостная плоть созвездьями дана,
Так часто мучима недугами она!
Ведь с кровли прыгнуть вниз нетрудно. Только в злости
Твой неизбежный рок твои сломает кости.
Но люди, что во сне не ощущают тел,
Не смогут пострадать от многих сотен стрел.
Свое дыхание, что управляет нами,
Мы ветром осени прикармливаем сами.
Но мертв твой каждый вздох, когда в нем нет любви.
Твой каждой вздох сочтен; ты страстно проживи.
Ты, умирая, смерть встречай бесстрашным взглядом,
Но в страсти, человек, ты должен быть Ферхадом,
Любил, чтоб на кирку приладить рукоять,
Строитель дерево гранатовое брать.
Была ему кирка помощницею верной,
Всегда с подручною в борьбе его безмерной.
Когда его вещун тоскою захлестнул, —
Кирку он за гору в отчаянье метнул.
Кирка впилась в гранит, а рукоять отбило, —
Вошла во влажный прах, а после вот что было:
Гранатовый побег из рукояти взрос,
И, ставши деревом, гранаты он принес.
И каждый этот плод всех снадобий полезней.
И немощных любых излечит от болезней.
Не зрел их Низами, но измышлять не стал,
А в древней книге он об этом прочитал.
Смерть Мариам
Не радуйся, Хаким, так волили созвездья:
За все свои дела дождешься ты возмездья.
Знай, будет оценен поступок твой любой!
Рок препоясался – следит он за тобой.
Когда Хосров послал, все зная про Ферхада,
Ширин свое письмо, исполненное яда,
Так было сумрачным угодно небесам,
Чтоб в Руме царствовать не стала Мариам.
Твердят: «Отравы злой ее убила сила.
Ведь это месть Ширин, что также яд вкусила».
Но, истину блюдя, не слушай, что твердят:
Низвергнул Мариам лишь властной мысли яд.
Индусы, видел я, являли силу мысли, —
Вмиг листья свежие, как мертвые, повисли.
И, одурманив люд, они порой луну,
Как шар сияющий, бросали в вышину.
Лишь только Мариам прекрасная навеки
Замкнула сладкий рот и опустила веки, —
Как, ощутив себя уж не в ее руках,
Всю вольность прежнюю вкушает шахиншах.
Когда сгорел престол – как дерево Марии;
Как пальма, шах расцвел, как «дерево Марии».
Но все же Мариам оказан был почет, —
И в сумрачном дворце день горестно течет.
И месяц шах провел в молитвенном обряде,
Не трогал тронных дел и в черном был наряде.
Лишь обо всем Ширин была извещена,
Почуяла меж роз и тернии она:
Ей было радостно свою оставить гневность, —
Ведь чистоту души уничтожает ревность.
Но все ж росли печаль и сокрушенье в ней:
Прозрела Судный день за сменой смертных дней.
В теченье месяца, чтоб быть душой с Хосровом,
Веселья под своим она не знала кровом.
А месяц миновал – ив душах нету ран,
И мир уже забыл свой горестный изъян.
И предалась Ширин уверенной надежде:
Пошлет ему письмо и вспыхнет он, как прежде.
Все, все слова души в него метнет она,
Как в почву сеятель бросает семена.
Сочувственное письмо Ширин Хосрову по поводу смерти Мариам, написанное в отместку
Взяла она калам; за первою вторая
Строка обдумана; реченья подбирая
Столь сладковейные, как майская листва, —
Так заплела она начальные слова:
«Во имя господа, что там, на звездном троне,
Прощает смертного, воздевшего ладони,
Владыки светлого небесной стороны, —
Кому служения людские не нужны.
Питая существа, с них не берет он платы.
И лал вправляет он в камней подземных латы.
И птиц на высях гор и тварь в глубинах рек
Он в горькую тоску ввергает не навек.
За добрые дела он все прощает людям,
Мы в бедствиях всегда к нему тянуться будем.
Все длань его взнесла – от Рыбы до Луны,
Он знает все дела – от Рыбы до Луны.
Два цвета знает он: в тьме – полночь, полдень – ярок.
То горький колоквинт, то сахар их подарок.
В дворце и золотом и черном слышит он
То свадебный напев, то стоны похорон.
Твоей невесте, шах, не стало в мире места, —
Не бойся: для тебя есть не одна невеста.
Она ушла во тьму, – была ведь не впотьмах:
Ведь ведала, что скор на пресышенье шах.
Пусть лучше у него подруги нет на ложе, —
Ну что ж, насыщен он! Она ушла – ну что же!
Он снова бросит взор на розовый цветник
И молвит: «Предо мной цветок иной возник».
Грущу: ушла во мрак нежнейшая из кукол.
А свет ее, как всех, и нежил и баюкал.
О нежный сердцем шах, не плачь! Иль ты не рад,
Что клад укрыт в земле? Она была ведь – клад.
Ты горе не вкушай, тебя разрушит горе.
Ведь землю жесткую и ту иссушит горе.
Ах, сердце хрупкое от горя кто спасет?
Всех с этой нежностью во взоре кто спасет?
О шах! От Мариам ты отведи поводья,
Не скажет и Иса, где все ее угодья.
Пусть нежная жена сошла в подземный дол,
Не надо покидать свой царственный престол.
Ты в кубок лей вино, не лей в свой кубок слезы.
Горюя, новых бед накличешь ты угрозы.
Живи, покуда смерть не встала у ворот.
Пусть умерла она. Родившийся – умрет.
Смерть смертного узрев, не каждый будет в горе
Дни долгие влачить, – он все забудет вскоре,
Оставившим наш мир обиды не чини.
Терпения хотят – не слез хотят они.
Коль тело смертного подвергнется недугам, —
То власти царственной не быть к его услугам.
Что взносишь над ручьем ты вопли в вышину?
Пусть Тигр уменьшился на капельку одну.
Над Тигром пей вино, оно – твоя услада.
Одной корзины нет из всех корзин Багдада.
Души бессонницу дремотой потуши.
Ушедшая из глаз пусть выйдет из души.
Хоть стройный кипарис исчез из сада мира, —
Останься, ты – душа, ты – вся услада мира.
В почете должном будь, и вечно будь один.
Горит прекраснее единственный рубин.
Для солнца кто ровня? Назвать была б обида.
Два солнца чтить нельзя – таков устав Джемшида.
Двум птахам сладко спать под снегом зимних пург.
Ты должен быть один: ты – сказочный Онмург.
Утратил ценный дал, но ты ведь царь, и щедро
Бесценных лалов ряд тебе откроют недра.
Та голова ценней, с которой равной нет.
Ценней алмаз, чей свет – неповторимый свет.
Газель умчалась прочь; но, друг великолепий,
Газелей множество твои вмещают степи.
Пусть зернышко одно утратил твой хырман, —
Да будет целый ток тебе судьбою дан!
Пусть розы нет, – забудь, что есть на свете терны,
Мир воскресит цветы течением размерным.
Останься, пусть ушла румийская краса, —
Не плачь о Мариам: останется Иса».
Поездка Хосрова к замку Ширин под предлогом охоты
Лишь только свет воздвиг свой позлащенный стяг
И мрак он разогнал, как скопище бродяг, —
Припомнил царь: на дичь так радостна охота!
И счастья попытать пришла ему охота.
В душе была Ширин, как свет былого дня,
И в степи весело направил он коня.
Вот най, вот барабан! Гремят его раскаты, —
И закружился мир, веселием объятый.
Знаменоносцев ряд вздымает шелк знамен.
Кто смел, спешит к царю – ловитвою прельщен.
Царь блещет на коне. Как должно по обрядам,
Венчанный строй владык идет с Шебдизом рядом.
Шел слева Ниатус. Как он, забыв свой сан,
С рукою у седла шел справа богдыхан.
Пылает лик царя. Душа Хосрова рада,
И набекрень надел венец он Кей-Кубада.
И солнце молвило: «К ноге его прильну!»
А конь кольцо рабынь повесил на луну.
Как будто над луной зыбучей тучей вея,
Над головой царя струился стяг Кавея.
Все в золоте мечи вокруг царя горят, —
Как будто вкруг царя оград замкнулся ряд.
Сквозь них протиснуться – напрасная отвага.
Никто сквозь этот строй не мог бы сделать шага.
Свидание Хосрова с Ширин
Узрев Луну, что свет простерла по округам,
Для тополя сего он сердце сделал лугом.
Увидев гурию, что здесь, в земном краю,
Ворота заперла, как гурия в раю.
Увидев светлый ум, готовый к обороне,
Чуть не повергся в прах сверкающий на троне.
И с трона он вскочил, чтоб вмиг облобызать
Пред ней свои персты, – и сел на трон опять.
С мольбой о милости он к ней приподнял длани,
Он осыпал ее сластями пожеланий:
«Как тополь, ты стройна, юна и хороша.
Да будет радостна всегда твоя душа!
Твое лицо – заря; с ним блещет вся природа.
Ты – стройный кипарис, опора небосвода.
От свежести твоей во мне весенний свет.
Поработил меня учтивый твой привет.
Ты ткани и ковры постлала по дорогам,
И мчался я к тебе, как будто бы чертогом.
Ушных подковок лал, исполненный огня,
Дала ты для подков мне верного коня.
За ценным даром вновь я одарен был даром;
От жарких яхонтов мой лик пылает жаром.
Ты – россыпь радостей! Как лучший дар возник
Передо мной твой лик! Да светится твой лик!
Я – молоко, ты – мед. Твои усладны речи.
И выполнила ты обряд почетной встречи.
Но для чего врата замкнула на замок?
Ошиблась ты иль здесь мне что-то невдомек?
Меня назначила ты в плен земле и водам —
Сама же в высоте явилась небосводом.
Но я не говорил, что, мол, вознесена
Хосрова мощь над той, что светит, как луна.
Нет, я ведь только гость. Гостей приезжих взоры
Не упираются в железные затворы.
Опасным пришлецом могу ли быть и я?
Ведь для меня лишь ты– источник бытия!
Приветливых гостей, приблизившихся к дому,
Высокородные встречают по-иному.
Ведь если смертен я, – ты также не пери,
И с райских жительниц примера не бери».
Возвращение Хосрова от замка Ширин
Уж солнце, как газель хотанскую, уводит
Веревка мрака в ночь, и вот на небосводе
Газелей маленьких за рядом вьется ряд, —
То звезды на лугу полуночном горят.
Царь, что газель, в чью грудь стрела вошла глубоко,
Внял яростным словам Ширин газелеокой.
И хлопья снежные помчались в мрак ночной,
И капельки дождя мелькали, как весной.
От горести гора слезливой стала глиной.
И сердце ежилось, бредя ночной долиной.
Снег, словно серебро, пронзал окрестный мрак;
И на Шебдиза пал серебряный чепрак.
Звучал упреками Хосрова громкий голос,
Черноволосую не тронув ни на волос!
Как долго он молил, как жарко! Для чего?
Сто слов – да не годны! Все! Все до одного!
Молил он и вздыхал – был словно пьян – все глубже
Вонзались стрелы в грудь – о, сколько ран! – все глубже.
И вот еще текла в своем ненастье ночь,
А царь, нахмурившись, от врат поехал прочь.
То он к Шебдизу ник, то, будто от недуга
Очнувшись, все хлестал и торопил он друга.
Он оборачивал лицо свое к Ширин,
Но ехал, ехал прочь. Он был один! Один!
И ночи больше нет – ее распалась риза,
Но нет и сильных рук, чтоб направлять Шебдиза.
Царь воздыханья вез, как путевой припас;
Он гроздья жемчуга на розы лил из глаз.
«Когда бы встретил я, – так восклицал он в горе,
Колодезь путевой, иль встретил бы я взгорье»
Я спешился бы здесь, и я б не горевал,
Навеки близ Ширин раскинувши привал»,
То вскинет руки царь, то у него нет мочи
Не плакать, – и платком он прикрывает очи.
И вот военный стан. Царем придержан конь,
А сердце у царя как вьющийся огонь.
Серебряный цветок освободили тучи,
И месяц заблистал над этой мглой летучей.
И царь вознес шатер до блещущих небес,
Для входа подвязав края его завес.
Но не прельщался царь всей прелестью вселенной,
Он сердце рвал свое, как рвет одежды пленный.
Он, позабыв покой, сжав пальцами виски,
Не поднимал чела с колен своей тоски.
Придворным, и ловцам, и стражам, и дестурам
Царь повелел уйти; остался он с Шапуром.
Как живопись творя, стлал пред царем Шапур
Узоры, говоря: «Не будь, владыка, хмур».
На пламень горести он лил благую влагу.
Смеяться в горький час имел Шапур отвагу.
«Тебя от горечи хочу я уберечь:
Поверь, нежна Ширин. Ее притворна речь.
Столь омрачившимся останешься доколе?
Ты рвешься к финикам, ты знай – и пальма колет».
Хосров – он не сводил с Шапура жадных глаз —
Обильным жалобам открыл потайный лаз:
«Ведь видел ты, с какой пришла ко мне отравой
Та, что весь мир смутит улыбкою лукавой?
И бог не страшен ей! Смела, дерзка она!
Ну что же, женщина – так значит нескромна.
Я шапку снял пред ней и бросил пред собою.
Как стройный кипарис, я встал пред ней с мольбою.
Но оттолкнула трон с порфирою она,
Ствол царственный снесла секирою она.
В мороз ее душа не сделалась горячей.
Ее безжалостность увидел каждый зрячий.
И речь ее была – секира и стрела.
В словах почтительных так много было зла.
Есть тернии в любви, но в этот час вечерний
Без меры я познал уколы этих терний.
Но и в моей груди ведь тоже сердце есть.
И злоба тоже ведь у страстотерпца есть.
Пусть как Харут она, слетевший с небосклона,
Пусть в родинке ее все чары Вавилона,
Но так был холоден ее зимы налет,
Что для меня Ширин уж не Ширин, а лед.
Но от моей любви, терпевшей поношенья,
Мне ведом – О Шапур! – источник утешенья!
Ребенка скверный нрав известен мамке.
Нет Соседа, чтоб не знал, каков его сосед.
Ширин – мой тайный враг! Мрак под личиной света.
Таится ненависть под нежностью привета.
Как жаден был мой пыл, как был напрасен он!
И вот, отверженный, рассудка я лишен.
Не слушала она: крутилась непогода;
И речь моя текла как будто больше года.
Мне в тьме полуночной свечи не принесла.
Бальзама мне от ран в ночи не принесла.
Хоть, встретить Сладкую для каждого отрада,
Хоть сладостна Ширин, – мне новых встреч не надо!
Ведь встреча всех обид мне не искупит, нет!
Ведь с горьким вкусом хлеб никто не купит! Нет!
Быть под ногой слона, быть мертвым на кладбище
Отрадней, чем просить у злого скряги пищи.
Быть лучше под водой, быть рыбой, чем свои
Моления нести в пристанище змеи.
Отрадней землю рыть. Да! Лишь не довелось бы
В дом недостойною свои направить просьбы!
Жемчужин чистых блеск не в чистых ли морях?
Кто роет черный прах – найдет лишь черный прах.
Покинь пустую копь! Иль, чтоб душа угасла,
Мне быть светильником, в котором нету масла?!
Жизнь стоит ли вручать той прихотливой, той
Лукавой, для кого она лишь звук пустой?
Клянусь, еще таит подлунная долина
С павлином равную подругу для павлина».
Свадьба Хосрова и Ширин
Всем розам небеса, сперва сказав: «Пробудим
Вас в день весны», – потом их предлагают людям.
Великий рок, венцу жемчужины даря,
Венец в жемчужинах наденет на царя.
Пловцы ныряют вглубь на поиски жемчужин,
Чтоб стал жемчужин блеск с венцом царевым дружен.
Став слаще, чем джуляб, прекрасней, чем пери,
Ширин, позвав царя, промолвила: «Бери,
Пей сладкий кубок мой, пребудь в истоме сладкой,
Ты сладостно забудь все в мире, кроме Сладкой».
В словах, являющих величие и честь,
Ширин потайную царю послала весть:
«Не прикасайся ты сегодня ночью к чаше:
Два опьянения не входят в сердце наше.
Что яство для людей, чей ум затмит вино?
Поймет ли – солоно ль, не солоно ль оно?
Хмельной, найдя все то, к чему стремился страстно,
Промолвит: «Я был пьян, все бывшее – неясно».
И те, что во хмелю откроют свой замок,
Потом бронят воров, и всем им невдомек».
По нраву эта весть пришлась владыке мира.
«Исполню, -.молвил он, – веление кумира».
Но пьют в веселый день!… Будь сломлена печать!
Себя на празднике не надо огорчать!
Пел снова Некиса, бренчал бербет Барбеда,-
Звенела над Зухре их нежная победа.
То, полный сладости, пел мелодичный руд:
«Пусть длятся радости, пусть чаши все берут!»
То кубок прозвенит, сверкая пред Барбедом:
«Всегда удачи свет тебе да будет ведом!»
И в сладостных мечтах о сладостной Ширин
Хосров испробовал немало терпких вин.
И промежутки царь все делает короче
Меж кубками. И вот проходит четверть ночи.
Когда же должен был, почтителен и тих,
К невесте царственной проследовать жених, —
Его, лежащего без памяти и речи,
К ней понесли рабы, подняв к себе на плечи.
И вот глядит Ширин: безвольный, допьяна
Царь упоен вином. Себя укрыв, она
Тому, кто все забыв, лежит как бы сраженный,
Другую милую отдаст сегодня в жены.
Она схитрила, что ж, – ты так же поступай
С тем, кто придет к тебе, упившись через край.
Из рода матери всегда жила при Сладкой
Старуха. Словно волк была она повадкой.
И с чем ее сравнить? О диво! О краса!
Скажу: как старая была она лиса.
Две груди старая, как бурдюки, носила.
И плеч ушла краса, колен исчезла сила.
Как лук изогнутый» была искривлена
С шагренью схожая, шершавая спина.
Ханзол, несущий смерть! Кто глянул бы не косо
На щеки, – в волосках два колющих кокоса.
Ширин, надев наряд на это существо,
Послала дряхлую к Парвизу для того,
Чтоб знать, насколько царь повержен в хмель могучий
И сможет ли Луну он отличить от тучи.
Старуха полога раздвинула края,-
Как будто из норы к царю вползла змея.
Как сумрак хмурая – таких не встретишь часто,-
Была беззубая, но все ж была зубаста.
Царю, когда к нему вошла сия лиса,
Уже овчинкою казались небеса.
Но все ж он мог понять, – он на усладу падкий:
Не так весенние ступают куропатки.
Не феникс близится – ворону видит он.
Влез в паланкин Луны чудовищный дракон.
«В безумстве я иль сплю? – он прошептал со стоном.
Где ж поклоняются вот этаким драконам?
Вот кислолицая! Горбунья! Что за стать!
Да как же горькая сумела Сладкой стать?»
Хосрова голова пошла как будто кругом.
Решил он: сей карге он сделался супругом.
…Старуший слышен крик… Промолвила Луна:
«Спасти ее!» И вот к царю идет она.
К лицу прибавив семь искусных украшений,
Откинув семь завес, вошла; плавней движений
Не видел мир. Пред ней – ничто и табарзад.
Вся сладость перед ней свой потупляет взгляд.
Она – что кипарис, сладчайший из созданий.
Она – сама луна, закутанная в ткани.
Что солнце перед ней, хотя она луна!
Ста драгоценней стран подобная весна!
Подобной красоты мир не смущали чары.
Все розы в ней одной, в ней сладости – харвары.
Она – цветы весны. О них промолвишь ты:
Одним счастливцам, знать, подобные цветы!
Блестящий Муштари пред ней померкнет. Пава
Пред плавною Ширин совсем не величава.
Ее уста – любовь. О, как их пурпур густ!
Но все ж ее уста еще не знали уст.
Весь Туркестан попал в силок ее дурмана.
Лобзания Ширин ценнее Хузистана.
О розы свежих щек! Состав из роз, взгляни,
Заплакал от стыда; его печальны дни.
Ты, томный взор, нанес сердцам несчастным раны!
О поволока глаз! Ты грабишь караваны!
Ширин! Ведь ты вино: уносишь ты печаль.
Нет горя там, где ты. Оно уходит вдаль.
О сахар сахара, о роза роз! О боже!
Она явилась в мир сама с собою схожей.
И царь протер глаза: они ослеплены.
Так бесноватых жжет сияние луны.
И, как безумцы все, смущен он был Луною
И хмеля сонного затянут глубиною.
…И пробудился царь. Ночи свершился ход.
Царь видит пред собой наисладчайший плод.
Невесту светлую ему послало небо, —
Пылающий очаг, назначенный для хлеба.
Ушел небиза хмель за тридевять земель.
Сладчайший поцелуй согнал с Парвиза хмель,
Он словно вин испил необычайных, новых.
И сад расцветших роз был сжат в руках царевых.
Лишь покрывало с уст, как эта ночь, ушло, —
Терпение царя мгновенно прочь ушло.
Краса весь разум наш вмиг обратит в останки.
Мани своим вином отравят китаянки.
Ворвался в Хузистан в неистовстве ходжа,
Лобзаний табарзад похитил он, дрожа.
Таких рассветных вин, как эти, – не бывало.
Таких блаженных зорь на свете – не бывало!
И начал он сбирать охапки сладких роз.
И сам он розой стал в часы веселых гроз,
И молвил он любви, что миг пришел, что надо
Уже вкушать плоды раскрывшегося сада.
То яблок, то гранат он брал себе к вину,
То говорил, смеясь: «К жасмину я прильну».
И вот уже слились два розовых их стана.
И две души слились, как розы Гюлистана.
Сок розы в чашу пал, о радости моля
И сахар таять мог в плену у миндаля.
Так сутки протекали, и вот вторые сутки.
Нарцисс с фиалкой спят, и сладок сон их чуткий.
Так два павлина спят в тиши ночных долин…
Поистине красив склонившийся павлин!
Они, покинув сон, прогнав ночные тени,
Послали небесам немало восхвалений.
И, тело жаркое очистивши водой,
Молитвы должные свершили чередой.
Все близкие к тому, кто был на царском троне,
Окраской свадебной окрасили ладони:
В хне руки Сементурк, в хне руки Хумаюн,
В хне руки Хумейлы, и лик их счастья – юн.
Однажды царь сидел в своем покое, взглядом
Окидывая дев, с ним восседавших рядом.
Им драгоценности он роздал. Запылал
В их ожерелиях за лалом рдяный лал.
Он отдал Хумаюн Шапуру, – сладким садом
Его он наградил, сладчайшим табарзадом.
Затем дал Хумейлу царь Некисе, а вслед
Красотку Сементурк в дар получил Барбед.
Ну а Хотан-Хотун премудрую и видом
Прелестную Хосров связал с Бузург-Умидом.
С почетом отдал царь Шапуру всю страну,
В которой некогда цвела Михин-Бану.
Когда вступил Шапур в предел своих владений,
В них множество воздвиг прославленных строений.
Та крепость в Дизакне, чья слава немала,
Шапуром, говорят, построена была.
И одаряет вновь всей радостью Хосрова
Благожелательство небесного покрова.
Свершенья, молодость и царство – лучших уз
Вовек не видел мир, чем их тройной союз.
И дня без лютни нет, и ночи нет без кубка…
Все в мирных днях забыть – нет правильней поступка.
Лишь радости вкушай, их так приятен вкус,-
И огорчений злых забудешь ты укус.
Он пил, дарил миры, он радовал народы.
И в наслаждениях текли за годом годы.
Когда ж прошли года и духом он прозрел,
То устыдился он всех дерзновенных дел.
И белый волос стал у щек нежданным стражем.
«О молодость, прощай!» – его увидев, скажем.
Быть в мире иль не быть? Граница – волосок,
И волосок – седой. И час твой – недалек.
Для взора смертного все чернотой одето —
Лишь только до зари, до вспыхнувшего света.
Мы греемся в саду, пока снежинок рой
Не ляжет на листву сребристой камфорой.
Постигни молодость! Она – пыланье страсти.
Весь мир, вкушая страсть, в ее всесильной власти.
Но седовласый рок возьмет права, и он
Твою изгонит страсть. Таков его закон.
«Как быть? – у старика спросил красавчик с жаром.
Ведь милая сбежит, когда я буду старым».
И отвечал старик, уже вкушавший тишь:
«Друг, в старости ты сам от милой убежишь».
Коль ртуть на голове – она бежит от мира,
Бежит от серебра напрасного кумира.
От мрака локонов печаль умчится вдаль.
Черноволосых взор – пугает он печаль.
Войска тоски бегут перед тобой, нубиец.
Ведь только радуясь, живет любой нубиец.
Окраска черная глазам на пользу: рьян
И радостен, юнец стремится в Индостан.
Все понял царь и внял он белому жасмину.
Он в юных днях – как я – постиг свою кончину.
Хотя Хосров сдержал любой бы свой обет,
Но мир обманывал, и царь страшился бед.
То на златой доске он в нард играл, то бегом
Шебдиза тешился, былым отдавшись негам.
То он Барбеда звал, то слушал водомет,
То обнимал Ширин, как бы вкушая мед.
Ширин и царский трон, Барбед и бег Шебдиза —
Излюбленный предел всех радостей Парвиза.
И вспомнил он, – смутясь, все предвещавший сон,
И сад его души был мраком полонен.
Все то, что создали, он знал, земля и воды,
Хоть так прекрасно все, сотрут, разрушат годы,
До полнолуния растут лучи луны,
Потом – уменьшатся, потом – уж не видны.
Я дереву в саду, в саду плодовом внемлю:
«Созревшие плоды повергну я на землю».