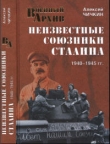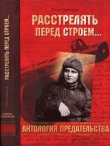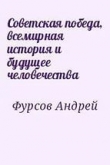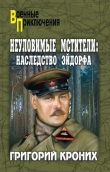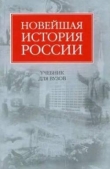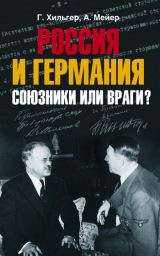
Текст книги "Россия и Германия. Союзники или враги?"
Автор книги: Густав Хильгер
Жанр:
Педагогика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
30 января 1924 года Каменев в своей речи на Съезде Советов заявил, что советское правительство не может смотреть на недавние революционные события в Германии с позиции стороннего наблюдателя, поскольку пролетарское Советское государство немедленно затрагивает любая борьба рабочих за свободу; более того, победа германского фашизма и вызванное этим французское вторжение в Германию также приведут к глубоким изменениям в международном положении. Учитывая идеологическую ориентацию советского режима, это было вполне логичное заявление, и германскому правительству следовало бы проявить мудрость и признать тот факт, что Советская Россия всегда будет заинтересована в пролетарской революции везде, где это возможно. Это не должно помешать германской полиции оставаться столь же беспощадной в борьбе с внутренним коммунизмом, насколько это необходимо. Никуда не деться и от глупых и прозрачных претензий, в которых себе не отказывали ни Берлин, ни Москва. Но старомодные концепции дипломатического этикета и национального суверенитета, а также антикоммунистическое сознание германских правительственных чиновников свидетельствовали против такой искренности. Как мы уже видели, настойчивое стремление сохранять дистанцию между советской внешней политикой и коммунистической идеологией вынуждало Кремль к заявлениям, что вообще не существует официальной связи между Советским государством и Коминтерном или советским правительством и коммунистической партией, что давало им возможность утверждать, что советское правительство не может нести ответственность за акции и заявления членов партии.
В то же время советские должностные лица всегда настаивали на том, что другие страны не имеют права вмешиваться во внутренние дела Советской России. Фактически они заявляли внешнему миру, что признание коммунистической ориентации режима может быть только в хорошем смысле, а непризнание и неприятие этой ориентации есть вмешательство во внутренние дела России. Кроме того, бывали случаи, когда политический реализм и здравый смысл все же прорывались через идеологическую ригидность таких людей, как Чичерин и Литвинов, что помогало урегулированию споров подобного рода. Но стандартное советское поведение в международных связях состояло в настойчивом отделении коммунизма от советского правительства. И лишь потому, что буржуазные правительства в своих отношениях с Москвой действовали из побуждений принимать эти показные проявления со всей серьезностью, периодически происходили взрывы негодования – когда идеологическая природа этого режима выражала себя во всей своей широте и красе.
Несмотря на такие соображения, были достаточные основания, чтобы воспринимать эти взрывы всерьез. Возникающие по этой причине проблемы были не только делом престижа или подкрепления претензий; временами они были весьма полезны в качестве средств для вымогательства преимуществ во всякого рода переговорах. На опрометчивых шагах, сделанных другой стороной, можно было заработать политический капитал. Однако трудность состояла в том, что советские переговорщики показывали себя более умелыми в игре шантажа, чем германские дипломаты, и более безжалостными в фабрикации подходящих инцидентов, хотя им не всегда приходилось прибегать к фабрикациям, как это показал полицейский налет на их торговую делегацию в Берлине.
Помимо этого, опрометчивые шаги и вспышки гнева, даже когда они не были санкционированы и являлись источниками проблем для Наркоминдела, были, однако, полезным барометром мнения, существовавшего в партии, которая в конечном счете руководила всеми делами Советского государства. По этой причине все оправдания (вроде того, что государственный аппарат не имел влияния на мнение партии) хотя формально и были корректными, но недостаточными; в принципе, возможно, следовало уделять больше внимания заявлениям, исходящим от советских должностных лиц. В этом мы находим достаточное оправдание тому пристальному вниманию, которое посольство уделяло советской печати. Хотя в ранние годы этого периода радикальная оппозиция внутри партии все еще имела некоторые возможности для озвучивания своего мнения в прессе, более важные газеты были уже тщательно контролируемыми, и они не выражали ничего, кроме официального партийного мнения; и когда передовая статья в официальной партийной газете «Правда» изливала яд на немецкий капитализм, каждый знал, что это – партия, контролировавшая власть, которая старается наладить дело с германской буржуазией. В этом смысле немцы имели куда больше оправданий для своего негодования по поводу неблагоприятных комментариев прессы, чем русские. Германский министр иностранных дел не имел вляния на большую часть прессы; в принципе газеты были наиболее подходящим местом, где можно было выразить антисоветские чувства, не озвученные на Вильгельмштрассе. Тем не менее советское правительство, возможно заблуждаясь в отношении степени влияния правительства на прессу, беспрерывно выражало протесты и при этом было столь настойчиво в этом, что в какой-то момент германский МИД поручил посольству собрать неблагоприятные комментарии в советской печати, чтобы у министерства иностранных дел был материал для встречных протестов.
Следует признать, что основная часть германской прессы была не очень знакома с состоянием советских дел. Конечно, германские социологи были ведущими на Западе в области изучения восточноевропейских и советских дел; всякий, кто читал ежемесячные отчеты профессора Отто Гётша о советских политических событиях в журнале «Ост-Европа», должен поразиться аргументированности, которой до сего дня обладают его острые и расудительные эссе. Но читательская аудитория этих отчетов была ограничена узкими академическими кругами. Средний человек получал о Советской России скудную и одностороннюю информацию. Если это был рабочий, то это были возмущенные и ликующие разоблачения в социал-демократической прессе. Если же человек читал крупные буржуазные ежедневные издания, он находился в зависимости от тревожащих отчетов крайне реакционной газеты Альфреда Гугенберга «Теле-Унион», которая получала новости о России от крайне фальшивой пропагандистской организации в Каунасе. Не имея в своем распоряжении надлежащего информационного отдела, который бы изучал коммунистическую деятельность, министр общественного порядка в течение долгого времени получал свою «информацию» о советских событиях из антикоммунистической пропагандистской организации, которой руководил русский эмигрант по фамилии Орлов, специализировавшийся в подделке документов, которые он затем пересылал в полицию. Орлова судили и приговорили в начале 1929 года; но поскольку защита уверяла, что он занялся своими подделками из благородных политических побуждений, единственным наказанием для него стала депортация. Даже министерство иностранных дел попадалось на удочку многих диких слухов о Советском Союзе, которые посольство было обязано рассеять. Некоторые из этих «конфиденциальных» докладов в МИД содержали фантастические выдумки; так, в январе 1926 года Берлин запросил посольство выяснить, правда ли, что недавний XIV съезд партии (проходивший с 18 по 31 декабря 1925 года) означал конец коммунистической диктатуры, демократизацию режима, его трансформацию в парламентское правление и рост рядов оппозиционной партии.
При всем этом в Москве всегда находился по крайней мере один германский корреспондент, чьи отчеты тщательно взвешивались и были основаны на близком знакомстве с советскими событиями. С ноября 1921 по сентябрь 1929 года либеральная «Берлинер тагеблатт» получала четкие, реалистические и несентиментальные доклады от своего корреспондента Пауля Шеффера[51]51
Представительная выборка была позднее опубликована под названием Sieben Jahre Sowjet-Union (Лейпциг: Библиографический институт, 1930).
[Закрыть].
Осенью 1921 года «Берлинер тагеблатт» попыталась получить визу для Шеффера. Поначалу эти попытки были безуспешными, потому что Наркоминдел не дал своему берлинскому представителю разрешение на выдачу этой визы. Тогда меня попросили походатайствовать за Шеффера перед каким-нибудь высокопоставленным чиновником в этом ведомстве, и я решился поговорить с Литвиновым. Но в тот день, когда я намечал обратиться по этому вопросу к нему лично, он должен был отправиться в Петроград. Поэтому я поехал на вокзал и там застал Литвинова в его салон-вагоне. Поначалу он стал говорить, что советское правительство никоим образом не заинтересовано давать разрешение на приезд в Советскую республику представителю буржуазной газеты «Берлинер тагеблатт» – газеты, которая, как заявил Литвинов, стойко придерживается недружественной по отношению к советскому правительству позиции. Я возразил, сказав, что его правительство вряд ли может ожидать иного отношения от газеты, если откажет в приеме одному из самых лучших ее корреспондентов. Более того, я сказал, что непосредственное наблюдение условий советской действительности было бы залогом объективного освещения; и в конце концов я убедил Литвинова отдать распоряжение, о котором я просил. Вскоре после этого Шеффер приехал в Москву, и на определенное время я устроил ему жилье в доме, в котором мы проживали сами. Наши отношения быстро перешли в теплую дружбу, которая питалась бесконечным обменом мнений. Шеффер разделял политические убеждения круга Ранцау в общих чертах. Он всегда был в тесном контакте с посольством, часто отражая в своих репортажах наши взгляды. В своих статьях Шеффер старался воссоздать атмосферу доброжелательности и понимания, но, как мы это позднее увидим, как и многие из тех, кто не был неблагожелательно настроен против германо-советского сотрудничества, он тоже пережил свой «Кронштадт». Даже его самые благожелательные статьи были, однако, не совсем тем, что хотели бы получить от него правители Советской России. Кроме того, Шеффер сочетал в себе открытый ум и трезвую наблюдательность с растущим личным знанием режима и его личностей. Поэтому его присутствие в Москве становилось все более и более неприятным для советской бюрократии: вместо того чтобы напрямую обвинить его, ОГПУ сосредоточило свои нападки на его жене – представительнице старейшего русского дворянства, на которой он женился в Москве. Ее обвиняли в том, что она оказывала на мужа пагубное влияние и утверждала его в его антисоветских наклонностях.
В этом месте было неплохо остановиться на еще одном, возможно, самом тревожном аспекте «второго фронта», против которого воевали Ранцау и его посольский персонал: советском полицейском государстве, доминировании политической полиции над всеми другими институтами Советского государства, медлительной, неповоротливой манере, в которой крутился советский бюрократический аппарат, и насильственной политике государства, которая шла вразрез со всеми западными принципами юридического делопроизводства.
В отношении дипломатического корпуса советское правительство, естественно, стремилось держаться в рамках предписываемого поведения; особенно оно старалось избежать каких бы то ни было нарушений иммунитета иностранных дипломатов. Тем не менее оно позволяло ОГПУ (с 1934 года – ГУГБ в системе НКВД) шпионить за иностранными миссиями такими методами, которые вызывали у нас отвращение и гнев. Например, в середине 1920-х годов однажды утром я пришел к себе в канцелярию и обнаружил, что в замке ящика моего стола застрял сломанный ключ – безошибочный знак того, что кто-то ночью пытался открыть ящик, возможно из заблуждения, что там могут находиться секретные политические документы. Еще один типичный инцидент, который произошел в 1929 году, дал нам доказательства тому, что ОГПУ располагает поддельными факсимиле официальных печатей, используемых германскими консульствами в Советском Союзе. Однажды мы получили посылку от германского консула в Новосибирске, которая была опечатана печатью киевского консульства. Очевидно, ОГПУ заглядывало в официальную консульскую почту, а потом, упаковывая это почтовое отправление, перепутало печати.
Один из приемов, которые использовало ОГПУ для изучения политических взглядов отдельных посольских работников, была фальсификация писем, в которых якобы контрреволюционеры обращались к нам, обещая важную информацию. В качестве компенсации за такие услуги, говорилось в письмах, их авторы рассчитывали на поддержку посольством их усилий в свержении советского режима. Получателей сих писем просили подтвердить свое согласие, поставив горящую свечу в определенном окне посольства в определенную ночь.
В провокационных целях ОГПУ обычно использовало симпатичных женщин, которые старались скомпрометировать более молодых работников иностранных миссий. А потом для ОГПУ открывался путь для шантажа этих молодых людей в расчете на информацию. В 1932 году попытка убийства германского посла была использована ОГПУ в качестве предлога для прикрепления двух-трех агентов для сопровождения членов дипломатического корпуса, особенно руководителей миссий, в их передвижениях – для того, чтобы ««защищать» их. В своей бдительности некоторые из этих агентов заходили так далеко, что лезли в воду вместе с объектом защиты, когда последний собирался купаться.
Время от времени власть ОГПУ над страной прорывалась сквозь тонкую завесу вежливости и достоинства и нарушала международные законы и обычаи. По справедливости, посольство могло действовать лишь тогда, когда затрагивались интересы в таких, например, инцидентах, как дело Киндермана – Вольшта или ««консульских агентов». Наше право предъявлять протесты уже оспаривалось чекистами, когда посольство поддержало частных немецких концессионеров в их борьбе против спорных или неблагоприятных решений. В этом советский Наркоминдел вовсе не чувствовал себя удовлетворенным; но временами наше право прибегать к действиям против спорных акций Советского государства было как минимум сомнительным. Ибо посольство не ограничивало свои действия защитой германских прав; оно пыталось вмешаться и в чисто внутренние дела, когда мировое общественное мнение было возмущено, а германская пресса шумно требовала таких шагов. Так, в марте 1923 года Ранцау счел себя обязанным вмешаться перед Чичериным от имени католического архиепископа Цепляка, к огромному недовольству Москвы. Новая вспышка репрессий и насилия против церквей и священнослужителей произошла в первые месяцы 1930 года, и снова германский посол вступает в конфликт с Наркоматом иностранных дел; на этот раз от имени протестантских священников, которых арестовали. Тут мы оказались на очень зыбкой почве, и наши протесты были отклонены. То же самое случилось летом 1927 года, когда мы попытались вступиться за советских граждан немецкого происхождения, которые стали жертвами волны террора, охватившего в то время страну, когда производились повальные аресты и в массовом порядке выносились смертные приговоры. Зимой 1929/30 года вновь многие крестьяне немецкого происхождения оказались жертвами беспощадного преследования так называемых кулаков и были изгнаны из своих крестьянских хозяйств посреди зимы. Среди этих немцев ходили слухи, что им разрешат эмигрировать в Новый Свет, и около 13 тысяч меннонитов-земледельцев покинули Сибирь, чтобы собраться под Москвой в самодельных лагерях и требовать своего выезда. Их посетил бывший в то время атташе германского посольства по сельскому хозяйству профессор Отто Аухаген, который открыто сообщил об их плохом положении и тем настроил общественное мнение Германии в поддержку желания крестьян эмигрировать. Если бы Аухаген не был членом персонала посольства, советские власти, скорее всего, арестовали бы его; но он пользовался правом экстерриториальности, и все, что власти смогли сделать, – это объявить его персоной нон грата и потребовать его отзыва. Под сильным давлением Москва согласилась разрешить германским крестьянам эмигрировать за океан. Германский кабинет выделил средства для их переезда и уговорил канадские власти принять эмигрантов. В этот момент Москве уже не терпелось избавиться от немецких крестьян, и она стала угрожать отправить их обратно в Сибирь, если их не заберут сейчас. Некоторых в самом деле увезли назад; большинству, однако, удалось уехать в Канаду. Это дело было важным не столько из-за жестокости советских действий, сколько из-за того, что на этот раз и Берлин, и Москва молчаливо согласились с принципом, что посольство может взять на себя защиту не только германских граждан, но и советских граждан немецкого происхождения. Москва уступила из-за мощнейшего давления общественного мнения в Германии.
Как и в случае с советским вмешательством во внутренние дела Германии, наши дипломаты часто расходились в оценке того значения, какое следовало придавать инцидентам этого рода, и по поводу того, какие действия следует предпринять. Кое-кто из нас чувствовал, что в эти самые первые годы германо-советских отношений Берлин вел себя чересчур мягко и слишком легко воспринимал советские оскорбления. Воистину громадные усилия, заботы и горы бумаги были израсходованы на инциденты такого рода. Надо было видеть огромный объем официальных депеш, касавшихся этих проблем, чтобы поверить словам. Проблемы подобного рода отнимали у нас так много времени, что для меня они часто казались основным содержанием всей нашей работы в Москве и одной из главных причин, почему не могло быть длительных отношений между Советским Союзом и капиталистическим миром. Возможно, это мнение несколько преувеличенно. Но наверняка постоянное раздражение и тревога по поводу таких инцидентов, бремя, которым они ложились на персонал посольства, напряжение, которое они накладывали на все серьезные переговоры, были менее тревожными сами по себе, нежели симптомы серьезных недугов внутри советского общества. Поэтому эти происшествия (как симптомы) должны были и на самом деле порождали беспокойство, когда приходилось задумываться, действительно ли плодотворно в длительной перспективе сотрудничество с Советами. Ибо власть ОГПУ над советской внешней политикой была, помимо других вещей, отражением серьезной слабости режима; и усиление этой власти ОГПУ, а также рост числа серьезных беспорядков, которое оно производило в германо-советских отношениях к исходу 1920-х годов, были симптомом серьезного кризиса, который в то время переживало Советское государство. Перед тем как мы приступим к обсуждению следствий этого кризиса, давайте обратимся к экономическим и военным аспектам германо-советских отношений.
Глава 6
Германо-советские экономические отношения. 1921–1928 годы
Концессии
Я официально стал членом персонала германского посольства в январе 1923 года. Президент рейха по просьбе Ранцау назначил меня советником дипломатической миссии, и письмо, полученное мной от посла, излагало ожидавшие меня обязанности. Я должен был посвятить себя политическим, а также экономическим делам. Согласно моему рангу, я располагался сразу за советником посольства, как это было предусмотрено в табели о рангах, но получал распоряжения только напрямую от посла. Этим шагом граф Ранцау сознательно отменил все установленные дипломатические понятия и создал деликатную проблему личных и официальных отношений, которая легко могла привести к трениям. Но тогдашний советник посольства был явно безразличен к вопросам ранга и порядка соподчиненности, а я всегда изо всех сил старался пользоваться свободой действий в наших отношениях только в меру.
Моя главная работа в посольстве заключалась в исполнении обязанностей руководителя экономического отдела, хотя я также был и советником посла во всех важных политических вопросах. Однако, когда я поступил на работу в посольство, кто-то другой все еще возглавлял экономический отдел, и прошло несколько месяцев, пока его не перевели в Харьков на должность генерального консула. Тем временем в посольстве мне поручили заняться организацией культурных связей; я немедленно приступил к этому делу и оставался ответственным за этот отдел вплоть до самого конца, несмотря на то что экономический отдел требовал львиную долю моего времени и моих сил. В любом случае содержание работы культурного отдела имело смысл только в том случае, пока советское правительство все еще было заинтересовано в культурных связях с зарубежными странами, а не просто использовало их в своих пропагандистских целях.
Экономический отдел был для меня во многих отношениях логичным назначением. Я был знаком с российской экономикой еще с довоенных времен, а в период с 1910 по 1914 год я расширил и углубил свои знания в частых поездках по всей стране. Мои технические знания также оказались востребованными, поскольку большая часть германских поставок в Советскую Россию всегда состояла из оборудования; так что я был в состоянии дать технический совет представителям германских фирм, которые в большом количестве приезжали в Россию для переговоров и заключения сделок с советскими властями.
В начале мая 1923 года я направил послу памятную записку, в которой рассматривал состояние германо-советских экономических отношений и обсуждал возможность заключения с Советской Россией экономического договора. В этом меморандуме я отмечал, что после подписания договора от 6 мая 1921 года Германия получила великолепные возможности для ведения дел с Россией в широких масштабах, но эти возможности были безвозвратно утеряны. В то время советское правительство все еще сомневалось, достаточно ли у него экономических возможностей для того, чтобы в обозримом будущем реконструировать ключевые отрасли своей промышленности и восстановить до работоспособного состояния железные дороги. Движимые этими сомнениями в собственных силах, советские власти осенью 1921 года пообещали существенные уступки германским промышленным и финансовым кругам, если те помогут России в решении задач реконструкции. Например, в ходе переговоров с Шлезингером, состоявшихся в Москве, советские руководители заявили о своей готовности предоставить право экстерриториальности любой германской деловой ассоциации, которая займется торговлей в пределах территории, снабжаемой какой-либо важной железнодорожной магистралью, идущей на Восток, если данная ассоциация возьмется за реконструкцию этой дороги. Проект этот так и остался на бумаге, потому что немецкие корпорации, которые могли бы взяться за это предложение, им не заинтересовались – отчасти потому, что не верили в советскую власть, а может быть, и потому, что в те дни великой германской инфляции не могли собрать необходимый капитал.
Были и дальнейшие доказательства тому, что в 1921 и 1922 годах для развития экономических отношений между Германией и Советской республикой условия были очень благоприятными. В тот период советское правительство, по моему мнению, еще не полностью осознало огромные политические и экономические преимущества, которые можно было бы извлечь из энергичного использования монополии на внешнюю торговлю. Иначе оно вряд ли предлагало бы (как это делалось в разговорах со мной) германскому правительству создать центральное агентство для того, чтобы заниматься всеми вопросами германо-советских торговых отношений. Я передал это предложение в Берлин, но министерство иностранных дел отказалось «препятствовать развитию частной инициативы» в нашей торговле с Советской Россией. Таким образом, эта возможность встречи советской внешнеторговой монополии с эффективной централизованной организацией немецкого бизнеса была потеряна из-за упорства, с которым преимущественно социалистское правительство Германии цеплялось за принципы частного предпринимательства. Помимо этого, немцы утратили и шанс создания важного прецедента. В последующие годы советское правительство крайне беспокоилось о сохранении этого своего преимущества и с огромной твердостью боролось с так называемым Российским комитетом германской экономики – организацией, основанной в целях ориентации германских фирм, интересующихся торговлей с Россией, предоставления им информации и консультаций.
Политика германского посольства также была направлена на защиту интересов германских фирм и индивидуальных бизнесменов, для чего оно вело переговоры с советским правительством либо уже вело дела в России на основе межправительственных соглашений. Мы рассматривали это не только как свою естественную обязанность, но и также как свое очевидное право; и это право представлялось одним гарантированным условием, содержавшимся во временном соглашении от 6 мая 1921 года, которое предоставляло торговому представительству при германской миссии прямой доступ ко всем советским экономическим учреждениям в обход дипломатических каналов. На базе этого условия и в качестве руководителя экономического отдела посольства я в течение ряда лет поддерживал частые контакты с ведущими официальными лицами Главного комитета по концессиям. Вначале я столкнулся с удивительным количеством договоренностей и согласований и выяснил, что некоторые члены этого комитета являются людьми с высокоразвитым чувством ответственности, которые в принципе не уклонялись от контактов с иностранными представителями. Это были открытые, культурные люди вроде Матвея Скобелева (1885–1938, расстрелян. – Ред.), бывшего министра труда в кабинете Керенского, Адольфа Иоффе, бывшего советского посла в Берлине, и других. У них было западное образование и соответствующие манеры поведения; что еще более важно, они понимали, что, даже не будучи коммунистом, иностранец может быть заслуживающим доверия партнером в переговорах. Хотя эти деятели и были преданными большевиками, они не были лишены некоторой способности проявлять беспристрастность, понимать точку зрения другого человека и признавать слабости в своей собственной позиции. Поэтому атмосфера взаимного компромисса до конца не исключалась, и сами советские переговорщики временами смягчали излишние требования либо устраняли ненужную софистику. С этими людьми у меня состоялось много плодотворных дискуссий, и вместе мы преодолели немало трудных барьеров.
Постепенно советские власти стали разными способами ограничивать и не допускать контакты с Главным концессионным комитетом. Когда посольство выражало протест против такого вмешательства в его дела, нам заявляли, что переговоры, касающиеся концессионных соглашений, являются суверенными актами, в которых советское правительство не потерпит никакого вмешательства извне, и менее всего – от дипломатических учреждений. Мы возразили заявлением, что мои контакты с Главным комитетом по концессиям служат целям защиты германских экономических интересов и посему являются неотъемлемой частью моих функций руководителя экономического отдела посольства, и мы сослались на временное соглашение 1921 года. В юридическом отношении мы находились на несколько зыбкой почве, потому что это соглашение давало право внеканальной связи ««торговым представителям при германской миссии», но не штатному сотруднику посольства, отвечающему за экономический отдел. Однако соглашение от 5 мая 1921 года стало недействительным после того, как был заключен договор от 12 октября 1925 года, и делу не помогло и то, что последний документ в туманной форме обязывал советское правительство «занимать примиренческую позицию» в отношении германских заявителей при выдаче концессий. Наши разногласия по этой проблеме с течением лет обострились, а советская позиция ужесточилась. Этот вопрос не был разрешен до декабря 1928 года, когда он обсуждался в ходе германо-советских переговоров в Москве. В то время нам пришлось согласиться с невозможностью заставить советское правительство отказаться от своих взглядов. Одной из причин, возможно, была убежденность советских властей, что проблемы и разочарования в области концессий, о которых мы будем говорить ниже, имеют тенденцию к росту; а предотвращая дипломатическое вмешательство в дела концессий, эти люди, вероятно, стремились ускользнуть от обвинений в будущих неудачах в этой области. Но когда из-за вопроса нашего прямого доступа к Главному концессионному комитету нависла угроза крушения всего процесса переговоров, советская делегация предложила компромисс: если мы откажемся от своего требования, они будут согласны предоставить руководителю экономического отдела посольства право работать напрямую (по экономическим вопросам) не только с Наркоматом иностранных дел, но также и с другими центральными органами СССР, кроме Главного комитета по концессиям. Немцы долгое время сопротивлялись, но наконец пошли на компромисс, хотя с самого начала и сомневались в честных намерениях советского правительства. И в этом они оказались полностью правы. Как позже выяснилось, различные центральные учреждения, несомненно получившие указания сверху, игнорировали свои обязанности работать с нами, саботировали прямые переговоры справа и слева и всяческим образом избегали каких-либо контактов с посольством. Экономическую информацию, которая была для меня жизненно важна, когда мне приходилось проводить экспертизу для германских фирм и их представителей, коммиссариаты мне не давали, хотя я и ссылался на заверения, которые нам дало их правительство. Письменные запросы либо оставались без ответа, либо по ним приходило меньше информации, чем можно было получить из прочтения советских газет. Часто меня отсылали в Наркоминдел, хотя сама цель соглашения состояла в том, чтобы обойти Наркоминдел и таким образом облегчить и ускорить прямую связь с компетентными органами. А когда мы жаловались в Наркоминдел, что это соглашение саботируется, мы получали уклончивые и неудовлетворительные ответы.
Потом, вспоминая эти годы, мне часто приходила в голову мысль, что моя первоначальная вера в ценные возможности, открываемые для Германии в 1921–1922 годах, была чересчур оптимистичной. Жесткость, с которой советское правительство сопротивлялось этим концессиям, делаемым, когда был введен НЭП, как для его собственного народа, так и для зарубежного бизнеса, заставила меня поверить, что семена, посеянные во внешне плодородную почву 1921–1922 годов, не дадут ожидаемых всходов. Я был убежден, что готовность Кремля поступиться частью суверенитета России ценой помощи со стороны иностранных капиталистов долго не продлится. Более того, я объясняю эту готовность чем-то пожертвовать влиянием буржуазных специалистов, которые в то время все еще имели заметное влияние на советские экономические учреждения. Они были готовы разрабатывать проекты, которые связали бы советскую экономику со всей мировой экономикой, и в частных беседах со мной они открыто признавались, что рассматривают такую политику и проекты в качестве средств, которыми советский режим можно было бы направить на курс медленной и постепенной эволюции.