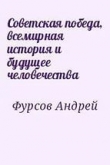Текст книги "Россия и Германия. Союзники или враги?"
Автор книги: Густав Хильгер
Жанр:
Педагогика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Берлинский договор
После того как коммюнике в газете ««Известия» очистило мое имя к взаимному удовлетворению обоих правительств, переговоры, касавшиеся политического договора, могли быть возобновлены. 18 июля Чичерин прислал графу Брокдорфу-Ранцау новую, составленную им преамбулу договора. Она была эквивалентной формальному объявлению о нейтралитете и включала в себя фразу, которая помешала бы вступлению Германии в Лигу Наций без советского на то согласия. Все это было неприемлемо для Берлина. В то время Германия все еще не была свободна от условий статьи 16, так что она не могла подписывать декларацию о нейтралитете; но она и не могла допустить, чтобы ее путь в Лигу Наций был блокирован советским вето. Создавалось впечатление, что Россия была менее заинтересована в добросердечном сотрудничестве с Германией, чем в том, чтобы скомпрометировать Германию перед Западом. Чичерин настаивал на том, чтобы новая преамбула была опубликована, что создало бы впечатление, что Германия действительно вообще не желает присоединения к Лиге Наций. Кремль явно нацелился на то, чтобы сохранить монополию на дружеские отношения с Германией, в то время как Штреземан считал, что уже сам по себе факт, что переговоры с Москвой идут параллельно переговорам в Локарно, был величайшей уступкой. У него не было желания выбирать либо одного, либо другого партнера, и он был весьма расстроен тем, что Москва не понимала его позиции.
Соглашения в Локарно окончательно убедили русских, что свою игру они проиграли. В своих стремлениях к возрождению Германия никогда не полагалась исключительно на свою дружбу с Советским Союзом. В то же время эти соглашения интенсифицировали ее старания сбалансировать урегулирование с Западом через договор о нейтралитете (с СССР. – Ред.), тем самым отводя «восточное жало» в сторону от Локарно. Что за договор имели в виду немцы, стало ясно в декабре, когда во время пребывания в Париже Чичерин подписал договор с турецким послом (12 декабря 1925 года), в котором предусматривался нейтралитет в случае военных действий и который включал в себя обязательства сторон о ненападении. Обе стороны также согласились не принимать участия в каких-либо политических, экономических или финансовых комбинациях, военных или военно-морских договорах либо враждебных акциях какого-либо рода, направленных против другого партнера по договору.
Несколько дней спустя Чичерин прибыл в Берлин, где он находился около двух недель, ведя интенсивные дискуссии с ведущими политическими деятелями, но так и не достигнув никакого реального соглашения. К настоящему времени вопрос сводился к следующему: Чичерин настаивал, что его правительство нуждается в гарантиях, предоставляемых официальным договором о нейтралитете, и утверждал, что свобода от статьи 16, которую союзники по Антанте даровали Германии, автоматически позволяла ей заключить такой договор, в то время как Штреземан хотел знать, почему формальное объявление нейтралитета все еще требовалось после ноты держав Лиги. Таким образом, разногласия были сведены главным образом к формальным соображениям, а Штреземан опасался какого-то впечатляющего документа со всеми его международными последствиями. Но теперь министерство иностранных дел ощущало давление не только с советской стороны, но и со стороны рейхстага, подавляющее большинство членов которого считало, что соглашения в Локарно не должны никоим образом привести к омрачению германских отношений с Россией.
Ближе к концу февраля 1926 года кабинет покончил с колебаниями и решил предложить Советскому Союзу заключить официальный договор. Проект, который прислал нам Берлин, состоял из четырех коротких статей и прилагаемого протокола. В соответствии со статьей 1 договор в Рапалло оставался основой для германо-советских отношений; оба правительства должны были поддерживать дружественные контакты, связанные с проблемами, касающимися их отношений. Статья 2 обязывала придерживаться нейтралитета в случае неспровоцированной агрессии в отношении одного из партнеров договора со стороны третьей державы. В статье 3 стороны обещали не вступать в любого рода коалиции или экономические кампании, направленные против другого партнера. Последняя статья касалась ратификации и срока действия договора.
Приложженный протокол имел форму германской ноты советскому правительству, в которой заявлялось, что оба правительства рассматривают этот договор в качестве значительного вклада в дело мира во всем мире. Оба правительства, говорилось далее в ноте, обсудили германский план вступления в Лигу Наций, и германское правительство выразило свое убеждение, что этот акт не нанесет вреда добрым отношениям между Германией и Советским Союзом. Если вдруг в Лиге станут проявляться тенденции к проведению антисоветской политики, Германия будет использовать свое влияние для противодействия этим тенденциям. Это, заканчивает нота, не противоречит условиям статей 16 и 17, поскольку они предусматривают санкции против Советской России лишь в случае советской агрессии; и в процессе принятия решения, является ли Советский Союз агрессором или нет, Германия воспользуется своим правом вето, так что ее не смогут заставить против ее воли участвовать в санкциях.
В данной формулировке предлагаемый проект договора представлял собой серьезную уступку советским требованиям. До сих пор Берлин твердо отказывался от идеи официального договора; настоящая версия значительно больше соответствовала первоначальным предложениям Чичерина. Представляя этот проект в МИДе, мы давали понять, что Германия подпишет этот договор только после того, как следующая сессия в Женеве решит вопрос о приеме Германии в Лигу. Подписать договор до этого времени – значит создать впечатление, что Германия считает свое вступление свершившимся фактом, что, в свою очередь, лишит ее мощных средств, с помощью которых она могла бы бороться за место в Совете Лиги Наций.
В начале 1926 года, совершенно вопреки ожиданиям Штреземана, Лига Наций отвергла германскую заявку на членство в ней. Такое решение оспаривалось компетентными авторами, и среди них был лорд д'Абернон (1875–1941, английский банкир и дипломат, консерватор. В 1920–1926 годах посол в Германии. Один из инициаторов Локарнских соглашений 1925 года. – Ред.), которые считали, что этот суровый отказ «заставил германское общественное мнение и лидеров германской нации опять обратить свои взоры на Восток» и что «г-н Чичерин и советский МИД должны еще раз воспользоваться немецким разочарованием… чтобы намекнуть на выгоды возросшего и более близкого русско-германского сотрудничества»[49]49
Lord D'Abernon. An Ambassador ofPeace. London: Hodder & Stoughton, Ltd, 1929–1930. III. P. 245.
[Закрыть].
Читателю должно быть ясно, что такое истолкование Берлинского договора (как его стали именовать) было неверным. Договор не был спонтанной реакцией на разочарование Штреземана на Западе; напротив, ему предназначалось сыграть роль некоего устройства для сбалансирования успехов германской внешней политики на Западе – и тех, что уже достигнуты, и тех, что еще ожидаются. Конечно, после того, как державы Лиги Наций захлопнули дверь перед носом немцев, стало неизбежным, что договору, который был подписан несколько недель спустя, будет дана более зловещая интерпретация, чем он этого заслуживал.
Незадолго до того, как договор был в самом деле заключен, несколько тревожных инцидентов вновь отравили атмосферу германо-советских отношений и притормозили завершающие переговоры по этому договору еще на несколько недель. Проходившие в течение первых месяцев 1926 года аресты германских граждан в Советском Союзе дошли до такой степени, что встревожили министерство иностранных дел в Берлине. Более того, в январе советские чиновники вскрыли посылку, адресованную посольству и отправленную из Тифлиса каким-то германским гражданином; оттуда, из посылки, они удалили ряд документов и заменили их Библией в явном стремлении посмеяться над посольством.
Эта почтовая кража в Тифлисе (с 1936 года – Тбилиси. – Ред.), возможно, была связана с еще более серьезным инцидентом, который произошел 13 декабря 1925 года. «Консульские агенты» рейха в трех закавказских городах – в Баку, Поти и Батуми – были арестованы чекистами ОГПУ и обвинены в шпионаже. Бакинское отделение, которое также использовалось агентом как жилье, было опечатано и помещено под охрану. Все трое были посажены в тюрьму ОГПУ в Тифлисе. Их официальная корреспонденция была конфискована, а официальные печати сломаны.
Эти господа – Шмиц, Корнельсен и Эк – были немецкими бизнесменами, жившими в Закавказье уже несколько лет и долгое время исполнявшими функции почетных консульских работников. В качестве таковых они в надлежащем порядке были представлены посольством советским властям в 1923 году, но Москва так официально и не признала их. Также не признала она и консульское соглашение от 12 октября 1925 года, предусматривавшее «консульских агентов». Поскольку Советский Союз желал избавиться от них, все трое были арестованы по стандартному подозрению в шпионаже.
За этим последовала череда протестов и опровержений. Наконец Чичерин объявил, что имеются убедительные доказательства в отношении предполагаемых шпионов, и сообщил о своей готовности предоставить Ранцау доступ к досье, которыми располагали чекисты на этих людей. «Давайте поедем вместе, – предложил мне посол. – Все равно я не могу прочесть весь этот вздор». Посему мы оба отправились в Наркоминдел, и Чичерин дал нам папки, в которых места, касающиеся ««консульских агентов», были отмечены для нашего удобства пользования. Эти материалы содержали утверждения, что данные люди, ныне находящиеся под арестом, занимались всевозможной шпионской деятельностью и делали доклады о своей деятельности генеральному консульству в Тифлисе. Пока я строку за строкой читал эти утверждения, Ранцау это быстро надоело, и он затеял беседу с Чичериным на политические темы. Я воспользовался возможностью, чтобы пролистать всю папку до конца; в нескольких документах я увидел и свое собственное имя и сделал удивительное открытие, что ОГПУ подозревало в шпионской работе в Закавказье и меня. Например, я прочел, что еще в 1921 году я отправлял эмиссара в Тифлис для сбора информации о стратегически важном мосте через реку Куру. Эти и все другие утверждения были смехотворной ложью. Я понятия не имел о таком мосте и никогда не отдавал такого распоряжения. Чиновник, которого я посылал в Закавказье, отправлялся в исключительно законную поездку с целью оказания помощи германским военнопленным, которые там все еще находились. Вдруг Чичерин взглянул на меня и увидел, что я листаю материалы ОГПУ. Он поспешно потребовал их вернуть.
Позднее Корнельсен, Шмиц и Эк были депортированы в Германию, чем все и закончилось. Но пока это дело находилось в своем апогее, оно оказывало необычный эффект на наше посольство. С одной стороны, наше возмущение росло, а чувству национального достоинства было нанесено оскорбление. В стремлении заставить русских исправиться наши переговорщики прекратили все разговоры о политическом договоре, который мы намеревались заключить, заявляя, что переговоры возобновятся только после того, как этот инцидент будет урегулирован, удовлетворив германское правительство. С другой стороны, некоторые из тех же самых чиновников, которые делали угрожающие жесты в сторону Советов, оказались во власти чуть ли не панического страха перед тем, что эти переговоры о договоре могут и в самом деле пойти ко дну в такой бурной атмосфере. Ранцау, который опять заговорил о том, что пора собирать чемоданы, в то же самое время предпринимал нечеловеческие усилия, чтобы избежать открытого столкновения.
До того как можно было бы подписывать договор, предстояло решить еще одну проблему. В начале апреля Наркоминдел, который, в общем, был доволен проектом договора, вдруг выдвинул резкие возражения против одного слова в статье 2, которая предусматривала нейтралитет в случае неспровоцированной агрессии против одного из партнеров по договору со стороны третьей державы. Русские возражали против слова «неспровоцированная», в котором содержался намек, что они могут спровоцировать какую-то третью державу напасть на них. Но фактически формулировка этой статьи не была никоим образом необычной для договоров о нейтралитете; она существовала даже во франко-польском договоре о союзе. Посему этот подразумеваемый намек был ясен только такому чувствительному и болезненному в вопросах международного престижа правительству, какое было у Советского государства. После долгих и утомительных препирательств мы наконец предложили заменить это спорное слово фразой «несмотря на миролюбивое поведение», заявив, что никаких больших уступок сделано быть не может. Спустя несколько дней, 24 апреля 1926 года, договор был подписан не Чичериным и Ранцау в Москве, как на то надеялся последний, а в Берлине – Штреземаном и Крестинским. То, что, как считал граф Брокдорф-Ранцау, должно было называться «договором Ранцау», вошло в историю под именем Берлинского договора (советско-германский договор 1926 года о ненападении и нейтралитете. – Ред). Несмотря на это разочарование, заключение договора стало кульминацией его карьеры посла, ибо дружеские отношения Германии с Россией были поддержаны и даже укреплены, несмотря на политику «выполнения». Теперь граф был невероятно доволен и даже соглашался, что мог совершить ошибку, если бы ушел в отставку после Локарно.
«Второй фронт» графа Ранцау
Заключение Берлинского договора ознаменовало кульминационный момент периода замечательной дружбы и сотрудничества между двумя странами, заметно выделявшегося в их истории и устремлениях. Дружба была тем более примечательной, что между высокопоставленными политиками двух стран не было никакой любви; она выражалась в чисто прагматических договоренностях между двумя правительствами, у которых были общими некоторые проблемы и некоторые враги. И все-таки «эра Рапалло» – если так можно назвать годы с 1922 по 1928 – стала свидетельницей расширения дружеских отношений в ряде неполитических и неэкономических дел. Живое интеллектуальное любопытство и космополитическое восприятие культурных контактов еще не были уничтожены в высших эшелонах правившей в России с 1917 года партии, и Германия многими лицами в Кремле рассматривалась как важный культурный центр, с которым для Советского государства было бы выгодно иметь дело. Нельзя сказать, что коммунистический режим считал, что буржуазная Германия может предложить какие-то уроки или поделиться опытом в управлении обществом в целом; но в области прикладных наук советские правители с большим уважением относились к германским достижениям. А поэтому в течение этих лет именно к немцам, главным образом, они обращались, когда нуждались в технических советах, которые было невозможно получить в их собственной стране, были ли это проблемы в области артиллерии, тяжелых конструкций (собственная промышленность, особенно оборонная, имевшая до 1917 года выдающиеся достижения, в частности в той же артиллерии, военном кораблестроении, в области производства боеприпасов и многом другом, в 1920-х сильно деградировала, потеряв и наработки, и кадры. Многое пришлось создавать в 1930-х заново. – Ред.) или лесного хозяйства. На личностном уровне это отношение было особенно разительным в области медицины. Чичерин ездил к врачу, лечившему Ранцау, в Висбаден; Троцкий – в клинику в Берлин (путешествуя инкогнито по специальной договоренности с германскими властями, что в глубочайшей тайне реализовывалось посольством), его мучили боли в желудке весной 1926 года; а Ленина в его последние месяцы тоже лечили многие выдающиеся немецкие терапевты и хирурги. Сегодня (в конце 1940-х. – Ред.) из-за самонадеянной гордости, с которой советская наука объявляет о своем превосходстве над Западом, такие поездки стали совершенно невозможными.
Хотя в 1920-х годах личные отношения между членами германского посольства и советскими чиновниками были не только корректными, но и сердечными, конечно, существовало некое внутреннее партийное ядро, совершенно недоступное для иностранцев; и советское правительство постепенно сузило число официальных лиц, которым разрешалось иметь дело с нами, до очень маленькой величины. В области политических отношений на высшем уровне имелось множество источников напряженности и конфликтов; некоторые из них мы уже упоминали, а с еще большим их количеством будем иметь дело позже. Тем не менее важно понять, что эти конфликты улаживались, пусть даже в затяжных переговорах, в которых обе стороны торговались вовсю. Несмотря на эту тактику взаимного вымогательства, за кулисами превалировала удивительная степень доверия и честного сотрудничества. Требуя взаимных консультаций по всем вопросам, касающимся обеих сторон, Берлинский договор 1926 года не только оформил действительные традиции и обычаи Берлина и Москвы. В течение всей «эры Рапалло» практиковались тесные взаимные консультации и обмен информацией без каких-либо серьезных фактов злоупотребления доверием со стороны любого из правительств. Говорили, что лорд д'Абернон, британский посол в Берлине в тот период, был в таком тесном контакте со Штреземаном, что его свободно можно было бы назвать неофициальным постоянным консультантом при германском министерстве иностранных дел. Не столь хорошо известен факт, что Чичерин вместе с Литвиновым и Крестинским обладали весьма похожим статусом на Вильгельмштрассе; очень часто министр иностранных дел и его постоянный помощник вступали с ними в откровенные дискуссии по вопросам международной политики. Но позиции Чичерина или лорда д'Абернона в Берлине нельзя сравнить с положением Ранцау в Москве, чья личная тесная дружба с наркомом по иностранным делам Чичериным находила свое политическое выражение в частых политических дискуссиях, которые затягивались до самой поздней ночи.
Можно сказать, что Берлинский договор 1926 года отмечает кульминационный момент «эры Брокдорфа-Ранцау» в германо-советских отношениях. Это была решающая победа на одном из фронтов, на которых граф все время сражался, ибо это означало нейтрализацию всех попыток Берлина придать германской политике преимущественно западную ориентацию. Договор гарантировал, что Берлин и Москва будут продолжать идти рука об руку даже при том, что Штреземан преследует политику «выполнения». С этого момента уже другой фронт требовал посольского внимания во всевозрастающей степени.
Когда я говорю о втором фронте борьбы, я отчасти имею в виду атмосферу, созданную идеологической ориентацией советского режима. Но даже помимо этого Ранцау и творцы политики в Берлине были обеспокоены вопросом, который не имел ничего общего с коммунистическими идеями Москвы. Дело состояло в общем отсутствии доверия к Кремлю, убежденности в том, что, каковы бы ни были их революционные устремления и планы, кремлевские правители были в основном людьми не внушающими доверия, плебейскими узурпаторами, которых честный дипломат не должен касаться даже трехметровым шестом, если он может себе это позволить (! – Ред.). Особый страх, который мучил посла, заключался в том, что Советская Россия может попасть в зависимость от держав Антанты. Этот страх был одной из причин для заключения договора в Рапалло; и он продолжал сохраняться среди германских дипломатов, окружавших Ранцау, которые между собой грустно морализировали по поводу скрытой неблагодарности и неверности советского режима. Поскольку Москва таила столь же сильные подозрения по поводу немецкого двуличия, дипломаты обеих стран постоянно были настороже, ожидая признаков неверности, то и дело задавали друг другу вопрос, кто же первым продаст партнера-соседа, заключив сделку с Польшей, Англией или Францией. Весной 1923 года Ранцау особенно нервничал в отношении возможности советско-французской сделки за счет Германии и был крайне встревожен пышным приемом, который Москва устроила летом того же года французскому сенатору де Монзи, который потом начал свой крестовый поход за признание Францией советского правительства де-юре.
1924-й стал годом, когда основные европейские страны вступили в дипломатические отношения с большевистским режимом в полном объеме. Правительство Макдональда (1866–1937, в январе – ноябре 1924 года премьер-министр первого лейбористского правительства Великобритании, которое 2 февраля 1924 года признало СССР. – Ред.) начало эту серию в феврале, а несколько дней спустя за ним последовал Муссолини. Самым последним в возобновлении дипломатических отношений стало французское правительство, дожидавшееся до октября. Когда советская пресса комментировала события, говоря о новой эре мира и понимания, подозрения Ранцау вновь пробудились. В середине января 1925 года в Москву прибыл новый французский посол Жан Эрбет. Являясь хорошо известным финансистом, он был связан с консервативной ежедневной газетой «Ле Темпс», которая поддержала Пуанкаре в его рурской политике. Два дня спустя того, как он был официально аккредитован при Кремле, Эрбет нанес графу визит вежливости; но Ранцау встретил его примирительные фразы с нескрываемой враждебностью и язвительными ссылками в адрес редакционной политики «Ле Темпс». Личная неприязнь Ранцау к Эрбету потом распространилась и на польского посла Станислава Патека и итальянца Гаэтано Манцони.
Столь эмоциональное отношение, которое Ранцау питал против Франции, не позволило ему ответить на неоднократные предложения Чичерина попробовать сформировать континентальный блок из трех великих держав, то есть Германии, Франции и России, в котором советский режим взял бы на себя миссию посредника между двумя старыми антагонистами. Помимо этого, любую подобную схему, которая вызывала бы вражду со стороны Англии, посол не собирался даже обсуждать. Тем не менее он не высказал открыто отказа подыграть схеме комиссара по иностранным делам; это ему представлялось приятным элементом дипломатической интриги, которая могла бы помочь нейтрализовать Францию и в то же время возвысить ценность дружбы с Германией в глазах Лондона.
В конце 1925 года Чичерин побывал в Берлине, пытаясь отговорить Штреземана от того, чтобы ввязываться в хитросплетения Локарно. Он уехал из Берлина, будучи очень озабоченным политическим курсом Штреземана на «выполнение» (Версаля и всего, что за ним следовало. – Ред.), и следующей его остановкой стал Париж. В Берлине Чичерин дал понять, что хочет улучшить советские отношения с Францией; очевидно, он опасался, что соглашения в Локарно могут еще крепче связать Германию с ее старым заклятым врагом Англией. Поездка в Париж была, видимо, попыткой пойти окольным путем.
Советский нарком иностранных дел сделал также остановку в Варшаве, без сомнения пытаясь предупредить Берлин, что противоречия между Польшей и Советским Союзом не являются непреодолимыми. И тем не менее в те годы для советско-польского сближения возможности были очень небольшие. Слишком много оставалось нерешенных жгучих проблем, и они создали прочную традицию вражды между двумя странами, так что любые германские опасения, что Кремль может продаться Варшаве, были не более чем истерикой[50]50
В первые дни марта 1926 года Чичерин заявил графу Ранцау, что его правительство готово признать восточную границу Польши в том виде, как она проведена в Рижском договоре (в 1921 году. – Ред.), в качестве цены за нормализацию польско-советских отношений. Такая нормализация стала бы зловещей прелюдией к заключению Берлинского договора. К нашему огромному облегчению, русско-польские переговоры ни к чему не привели, но только после того, как Ранцау дал понять, что заключение германо-советского договора и поддержание добрых отношений между Берлином и Москвой зависит от отказа от всяких намерений, которые мог бы иметь Кремль в отношении гарантий польских границ.
[Закрыть].
Напротив, можно сказать, что общая острая враждебность к новому Польскому государству, наряду с другими причинами, наиболее действенно связывала Берлин и Москву, и весь послевоенный период новый раздел Польши был скрытой конечной целью обоих правительств. (Тогда использовалась такая фраза: «Отбросить Польшу назад к ее этнографическим границам».) Эта конечная цель, естественно, редко озвучивалась и в промежутке между 1920 и 1939 годами не преследовалась достаточно активно. Всю «эру Ранцау» Берлин и Москва были едины в достижении менее амбициозной цели – нейтрализации Польского государства.
В этой связи оба правительства беспокоились о сохранении независимости Литвы – как пешки, которую можно было разыграть против Польши. 28 сентября 1926 года Советский Союз заключил договор о нейтралитете с Литвой, который был скопирован с советско-турецкого договора от 12 декабря 1925 года, но содержал дополнительную ноту, в которой советское правительство отказывалось признать польскую оккупацию Вильно (Вильнюс, с 1920 по 1929 год был захвачен поляками. – Ред.). В начале 1927 года чуть не вспыхнула война по вильненскому вопросу между двумя буферными государствами, и постоянные консультации между Берлином и Москвой демонстрируют близкую общность интересов этих двух стран в данном отношении. Но 7 июня 1927 года в Варшаве белогвардейским эмигрантом по имени Коверда был убит советский посол Войков (Петр Лазаревич Войков (1888–1927), один из убийц царской семьи в июле 1918 года, позже отличился в продаже за рубеж русских сокровищ и культурных ценностей. – Ред.), и в своих требованиях наказать убийцу и его сообщников Москва предъявила самые непомерные требования. (Коверду приговорили к пожизненному заключению, но в 1937 году освободили. – Ред.)
Вероятно, германское министерство иностранных дел рассматривало обострение советско-польских отношений в то время как весьма нежелательное явление; согласно «Фоссише цайтунг» от 16 июня, Чичерину было заявлено, что его ультиматумы производят в Берлине очень плохое впечатление. Позднее в том же месяце Наркоминдел кипел от негодования от речи, которую Штреземан якобы произнес в Женеве и в которой он заявил о своей готовности вмешаться на стороне Польши, стремясь ослабить требования Москвы. Это, воскликнул Чичерин, разговаривая с Ранцау, означает, что в глазах мирового общественного мнения Штреземан встал на сторону поляков. Так что опасения двуличия партнера ни в коем случае не являлись достоянием одной лишь германской стороны.
Но существовал и еще один аспект «второго фронта», который вызывал у немцев куда более серьезную тревогу, чем у их советских партнеров. Я имею в виду непрекращающуюся тенденцию советского режима вмешиваться во внутренние дела Германского государства.
После неудавшегося восстания в октябре и ноябре 1923 года Коммунистическая партия Германии (КПГ) спонтанно избавилась от своих колеблющихся и осторожных лидеров, которых она обвиняла в провале восстания, и сделала решительный шаг влево, сдвиг в сторону радикализма, который вознес на пост секретаря партии Рут Фишер. Хотя эта радикализация КПГ была все же не совсем в струе с внешне эволюционным курсом в России того времени, ряд советских влиятельных политических деятелей с большим или меньшим энтузиазмом поддержали ее и занялись самыми зажигательными революционными разговорами. Некоторые из этих речей через слухи или неофициальные донесения достигли ушей посольского персонала. В нашем распоряжении были свидетельства тому, что ряд выдающихся лидеров Коминтерна время от времени наезжают в Германию. Карл Радек был одним из тех, на ком, естественно, концентрировалось наше внимание, потому что он был замешан в предыдущих революционных беспорядках в Германии. Конечно, мы мало что могли сделать, чтобы помешать этим поездкам, которые всегда совершались инкогнито; мы даже не могли выразить протест, потому что у нас не было надежных доказательств.
Однажды я придумал один легкий способ, как проверить, был ли Радек недавно в Германии или нет. Все, что надо было, – это пригласить его на обед. Если он приходил со своей характерной бородой, мы могли быть уверены, что он не уезжал в нелегальную поездку за границу; но если он приходил чисто выбритым или с щетиной, тут могла быть только одна причина, почему он сбрил свою бороду. Не подозревая, что его изучают, Радек на этот раз появился во всем экзотическом великолепии своей густой бороды.
Однако протесты можно было заявить, когда советские официальные лица открыто проявлялись – своей речью или публикацией в печати с революционными посланиями, конкретно адресованными немецким рабочим, или когда они делали замечания, которые могли оскорбить Германское государство либо нанести ущерб немецкому престижу. Так, накануне всеобщих выборов 27 ноября 1924 года в номере коммунистической «Роте фане», официальном органе КПГ, было опубликовано воззвание Сталина, в котором германское правительство называлось режимом каторжников, а предстоящие выборы – каторжными выборами. ««Германский пролетариат, – говорится в воззвании, – не скажет своего последнего слова на этих выборах» – явный призыв к восстанию. Месяцем раньше та же газета опубликовала манифест Исполкома Коминтерна, подписанный Зиновьевым и Мануильским, который завершался словами «Да здравствует германская революция!». Зиновьев несколько раз в том году появлялся с подобными зажигательными призывами. Каждое из этих заявлений вызывало исключительно резкие протесты со стороны немцев, которые Наркоминдел регулярно отклонял, заявляя, что Советское государство не несет ответственности за высказывания коммунистической партии и Коммунистического интернационала. Но в конце концов, Зиновьев, мэр Ленинграда (с декабря 1917 по 1926 год – председатель Петроградского Совета. – Ред.), и Сталин, член Президиума Центрального исполнительного комитета, были и должностными лицами советского правительства.
Годы 1925 и 1926 стали годами сокращения в Коммунистическом интернационале или, по крайней мере, в Коммунистической партии Германии; и тут было решительное затишье в таком типе инцидентов, если позабыть о возмущении, которое вызвал Ворошилов в феврале 1926 года, когда в своей речи в День Красной армии он намекнул, что Германия опять перевооружается. Оскорбительный пассаж был спокойно вычеркнут советскими властями из официальных материалов. Но в следующем году Бухарин открыто обвинил Германию в попустительстве фашистскому перевороту в Литве и в других актах двуличия; и Ранцау был особенно встревожен редакционной статьей в «Известиях» от 25 марта 1927 года, в которой на Германию возлагалась основная ответственность за Первую мировую войну. В ноябре того же года Троцкий заявил, что «русские коммунисты должны ринуться на помощь своим западным братьям в борьбе против их угнетателей, даже если такой шаг может испортить отношения России с тем или иным буржуазным правительством». Конечно, мы знали, что влияние Троцкого в советском правительстве к тому времени упало до нуля; и все же даже после того, как Троцкий был сослан в Среднюю Азию, Ранцау все еще цитировал его заявление в своих депешах в Берлин.
Однако ни один другой инцидент не породил больше возмущения и ожесточенных споров, чем следующий: в ноябре 1927 года Советский Союз и мировой коммунизм праздновали десятую годовщину Октябрьской революции. Среди многих мероприятий, организованных в честь юбилейных торжеств, был Международный конгресс друзей Советского Союза. На этом конгрессе, проведенном в Москве, Ворошилов сказал, что «Октябрьская революция – это только вступление к величайшей драме, которая когда-либо разыгрывалась на человеческой арене. Но мы знаем, – продолжал он, – что скоро начнутся следующие акты этой драмы». После этого Буденный, выступая от имени Революционного военного совета, вручил ордена Красного Знамени ряду выдающихся французских, немецких и венгерских коммунистов, выражая надежду, что «под ударами пролетариата скоро падут оковы с наших братьев, томящихся в капиталистических тюрьмах». Это был неприкрытый намек на Макса Хольца, немецкого коммуниста, который в то время сидел в тюрьме у себя на родине. Он был награжден заочно, и эта награда, присужденная человеку, которого германские власти рассматривали как закоренелого преступника, могла расцениваться только как враждебная демонстрация против нашего правительства. Граф Ранцау заявил Чичерину, что рассматривает это как злобную провокацию, и угрожал уехать в Берлин, если не получит удовлетворительного разъяснения. Вопрос был окончательно улажен, когда Крестинский передал в министерство иностранных дел Германии заявление, в котором говорилось, что Красная армия наградила немецкого коммуниста орденом, не проконсультировавшись с правительством и Народным комиссариатом иностранных дел, и что Макс Хольц был награжден только за свою деятельность против французов во время интервенции в Россию, так что никакой враждебной демонстрации против германского правительства не намечалось. Министр иностранных дел уступил, но его посол в Москве остался неудовлетворенным и обвинял Штреземана в излишней мягкости при получении такого оскорбления. Последний и фон Шуберт возражали, что укрепившаяся и упрочившаяся Германская республика вполне может себе позволить закрыть глаза на коммунистическое вмешательство, которое только раздражает, но не представляет опасности для существующего политического порядка, в то время как действительно опасная пропаганда из Москвы находится под контролем. Но Ранцау придерживался куда более обеспокоенной позиции и чувствовал себя преданным своими вышестоящими начальниками.