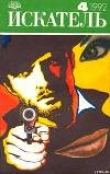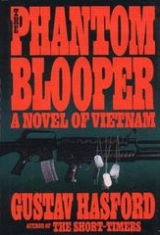
Текст книги "Старики и бледный Блупер"
Автор книги: Густав Хэсфорд
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
Донлон открывает здоровый глаз и замечает меня. Он слишком слаб, и говорить не может.
Я поднимаю его руку с койки и пожимаю ее хряковским рукопожатием.
– Желаю холодных РВ – на всю оставшуюся жизнь.
* * *
Прошел день после демонстрации за мир в Лос-Анджелесе, и вот я стою на грунтовой дороге перед домом Ковбоя в Канзасе. Смеркается, и я думаю о том, насколько же ближе от Канзаса до страны Оз и Изумрудного города, чем до вьетнамской деревни Хоабинь.
Здесь, посреди огромного океана волнующейся пшеницы, среди золота на земле и голубизны неба над головой, воздух чист, и тишину нарушают лишь хлопанье крыльев и щебетанье воробьиных стаек. На какой-то миг война представляется мне черным железным бредом, каким-то кошмаром, в котором слишком уж много шума.
Но даже здесь, в Канзасе, твердо стоя на американской земле, я вижу лицо Ковбоя за мгновение до того, как я пробил его голову пулей. Он передал мне отделение "Кабаны-Деруны", и, когда я принял у него отделение, он верил, что я стану на защите жизни каждого морпеха в отделении, даже если ради этого придется сдохнуть, даже если ради этого придется похерить другого морпеха. Жалко только, что этим морпехом оказался он. Он мне нравился. Это был мой лучший друг.
В кошмарных снах раз за разом я вижу эти сцены, но всегда – одни и те же. Ковбой лежит на земле, с простреленными ногами, отстреленными яйцами, без одного уха. Пуля, пробившая щеки, вырвала прочь его десны. Снайпер, засевший в джунглях, отстреливает от Ковбоя кусок за куском. Снайпер уже изувечил Дока Джея (Джей – от "джойнт"), Алису и салагу Паркера. Ковбой поубивал их всех выстрелами в голову из пистолета и пытается застрелиться сам, но снайпер пробивает ему руку. А потом снайпер начинает отстреливать от Ковбоя куски, чтобы остальные в отделении пошли за Скотомудилой и попытались его спасти, а снайпер тогда получил бы возможность поубивать все отделение, и Ковбоя тоже.
Каждую ночь наступает момент, когда Ковбой глядит на меня застывшими от страха глазами, и тянет ко мне руки, будто хочет что-то сказать, и я выпускаю короткую очередь из "масленки", и одна пуля попадает Ковбою в левый глаз и вырывается наружу через затылок, выбивая смоченные мозгами куски волосатого мяса…
Когда убьешь кого-нибудь – он навеки твой. Когда погибают друзья – тебе никуда от них не деться. Я как дом с привидениями; во мне обитают люди. Каждый раз, когда мне снится Ковбой, этот кошмарный сон завершается страшным разбрызгиванием крови, и я просыпаюсь в холодном поту, мне хочется вопить, но я боюсь выдать свою позицию.
А сейчас я на другой стороне планеты, и о насильственной смерти тут каждый день не думают. Я в канзасских полях, где погода – бог, а зреющая пшеница – жизнь сама.
Если верить ржавому почтовому ящику, родители Ковбоя живут в старом доме на колесах "Уиннебаго". Дом на колесах похож по форме на разрезанную буханку, и выкрашен так, чтоб совсем похоже было.
Справа по борту – небольшой амбар и загон для скота. В загоне стоит прекрасный белый конь.
Я ступаю ногой на треснувший шлакоблок, который тут вместо приступки. Стучусь в алюминиевую дверь, конь Ковбоя глядит на меня из загона и фыркает.
Женщина открывает дверь и приглашет меня войти.
Родители Ковбоя – фермеры-единоличники. У фермеров обязательно принято приглашать гостей поужинать – обычная норма поведения. И не принять приглашения неприлично.
Я был Ковбою другом, и потому мама его готовит любимое блюдо Ковбоя: чили с оригинальными техасскими приправами для чили производства "Гордон Фаулер'с". В чили полно всяких острых мексиканских штучек.
Никто не произносит ни слова, когда мама Ковбоя накрывает место к ужину и для него самого.
Миссис Ракер говорит: "Он вечно глаз не мог оторвать от какой-нибудь книжки про Техас. Мне кажется, Джонни всегда хотел бы быть родом из Техаса. Почему – не знаю". Медленно помешивая чили, она говорит: "Он был такой хороший мальчик".
Когда мы усаживаемся за стол, мистер Ракер предлагает мне прочесть молитву.
Я склоняю голову и произношу: "Благодарим тебя, Отец небесный, за то, что даровал нам пищу сию. Даруй нам сил телесных в славе твоей. Аминь".
Муж и жена Ракеры говорят: "Аминь".
Едим. Я вытаскиваю из своей цивильной сумки ковбоевский "стетсон". "Вот, – говорю. – Надо, наверное, вам отдать".
Мистер и миссис Ракер глядят на перламутровый "стетсон". Он выцвел на солнце, истрепался, продырявлен осколками, и столько втерлось в него красной кхесаньской глины, что не отмыть. На нем все так же красуется черно-белый пацифик.
Миссис Ракер мотает головой. "Нет, – говорит она, и в голосе ее сквозит холодок. – Он теперь твой. Пусть у тебя остается".
Я засовываю "стетсон" обратно в мешок.
– К нам капитана прислали, – говорит миссис Ракер. – Он на солнце сильно обгорел. Я ему лосьона дала, чтобы смазал. Такой был милый молодой человек, разговаривал так вежливо. "Пропал без вести, тело не найдено", – вот что он нам сказал. Он сказал, что им было известно наверняка, что Джонни погиб, только тела не нашли".
Ничего не отвечаю. Думаю о том, что после того, что моя пуля проделала с головой Ковбоя, даже найди его тело – и то пришлось бы отправлять домой в мешке с ярлыком "останки, осмотру не подлежат".
Миссис Ракер говорит: "Как-то неправильно выходит, что он не тут лежит, не дома, где все свои". Глядит куда-то в сторону. "Мы долго-долго еще думали, что может, он еще жив, может, ошибка какая". Она вытаскивает "клинекс" из картонной коробки и сморкается. "На меня до сих пор иногда грусть накатывает. Я знаю, что так нельзя, но в душе моей – злоба. Злоба такая, что до могилы донесу. Я отдала им доброго мальчика, христианина, а они из него душегуба пропащего сделали. И тогда длань господня опустилась с небес и поразила его".
Мистер Ракер говорит: "Они нам врали. Кина про Джона Уэйна погубили моего сына. Эти умники-политики подвесили его на крюк, как кабана на бойне".
Миссис Ракер говорит: "Я знаю, что война эта плохая была. Знаю. Все мальчики там вели себя плохо. И все же он был мне сыном, и я горжусь им. В Джонни было все хорошое, что есть у нас в стране".
Мистер Ракер говорит: "А твои где живут, сынок?"
Я отвечаю: "В Алабаме, сэр".
– Фермерствуют?
– Так точно, сэр, у нас было сто шестьдесят акров под арбузами, но папе пришлось пойти на открытый рудник, уголь добывать. Он умер, пока я был во Вьетнаме. Мне бабушка письмо прислала. Говорит, у него удар был. Я думаю, к работе на руднике он так и не привык.
– Плохие сейчас времена, – говорит мистер Ракер.
– Так точно, сэр. Плохие времена.
После ужина мистер Ракер в выцветшей серой рабочей рубахе усаживается в кресло-качалку и курит трубку, глядя через очки в стальной оправе на мерцающее пластмассовое полено в электрокамине. Запах дыма из трубки приятен, и напоминает мне о Дровосеке.
Мы с миссис Ракер усаживаемся на софе. Софа местами красная, местами черная, вся в пузырях, страшненькая такая. Миссис Ракер показывает мне соболезнование от корпуса морской пехоты. "Генерал, что был командиром у Джонни, такой внимательный – нашел время нам написать. Джонии у них, наверное, на очень хорошем счету был.
Я читаю письмо:
"Уважаемые господин и госпожа Ракер:
От имени офицеров, сержантов и рядовых Первой дивизии морской пехоты позвольте выразить Вам мое глубочайшее сожаление и самое искреннее сочувствие в связи со смертью Вашего сына, сержанта морской пехоты США Джона Ракера.
И, хотя вряд ли слова могут утешить Вас в этой величайшей потере, я надеюсь, что Вам станет легче, если Вы узнаете, что Джон погиб смертью храбрых, служа своей стране и корпусу.
Прошу писать мне когда угодно, готов оказать Вам любое посильное содействие.
Искренне Ваш,
Подпись генерала, командира дивизии".
Я не рассказываю миссис Ракер о том, что все соболезнования пишутся по единому образцу. Когда я был военным журналистом и тащил крысиную службу в информационном бюро в Дананге, я, помнится, печатал их дюжинами, сам же и подписывал, подделывая генеральскую подпись. В одиночку никто и никогда не смог бы бы подписывать письма с той же скоростью, с какой наши солдаты погибали.
Миссис Ракер вытаскивает конверт из толстой пачки писем, перетянутых желтой ленточкой. Миссис Ракер говорит: "А вот это пришло через две недели после того как нам сказали, что Джонни больше нет".
На конверте, на том месте, где должна быть марка – штамп "БЕСПЛАТНО". Внутри – написанное от руки письмо, на морпеховской писчей бумаге, такие вещи задешево продают в солдатских лавках, во весь лист – синим цветом памятник водружения флага на Иводзиме, и золотом сверху – орел, земной шар и якорь. Это письмо Ковбой написал, чтобы поблагодарить мать за коробку сахарного печенья, которую она прислала в посылке с гостинцами. Внизу письма подпись: "С огромной любовью, твое зеленое земноводное чудище Джонни".
Под подписью Ковбоя -дюжина других. Коробку печенья разделили на все отделение, и все мы подписались в знак благодарности миссис Ракер. Мое имя стоит первым. В самом низу письма – постскриптум: "Мама и папа, не волнуйтесь за меня. Джокер за мной присматривает. Со мной мои друзья, и мы все друг друга бережем".
Мы сидим в молчаньи, и все незаданные вопросы повисли в воздухе между нами, как погребальные венки из черного камня. Почему я так плохо присматривал за Ковбоем? Почему я жив, а Ковбой погиб?
Через какое-то время я говорю: "Мэм, спасибо за ужин. Было очень вкусно. Но мне пора. Мне типа домой не терпится".
– Понимаю, – говорит миссис Ракер. – Но ведь поздно уже. Оставайся у нас, переночуешь.
Я не успеваю сказать ни слова в ответ, как миссис Ракер встает и направляется вглубь дома на колесах. "Я тебе на кровати Джонни постелю".
– Спасибо, – говорю я, понимая, что вперся к ним как незваный гость, и в голову приходит мысль о том, что родители Ковбоя не так чтоб очень хорошо его и знали.
* * *
Где-то после полуночи я снимаю гитару Ковбоя со стенки над кроватью и выхожу во двор.
Усаживаюсь на изгородь загона. Конь Ковбоя подозрительно меня разглядывает, потом этот прекрасный жеребец рысцой пересекает загончик, бледный как призрак, весь лоснится, сильный такой. Конь трется носом о мою руку.
Я пою песню, которую Ковбой сочинил во Вьетнаме и посвятил своему коню. Песня называется: "Музыкальный автомат в джунглях".
Коню Ковбоя песня, похоже, по душе:
Огни горят – но не у стойки бара,
И в джунглях музыку не крутят,
Тут, во Вьетнаме, негде веселиться.
Твое письмо прощальное пришло,
Но негде в шуме музыки забыться…
Утром, с первыми лучами солнца, мистер Рукер отвозит меня в город на своем пикапе "Датсун".
Я сажусь на автобус до аэропорта.
Короткий скачок на 707-м компании "Дельта" – и я уже в оккупированной Алабаме, Сердце Дикси, где люди говорят так медленно, что если спросишь кого, почему он не любит янки, то согласишься с ним раньше, чем человек доберется до конца своего рассказа.
Мой самолет садится в Бирмингеме, и я сажусь на автобус компании "Грейхаунд", который идет в Расселвилл, что в сотне миль оттуда – главный город округа Уинстон, "Свободного штата Уинстон".
Я сижу в автобусе – неисправимый ветеран Вьетнама, и гляжу на знакомые сельские пейзажи с их низкими гладкими холмами, фермерскими хозяйствами на красной земле и хлопковыми полями, которые простираются до самого горизонта.
Юг – это большая индейская резервация, где живут экс-конфедераты, которых разводят как скот, чтобы посылать их помирать на янковских войнах. Из Алабамы с цирком не сбежишь – их тут нету, и потому мы идем служить в морскую пехоту.
История – это порожденная Франкенштейном кукла-урод на ниточках, за которые дергают из Белого Дома. Индейцы – это кровожадные краснокожие дьяволы, которые назло всем понастроили своих деревень поверх золотоносных месторождений и на пути железных дорог, и проявляли нездоровый интерес к захваченным белым женщинам. Солдатам-конфедератам присущ нездоровый интерес к черным женщинам, и они не могли придумать ничего лучшего, кроме как до смерти бичевать дядю Тома и продавать чернокожих детей вниз по реке. Русские, которые даже из трубки горохом ни в одного американского солдата ни разу не выстрелили, которые никогда не отбирали ни горсточки американской земли, и которые потеряли двадцать пять миллионов, спасая мир от Адольфа Гитлера, суть Империя зла и порождение Сатаны, и наш злейший враг на планете. Наша история заставляет нас бросать на босоногих землепашцев за двенадцать тысяч миль отсюда бомбы размером больше "Фольксвагена" и называть это самообороной.
Черный Джон Уэйн все это понимал: "Можешь остаться и жить с нами в нашем искусственном иллюзорном раю, если пообещаешь притворяться, что веришь в ту ложь, которой мы кормимся. Будешь отдавать честь любому чинуше, который мнит себя Наполеоном -
приютим и дадим порезвиться".
В Америке мы постоянно врем, сами себе и обо всем, и всякий раз своему же вранью верим.
* * *
Когда глядишь сквозь закопченное автобусное окно, то будто кино смотришь. Я вижу брошеную хибару из черного толя с выбитыми стеклами, которые зияют как раскрытые рты. Неизменные раздетые остовы машин ржавеют на заросшем сорняками дворе рядом с неизменным разваливающимся навесом для инструмента.
Вижу поросшее кустарником пастбище, на котором пасется костлявый рыжий мул с глубокой седловиной.
Лишь по немногочисленным металлическим мемориальным табличкам можно сейчас понять, что автобус компании "Грейхаунд" катит по черной полосе асфальта, уложенного над могилами побежденного племени, жившего в мертворожденной стране, катит по краю, где живут призраки былого, по захороненным здесь сражениям. Вьетнам, штат Алабама.
Юг – это первая страна, покоренная американской Империей. Мы – побежденный народ. Наши завоеватели излечили нас от наших чудных обычаев – шитья лоскутных одеял, строительства амбаров и забивания свиней всем миром, и закидали нас бомбами из ревизионистских книг по истории и каталогов "Сирс", и обратили нас в гомогенизированную копию Севера.
Единственные зримые остатки культуры нашего побежденного народа – обваливающиеся кирпичные стены и заросшие сорняками каменные фундаменты, и рифленые белые дорические колонны, поглощаемые болотными водами. Осыпающиеся земляные сооружения, траншеи и орудийные позиции беззвучно таятся в тенистых девственных лесах, и до скончания времен будут нести там службу оборванные, босые хряки-конфедераты, милые сердцу призраки, которые воют от людского непонимания.
Но конфедеративная Мечта не умерла. Конфедеративная Мечта – эта отчаянная и героическая попытка уберечь от федеральных тиранов свободу, завещанную нам Томасом Джефферсоном и Бенджамином Франклином. Упрямая упертость конфедеративной Мечты не умирает, глубоко укоренившись в наших генах, эта мечта незаметно и неискоренимо врезана в них металлом, который лежит в этой земле.
* * *
Автобус компании «Грейхаунд» вкатывается в Расселвилл. Вот уж и мой родной городок проплывает по ту сторону стекла, как в телевизоре. Мы катим мимо каменного солдата Армии Конфедерации. Я замечаю, что за каменным солдатом на одной из улочек разворачивается парадное шествие.
Почти в любом городке на Юге, который может вместить в себя более одной бензоколонки, в центре его тащит караульную службу каменный солдат из наилучшего итальянского мрамора.
Наш каменный солдат стоит в полный рост, опираясь на мраморный мушкет и внимательно озирая горизонт, чтобы не прозевать наступления янковских армий.
Поколение за поколением приходили и уходили, а каменный солдат в Расселлвилле не покидал своей позиции в центре главного перекрестка города. Но после того как пьяный водитель из города Молин, что в Иллинойсе, усыпал ошметками своей моднячей иностранной спортивной машинки мраморный педестал каменного солдата, этого бывалого воина (с одним подтвержденным янки на личном счету) переместили на более выгодную в стратегическом плане позицию – через дорогу, на газон у здания суда.
У суда я выхожу. Говорю водителю, сексуальной чернокожей молодке с красной шелковой косынкой, обмотанной вокруг шеи: "Спасибо, милая. Смотри, не напрягайся чересчур на работе".
Она скалит зубы. "Счастливо. Ну, добро пожаловать домой".
* * *
Расселвилл – такой маленький город, что каждый раз, когда я устанавливал свою шаткую, выпачканную в краске стремянку перед входом в кинотеатр «Рокси», вокруг меня собиралась толпа. Наверное, самое опасное, что мне приходилось делать в жизни – это залезать на ту стремянку, скрепленную проволокой от хлопковых тюков, с полными руками красных пластмассовых букв с фут высотой каждая, чтобы выложить из них название последнего фильма с Элвисом.
Люди в Расселвилле дружелюбные, они останавливались поболтать со мной, пока я вставлял буквы, расспросить, что за кино будут показывать, или поприкалываться над моими орфографическими ошибками, так что рано или поздно я сам начинал с ними перепираться и травить анекдоты. И в скором времени я решил, что готов и хочу стать актером в Голливуде. И неудивительно – в Расселлвилле было легко выделиться из толпы и стать местной звездой. И все здесь по-прежнему. Все тот же расширенный кусок дороги.. По-прежнему это всего лишь подобие города, населенного деревенщиной, здесь чисто и тихо, местечко из тех, что не на каждой-то карте и найдешь.
Я прохожу мимо кинотеатра "Рокси", выстроенного в старомодном стиле, похожего на причудливую глазурную верхушку свадебного торта, по-киношному яркого.
Я оказываюсь посреди парадной процессии, когда она заворачивает за угол, размыкает ряды и распадается, превращаясь в толпу людей в маскарадных костюмах.
Когда я учился в школе, самым распространенным видом парада на главной улице Расселвилля был парад старых машин, набитых моими приятелями, сотни "Шевроле" 55-го года, которые выжигали последние остатки ископаемых горючих материалов, без конца крутя петли взад-вперед, через весь город, от парковки Эй-энд-пи с вывеской "Распродажа – Распродажа – Специальные цены – Специальные цены", что была на одном конце города, и обратно до лавки "Кинг Фрости", над которой висел рожок с мороженым с лампочкой внутри, размером с человека – и снова обратно, приветствуя воплями всех и вся, показывая парням средний палец и барабаня по боку автомобиля при виде пятнадцатилетних срок-давалок.
Все девчонки тогда носили свитеры своих парней с эмблемами школьных команд и перстни их классов. А чтоб кольца держались на пальцах, девчонки приклеивали липкую ленту. Любимая шутка тогда была: как увидишь машину с прижавшейся друг к другу неразлучной парочкой, обязательно надо было спросить: "А кто правит-то?"
В своем собственном родном городе я растерян как салага.
* * *
Оркестранты в военных формах наполеоновского образца: красные длиннополые кителя и высокие мохнатые шапки, латунные пуговицы и пряжки. Трубы с тубами отсвечивают как полированные золотые скульптуры.
Я скольжу взглядом по лицам – вдруг увижу кого из знакомых? – и в это время строй участников парада распадается. В нескольких задних рядах еще продолжают рефлекторно задирать колени, хотя на малых барабанах уже перестали отбивать ритм по металлическим ободам. Толстяк с большим барабаном отцепляется от своего барабана и ставит его на землю. На барабане написано: "Марширующая сотня".
По Главной улице фермерские жены без косметики и сами фермеры, которые на что угодно реагируют (если вообще реагируют) разве что смущенными улыбками, текут сливающимися потоками по тротуарам, направляясь к своим машинам и грузовикам. Мужчины высокие, поджарые, загорелые, на них линялые синие комбинезоны и коричневые фетровые шляпы. Женщины полноватые и невзрачные, в дешевых хлопчатобумажных платьях от "Сирс".
Девушка из барабанной команды в военной форме проходит мимо меня, поблескивая серебристыми глазами, она беззаботно посвистывает в серебряный свисток, золотые блестки подчеркивают ее безупречные формы. Это Беверли Джо Кларк. Я ее знаю. Но вот она меня не узнает.
Я не успеваю и рта открыть, а она уже ушла, как видение во плоти.
Следом проходят дюжина девчонок в красных мундирах с блестками и белых виниловых ковбойских сапогах, некоторые беззаботно вертят хромированными палками с белыми резиновыми наконечниками.
Я обращаюсь к девчонке, крутящей поблескивающий жезл перед собой. Ей лет семнадцать, может – старшеклассница, а может – и помладше. Я говорю: "Привет! Мы ведь с тобой знакомы?"
Девчонка глядит на меня, краснеет, хихикает, отступает поближе к подружке. У подружки глаза Бетти Дэвис и бедра Бетти Крокер. Обе вразвалочку уходят, как утята, в поблескивающих красных мундирах и с блестящими желзами, сияющими на солнце.
Я говорю: "Да постой… Неужто ты меня не знаешь? Я Джим Дэвис. Ванессу Оливер знаешь? Дженис Тидвелл? Ивонну Локхарт? Джаделль Стеффанони? Донну Мюррей? Джоди Корику? А сестричку мою, Сесилию Дэвис?"
Участницы парада оглядываются, смущенно хихикают. Они глядят на шрамы у меня на лице. Подружка говорит: "Староват ты для нас, мистер". Они смеются и с важным видом быстренько уходят прочь, локоть к локтю, многозначительно шепчась, обе сразу.
* * *
Так долог был мой путь домой, и вот результат: не стоило тратиться на дорогу, и вот что обнаружил, самое главное: мне стыдно. Мне стыдно называться американцем. Америка превратила меня в душегуба. Душегубом я не родился – меня обучили.
Расселвилл – это богобоязненный город, каждый год растящий и собирающий урожаи хлопка, кукурузы и сыновей, исполненных желания умереть за президента.
Фермы разваливаются, а город тем временем растет. Жизнерадостные йомены конкордовок и лексингтоновок, трудолюбивые люди, породненные с землей, превратились в городах в беженцев, выпрашивающих подачки у продажных политиканов. В деревне люди зарабатывали себе на жизнь тяжким трудом. В городах выживают за счет вероломства, лжи и воровства. Хряки пашут, крысы заключают сделки.
Вот мой дом. Ничего не изменилось. Просто стало все не так. Это больше не Америка. Я уже не в той стране, в которой родился, и не тот человек, каким должен был стать. В киношках под открытым небом больше не крутят интересных картин. Мороженое на вкус как глина. Женские груди – кокосы с сосками из черной резины. Я уже забыл: когда я уехал отсюда и зачем? И зачем я вернулся? И где я сейчас? Не знаю. Никто из нас толком не знает. Мир, как мы его знали, взял и сбежал куда-то, и нет его. И где ж мы теперь? Мы остались одни. Вот где мы, братаны, именно так, халявы не будет, откат – п…ц всему, одни мы теперь. А тем временем повсюду вокруг, как раздувшиеся белые пауки, гражданские кучкуются в своих хибарках из дешевой пластмассы и полируют свои Кадиллаки, которые существуют только в их воображении.
Проходя по улицам города, в котором я вырос, не перестаю восхищаться Черным Джоном Уэйном, его способности беспощадно проницательно взирать на реальный мир – той проницательности, обретение которой с таким трудом давалось мне на Вьетнамской войне, а Черному Джону Уэйну была, похоже, дарована с рожденья. Он прав был, от и до, когда все повторял, что, рано или поздно, политика всегда сводится к одному – дубинкой по макушке. На уроках обществоведения в средней школе Расселвилла именно эту чрезвычайно важную информацию довести до нас забыли.
Сидящий Бык сказал однажды: "Белые люди – хитрые, но они не мудрые". Американцы уважают не людей. Американцы уважают деньги, власть и механизмы. Вьетнамцы бедны, это самый бедный народ на земле, но у них есть достоинство, душевность, гордость, они знают, что такое честь. Вьетконговцы живут в мире, более похожем на ад, и живут счастливо. Американцы погрязли в роскоши, и им невесело. Мы не моральные банкроты; мы должники.
Неуловимо мелкими шажками, молчаливо истекши кровью после тысячи полученных надрезов, американцы превратились в жалких индейцев, живущих в резервации. Наше пуританское наследство, этот наш кошмар повседневной жизни всегда был болезнью, недугом, который не давал нам расти вверх. Ведь в конце-то концов, порок американцев и их губительная слабость – это чистейшая, неприкрашенная спесь. Мы отворачиваемся от фактов и смеемся. Америка борется на руках с самим богом, и уверена, что в конце концов победит. А между тем нам не вырваться из реальности смерти, как белым мышам из черной стеклянной банки, но, тщетно пытаясь вырваться на свободу, мы калечим друг друга, бездумно и безжалостно, даже не зная о том, что есть такое понятие – милосердие. Американцы полагают, что можно и время победить – надо просто морпехов заслать.
* * *
Американцы попали в плен к своей же мифологии – своих же фильмов насмотрелись. Если понадобится послать американцев в газовые камеры, нам не будут рассказывать про душевые, нас стадами погонят в шлакоблочные кинотеатры.
В этой стране правду отыскать – что защитника для Освальда найти. Заплутав среди собственных мифов, во власти собственных механизмов, мы хватаемся за наркотики, кому что нравится – секс, власть, слава, деньги, выпивка, героин – ибо мы боимся будущего, которое нам неподвластно. И этот страх перед будущим заставляет нас ненавидеть и себя самих, и работу, которой мы занимаемся.
Мы проводим дни, перекладывая бумажки с одного конца стола на другой. Но это лишь бы чем-нибудь заниматься, и нам это понятно. Мы все вытягиваем подачки из тех, кому принадлежат города, да и сами мы принадлежим – как скот, от хвоста до рогов. Если те, кому принадлежат города, вдруг закроют все супермаркеты и отключат электричество, все мы умрем с голода и перемерзнем, и будем плакать, и не будем знать, что делать, нам будет страшно в темноте, и те, кому принадлежат города, это знают, и потому им известно, как велика их власть над нами.
Жизнь в городах отбирает у человека не только душу, иногда намного больше. Иногда за это требуют больше, чем можешь заплатить.
В детстве я играл в войну на этих самых улицах. Помню вопли и боевые кличи, разлетающиеся осколки от гранат-лампочек, грохот крышек от мусорных баков, что были у нас вместо щитов. На реальной войне все совершенно так же, как на детской. Пока не ранят. Вот когда ранили, она уже другая. Что в жизни ни возьми – все в конце концов оказывается не так, как ты слышал от других. И вот когда ты это поймешь, когда поймешь, до чего капитально тебе засрали мозги в стране тысячи неправд, что-то в тебе умрет, умрет навсегда, и зародится нечто иное. И с этого момента – бойся! В стране тысячи неправд честный человек – государственный преступник.
Когда возвращаешься в город, где рос мальчишкой, то понимаешь, что рвался-то, по сути, ты не в город, но в детство свое. Я сейчас не в том городе, в котором рос. Мой старый-добрый родной город стал другим. Настоящий мой родной город убрали и поставили на его месте копию. Солнце купили на распродаже по "Сирсу" и прикололи степлером к небу. Американские хибары, выстроившиеся вдоль улицы с ровно посаженными деревьями, цветастые и такие большие, что не верится. Газоны ровненько подстрижены, по линеечке подрезаны. Просвечивающая пластмассовая трава, типа той, что кладут в пасхальные корзинки, подвергнута убийственному маникюру – покоренные джунгли.
Картонные листья безжизненно дрожат на чугунных деревьях. И по всей Главной улице, на которой телеграфные столбы черны и похожи на детали из детского конструктора, все здания серы. Типичная городская Америка – шумная, грязная, закрытая ото всех на ключ и замкнутая на засов.
Мой родной веселый городок превратили с лагерь для круглоглазых беженцев, с кирпичными бараками и неоновыми лампами.
В Хоабини Сонг сказала однажды, что американцы – как человек, взявший в жены велосипед. Он приводит его в дом и спит с ним. Приходит день, и велосипед ломается. И тогда этот человек боится выйти из дома, потому что разучился ходить.
* * *
Слегка прихрамывая, прохожу пять миль, что до нашей фермы, мимо поселка при хлопкопрядильной фабрике, мимо акров и акров хлопковых полей.
Когда я вижу нашу ферму, она какая-то чужая. Дом. Дом – именно ради этого мы дрались во Вьетнаме. Домой – туда нам всем хотелось. Нам казалось, что мы знаем, где он, но мы ошибались.
На отцовских полях нет рисовых чеков. Отцовские поля невспаханы, повсюду торчат кусты джонсоновой травы и темнеет поросячья щетинка амброзии и осота. Отцовские поля не разбиты на сектора обстрела. Отцовские поля не усеяны больше цепочками точек, которые вблизи превращаются в толстые круглые синевато-зеленые арбузы. И колючая проволока здесь только на межевой ограде в две нитки, и ограда эта нуждается в ремонте.
Я сворачиваю с шоссе в две полосы и пролезаю через дыру в межевой ограде. Срезаю путь по полям. Я обрабатывал и переобрабатывал каждый дюйм этой земли – плугом, который тащился за мулом, на тракторе и мотыгой. Каждая унция этой земли побывала у меня под ногтями.
Я срезаю путь через зеленку, которая тянется вдоль мелкого ручья.
Замечаю оленя, и при виде его снова вспоминаю детские войны. В этой самой посадке, где стоит сейчас олень, я сам стоял в полный рост, вооруженный японским штыком, который отец привез домой со Второй мировой войны. Много раз я прорубался через отчаянные летние наступления вражеских деревец.
А после усаживался на корточки в дорожной пыли и побивал рыжих муравьев резиновым томагавком. Рыжие муравьи были коммунисты, а я был Грегори Пек на высоте Порк-Чоп-Хилл.
Когда мне было двенадцать лет, мне подарили на Рождество однозарядную винтовку 22-го калибра, и я устроил настоящую бойню для белок, кроликов и серых ящерок. Но в оленей я никогда не стрелял.
Пара рогов выплывает из подлеска, слышно, как мягко и ритмично ступают копыта по ковру из сухих листьев. И появляется олень, светло-коричневый, с белой грудью и белой пуховкой хвоста, рога его из желто-коричневой кости, а глаза – чересчур большие и слишком человеческие. Олень замирает, прислушивается. Он заходит в ручей, опускает голову, пьет тихо текующую воду. Я стою без движения и жду до тех пор, пока олень не растворяется среди деревьев.
Поздно возвращаться к земле в Америке, земле мы не нужны.
* * *
Я прохожу мимо русла высохшего ручья, где когда-то ловил саламандр, которых еще называют «водяными собаками», и любуюсь прозрачным студнем лягушечьей икры, прилепившимся снизу к мокрым камням. Галька хрустит под безукоризненно начищенными ботинками, как будто я иду по древним костям.
* * *
Где-то здесь я похоронил свою первую собаку, Снежка, которого задавил пьяный электрик на красном пикапе. Я похоронил Снежка в коробке из-под обуви, положив туда клинышек кукурузного хлеба и записку для бога, чтобы бог знал, какой хороший это был щенок.