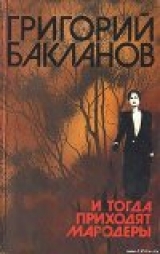
Текст книги "Свой человек"
Автор книги: Григорий Бакланов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Глава XII
Обратно летели другим самолетом: Ту-154. Он был меньше, тесней, но зато был здесь первый класс с широкими удобными креслами, и Евгений Степанович сразу почувствовал себя в своей среде. Хорошенькая бортпроводница, с синими тенями и плитами румянца на скулах, приняла у него плащ на плечики и унесла, а потом задернула занавески, отделив их салон от остальных, ввезли напитки. И когда расстелены были крахмальные салфетки (одна – на столик, другая – на колени) и подана закуска, Евгений Степанович с улыбкой обернулся с переднего сиденья, приветствуя и поздравляя с удачным завершением поездки тех членов делегации, которые летели с ним первым классом, и уже в их лице – остальных. Сияло заоблачное солнце в иллюминаторах, и пузатенькая стопка с коньяком в его руке засверкала, просвеченная насквозь. Следующая была выпита с соседом за знакомство: приятнейший человек, генерал в штатском. Выпили, и посветлело перед глазами. Они шли в спокойном, горизонтальном полете, и занавеси, которые косо втянуло в салон, пока набирали высоту, теперь плотно прилегли.
Закусывая шпротами, целые рыбешки суя в рот, сосед басил благодушно: «Живу, как при коммунизьме, а здоровье, как при капитализьме». Это «зьм» обличало в нем принадлежность к определенному слою руководства. В свое время Леня сказал фразу, за которую оба они могли поплатиться головой – и тот, кто сказал, и тот, кто слышал: «Оттого и построить не могут, что произносить не научились: социализьм, коммунизьм…»
Он встретил Леню через восемь лет. Шел по Тверскому бульвару, была оттепель, мокрый снег с дождем лепил в лицо крупными хлопьями, под ногами – слякоть, и машины расплескивали этот жидкий снег. В ту пору не сняли еще трамвайные рельсы, «аннушка» ходила по бульварному кольцу, и Пушкин стоял на прежнем месте. Или уже перенесли его? Евгений Степанович шел, нагнув голову, и переживал, что новое ратиновое демисезонное пальто – впервые в жизни такое соорудил себе, оно все еще стояло на нем, как на манекене, – обмякнет, обвиснет, потеряет вид. И, весь в этих мыслях, чуть не столкнулся с Леней, увидел его в самый последний момент. В черной не по росту флотской шинели (почему эта шинель на нем?), в очках… Раньше он не носил очков.
Сквозь стекла очков, сквозь годы Леня смотрел на него добрыми глазами блаженного, будто заново узнавал. А по стеклам сползали мокрые хлопья, и капало, и капало.
– Я ведь на тебя там подумал, – сказал Леня, словно все это вчера было, и Евгений Степанович не переспросил, о чем он, а надо было – это уж потом пришло в голову, – надо было не понять, удивиться. Но Леня не заметил, будто все годы вели они этот разговор. – И так и сяк думалось… После допроса сопоставляешь. Получалось – ты. Все сходилось. А потом мне показали. Знаешь, кто? Куликов. Ты прости меня. Я еще там решил: выйду – попрошу прощения. Самое страшное, что сделало с нами время, это то, что мы все друг друга подозреваем, готовы поверить.
Растроганный, Евгений Степанович ничего не сказал, голос пресекся. Он только сделал жест слабого человека, которого ни за что ни про что могли обесчестить. И в своем роскошном пальто обнял Леню, горячо, благодарно расцеловал, холодные очки ткнулись ему в лицо, и капли с них повисли на его щеках.
Не раз в дальнейшем хотелось ему рассказать, как его чуть было не обвинили безвинно, но он знал людскую психологию, послушают, а про себя решат: «Значит, что-то было, зря не скажут, дыма, как известно, без огня…» И западет, и утвердится, и пересказывать начнут.
Под ровный гул моторов, под коньячок сосед-генерал рассказал пару благодушных анекдотов, не отстал и Евгений Степанович, в свою очередь, рассказал про замминистра, которого вызвали на дуэль. И съехались к назначенному часу секунданты, противник ждет, нервничает, а замминистра нет и нет. Вдруг прибыла секретарша: «Иван Прокофьевич просил начинать без него…»
Когда-то, когда Евгений Степанович делал первые шаги своей служебной карьеры, услышал он этот анекдот от замминистра, и звали того действительно Иван Прокофьевич, в чем и состояла добавочная соль. Не совсем случайно оказались они в одном купе вагона, Евгением Степановичем были приложены для этого соответствующие усилия. Он и бутылку армянского коньяка предусмотрительно положил в чемодан и, когда внесли чай в подстаканниках и увидел он, с какой скукой, как брезгливо поглядел замминистра на этот вагонный чай, решился: бутылку коньяка – на стол. Вскоре перешли на «ты»: Иван Прокофьевич дарил его начальственным «ты», Евгений Степанович почтительно говорил «вы».
– Ты, случаем, не храпишь? – укладываясь спать, спросил замминистра с должной прямотой. И после этого сам оглушительно прохрапел всю ночь. А перед Москвой, умывшись, побрившись и галстук повязав, перестал узнавать Евгения Степановича: вышел из купе, едва кивнув; на перроне его радостно встречали подчиненные.
Но неисповедимы пути Господни, не дано людям знать, что их ждет впереди. Минуло время, и Евгений Степанович сел не куда-нибудь, а именно в насиженное Иваном Прокофьевичем кресло, а тот, уже персональный пенсионер такого-то значения, попросился к нему на прием, поскольку и на пенсии человеку все еще надо чего-то, не ему самому, так деткам, внукам. И был неожиданно быстро принят в прежнем своем кабинете, и обласкан, и напоен чаем с неизменными сушками, как сам он когда-то поил здесь не каждого, и опять они были на «ты», но только теперь уже в другом порядке: «Ты, Иван Прокофьевич…» – «Вы, Евгений Степанович…» А когда ушел он, растроганный, благорастворенный, поверив во все обещания и заверения, Евгений Степанович вызвал секретаршу, и было ей строго приказано: с этим человеком (он машинально указал на стул, где только что сидел посетитель) никогда его больше не соединять.
Очистив крупный, сочный апельсин и вытерев пальцы о скомканную салфетку, Евгений Степанович отделял дольки и клал в рот. Всхолмленным снеговым полем, осиянным с вышины, простерлись внизу облака, над которыми они летели. Где-то под ними, под облаками, день хмурился, где-то проливались на землю дожди, а здесь, в заоблачном мире, светило солнце. И только когда открывались окна в облаках и смутно виднелась в бесконечном провале земля внизу, вся в мягких складках, становилось ощутимо, что под их широкими креслами, в которых они сидят, перегрузившись едой, и беседуют, – десять километров пустоты.
Евгений Степанович опустил пластмассовую шторку иллюминатора: жарко было щеке от солнца, поверить трудно, что за тонким этим бортом полсотни градусов мороза. Как часто бывает после возбуждения, вызванного первыми рюмками, он почувствовал усталость, и надоел ему сосед, с которым они так приятно беседовали и даже обменялись визитными карточками. Отвалившись в кресле, он прикрыл глаза.
– Подремать? – спросил генерал, будто команду подал.
Евгений Степанович не ответил, мирно посапывал носом.
В аэропорту, как обычно, встречала жена, и шофер нес за ним чемодан. «Кто звонил?» – спросил Евгений Степанович первым делом. Тревожных звонков не было, особо значительных – тоже. А дома ждала дочь, Ирина. Покачивая бедрами, большая породистая кошка, рысь пушистая, она подошла, обняла его, надавила грудью, обдав запахом французских духов.
– Не наваливайся! – сказал он и хлопнул ее по заду.
– Да? Немедленно одерни!
«Красивая, мерзавка! – подумал Евгений Степанович, любуясь дочерью. – И знает, что красива, знает свое оружие».
И тут же перерешил: серебряные, с зелеными камнями, украшения – жене, черный, шитый серебром халат – Иринке.
Но торжество было на другой день, в Комитете. Все уже знали, что поездка прошла удачно, расценена положительно (Евгений Степанович успел представить все в выгодном свете и был похвален), и встречали его как героя. Способствовало этому еще и то обстоятельство, что председатель Комитета находился в служебной командировке, в одной из капстран, иначе само его присутствие сделало бы неприличным столь явное и одностороннее проявление всеобщего энтузиазма. Все, кто в этот день входил в кабинет Евгения Степановича и выходил из него, чувствовали себя сопричастными торжеству, словно бы повышенными в ранге, и в самом воздухе Комитета, где обычно к обеденному часу преобладали запахи столовой со второго этажа – запах жареной рыбы, тушеной капусты, томатной подливки, – распространялись сегодня флюиды и какие-то неясные надежды.
Подписав ряд бумаг, Евгений Степанович пригласил в кабинет своего молодого соавтора, который давно уже томился в приемной: тот успел приготовить несколько новых сцен. Внесли чай, бутерброды под салфеткой, и чтение началось. Евгений Степанович, загорелый на азиатском солнце, что совершенно незаметно было там, но резко отличало его в Москве и еще подчеркивалось белизной воротничка, слушал в крутящемся кресле, а мысль его нет-нет да и отвлекалась, блуждала по этажам и кабинетам, где сегодня утром он побывал, и вновь переживал он приятные мгновения, однако лицо его сохраняло выражение вдумчивое.
– Ну что же, – сказал он, когда чтение завершилось, и увидел испуганный взгляд своего соавтора, взгляд зайца. Это был страх не за себя, а за то, что себя дороже. Что же это, что они так ценят, ради чего собой готовы пожертвовать? Евгений Степанович испытал легкую неприязнь, некий укол в сердце, что-то похожее на зависть. – Ну что же… Прорисовывается… Неплохо, неплохо… Характеры намечены. У вас в двух экземплярах? В одном? Ну это мы распечатаем. Я хочу глазами пройтись по тексту. А вообще уже кое-что есть…
Тут со срочным делом вошел Панчихин, и Евгений Степанович, удалясь с ним к столику с телефонами, выслушал негромкий доклад, во время которого Панчихин раза два строго взглянул сквозь очки на юношу. А потом, не отпуская Панчихина, заканчивал при нем разговор с молодым драматургом, прохаживаясь вдоль стульев:
– Смелей надо, смелей. Задача искусства – смело вскрывать причины. И осмыслять. Что же мы будем показывать следствия. Надо глубже копать. Но не на полштыка, а на всю штыковую лопату! Смелость – вот что в искусстве отличает художника.
И в этот момент, когда он так говорил при слушателях, он сам в это верил. Это была привычная естественность лжи, которую он уже не замечал. И вскоре по коридорам Комитета зашелестело, передавалось из уст в уста: что-то произошло «наверху». Смелей надо, смелей, глубже копать требовал сегодня Е. С., так его, по аппаратному шифру, называли в кулуарах.
И Панчихин в этот день говорил драматургу, чья пьеса уже с год лежала без движения, поскольку автор коснулся в ней того, чего касаться не принято, говорил, как свое собственное, выношенное убеждение, которое он устал повторять:
– Ну что же мы будем копать на полштыка?.. Задача искусства не в том, чтобы регистрировать следствия. Причины смело вскрывать – вот чего нам сегодня не хватает.
И лениво перекладывал страницы.
– Мой принцип простой: мы сидим здесь и смотрим, чтобы каждый ловил одного мыша. А кто двух ловит, даем по рукам. У вас же, простите великодушно, и мышонка не наблюдается в поле зрения, не за что давать по рукам.
И пошли телефонные перезвоны, из стен Комитета вынеслось наружу, повторяли одну и ту же фразу: «Глубже, глубже надо копать…» Еще не ясно было, кем она сказана, откуда спустилась, но уже сам факт, что одна и та же фраза приходит из разных источников, повторяется разными людьми, говорил о многом. И укреплялся желанный слух: зреют важные перемены.
Глава XIII
Считается, юность – золотая пора. Но юности своей Евгений Степанович не любил. Хорошего, чтобы вспомнить без стыда, было мало, унижений много. Особенно после того, как отец бросил их и они жили, как заклейменные. Он и матери запретил приходить в школу, казалось, по одному виду ее несчастному все сразу все поймут. А все и так все знали. И никого из одноклассников он никогда не звал к себе домой: запах детской мочи от соседей, керосиновая гарь и мыльный пар (вечно на их общей кухне что-то вываривалось, кипело, заливало керосинку) – неистребимый этот запах бедности застрял в носу, казалось, он насквозь пропах им, он чувствовал на морозе этот запах, случалось, подходя к школе, расстегивался, чтобы выветриться, глянет – нет ли кого поблизости? – и потрясет полами, а то и вовсе снимал пальто, под мышкой нес, вроде бы закаляется. И все равно пугался и краснел, если кто-нибудь из мальчиков начинал слишком пристально приглядываться к нему.
Да с ним ли это было, в его ли жизни: раздвинутый во всю длину обеденный стол в большой столовой, блестящая от утюга крахмальная скатерть, и во главе стола – отец, маленький и оттого особенно значительный. Он медленно прожевывает, медленно говорит, и каждому его слову мать внимает как откровению. А днем, в пустынной столовой, когда отец был на работе, он раскатывал по навощенным полам на трехколесном велосипеде – какой же величины была эта столовая? Натирать полы раз в две недели приходил полотер дядя Петя, размазывал из ведра по полу желтую мастику и, пока она подсыхала, шел на кухню покурить; в доме пахло сырым дубом, мастикой, а из кухни – махоркой. Покурив, дядя Петя разувался, снимал сапоги, впихивал портянки в голенища, ступни его ног были такие же желтые, как мастика в ведре. И начинал растанцовывать: руки вольно за спину, одна нога с надетой на нее щеткой ходит-машет перед ним поперек пути, туда-сюда, туда-сюда; другая, которой он подпирается, переступала, то пальцами захватит, то пяткой вперед, то пальцами, то пяткой. Тогда еще не было электрических полотеров, был дядя Петя. И широкой рекой по навощенным полам разливался за ним сияющий свет.
И уже вовсе несбыточным казалось, что и это было с ним, в его жизни, а не с другим кем-то: швейцар, похожий на адмирала, почтительно открывает перед ним двери, и он, независимо размахивая портфелем, идет по мраморному вестибюлю среди иностранного говора, сам входит в медленный лифт, там уже стоят двое-трое иностранцев, и он снизу вверх спокойно разглядывает их, пока лифт поднимается. Он выходит, идет по ковровой дорожке, белоснежные горничные что-то протирают, начищают, сдувают… У этого времени был и цвет и свет особый: алый цвет бархатных занавесей с кистями, тяжелый блеск начищенной до золотого сияния бронзы. Как-то прошел он мимо этих навсегда закрывшихся для него дверей, и швейцар не узнал его.
Он думал иногда, возвратясь из школы, один сидя в комнате, чего бы он хотел, если бы загадать и сбылось? Отрезав черного хлеба, напрессовав его в сахарном песке и сверху еще насыпав горкой, он загадывал: вот если б ему на день килограмм чайной колбасы, не любительской даже, а дешевой чайной, остро пахнущей чесноком, и чтобы не отрезать, как мать отрезает экономными тоненькими кружочками, а откусывать от цельного круга… Килограмм чайной колбасы, килограмм пышного белого хлеба. Нет, лучше французские булочки, горячие, чтоб холодное масло таяло на них… И нередко случалось, вернется мать с работы, разогреет на кухне суп, а хлеба в буфете нет, весь хлеб съеден. «Ну, забыл, забыл, понимаешь, забыл! – сразу же начинал кричать он. – Уроков черт-те сколько задали, можешь ты это понять? Забыл купить!..»
Все в классе знали, что он нравится Вере Кизяковой, и он тоже знал это и стыдился ее. Вера жила в бараке. Беленькая, волосы, как солнечная паутинка, гладко зачесанные, кожа на лице прозрачной белизны, все жилочки на висках просвечивают. Как-то пришла на уроки, вся заплаканная: соседи подрались, опрокинули со зла тарелку щей на ее тетради. В промерзающем засыпном бараке, в одной комнате три семьи теснились, за общим столом ели, за этим же столом, на уголке, готовила она уроки.
Но однажды – было это уже в девятом классе – он зазвал Веру к себе домой. За день до этого они ходили с Борькой Пименовым купаться на Москву-реку. И уже возвращались, шли вверх от берега, когда их окликнули. Три женщины загорали, и что-то постиранное было развешано на кустах. Ослепительно белые, совершенно нагие, лежали на траве и с хохотом звали их. Они испугались, убежали, и после стыдно было смотреть друг другу в глаза, читать свои мысли. Он промучился ночь, весь следующий день ходил, как слепой, и тогда зазвал к себе Веру Кизякову. Все происходило поспешно, оба были напуганы, а в коридор в это время выкатились соседские пацаны, и один из них, побиваемый, рвался к нему в дверь, ища спасения.
Потом он бегал от Веры, панически боясь последствий, о которых был наслышан. Она высматривала его, поджидала, но он выходил из школы только с ребятами вместе, один не появлялся. Последствий, к счастью, не было, но страху он натерпелся. И вот когда все обошлось, собрались однажды ребята у Борьки Пименова в его огромной квартире с дубовыми, до блеска натертыми полами, по которым лениво похаживал из комнаты в комнату, постукивал когтями огромный дог. Они на спор толкали гири, отжимались от пола, кто больше, расхвастались друг перед другом. Ему особо похвастаться было нечем, и тут само как-то получилось, он не хотел, но просто чтоб не отстать, рассказал про то, что было у него с Верой Кизяковой. Ему не поверили – «Врешь ты все!», – выпытывали подробности. И после этого ребята стали льнуть к Вере, притискивали ее, он не замечал. И гадок он был себе, тем особенно гадок, что Вера все поняла, он как-то перехватил ее взгляд, когда Борька Пименов нарочно при нем тискал ее. Все этим взглядом она ему сказала.
А потом была война. Впрочем, он уже тогда учился в институте, на первом курсе, у него отросли небольшие мягкие темные усики, приятно было поглаживать их пальцами, и фразу он обычно начинал со слов: «Видишь ли…» Какой подъем был в первые дни войны! Как дружно они все шли в ополчение, как рвались на фронт. На митинге старый их профессор говорил срывающимся на плач голосом, вздымая над собой сухонький кулачок:
– Пусть меня понесут вперед на носилках!..
После небольшого кровоизлияния в мозг он слегка приволакивал ногу.
– Пусть меня понесут, за мной пойдут все!..
Свою легковую машину он отдал еще до того, как начали мобилизовывать транспорт, и на лекции его привозила на трамвае племянница.
Им раздавали оружие прямо из ящиков, стоявших на земле, они подходили по очереди, им вручали винтовки и патроны. Ему досталась австрийская винтовка с тяжелым окованным прикладом, сохранившаяся еще с той войны, к ней полагался, так помнилось ему, ножевой штык, но штыка не было. Из руки в руку передал ему винтовку некий товарищ в военной фуражке, военной гимнастерке без знаков различия и в полосатых гражданских брюках, вручил и напутственно хлопнул по плечу свободной рукой. И каждому он так вручал винтовку и хлопал напутственно: кого по спине, кого по плечу. В осенний беспросветный день в сырой землянке, когда пошли слухи, что где-то на фланге немцы наступают, обходят, вспомнит все это Евгений Степанович, и подумается, что тогда уже, с самого начала определилось, кто будет вручать и напутствовать, а кто пойдет с оружием в бой.
По четыре в ряд сборными колоннами, придерживая винтовки на плечах, во всем домашнем, еще не приладившиеся ни к строю, ни к песне, шли они посреди улицы, сандалии, ботинки, полотняные, начищенные зубным порошком туфли топали недружно, не в лад, полоскались на ногах полотнища брюк, а командиры – кто гордо впереди строя, а кто сбоку – все какого-то не военного, осоавиахимовского вида, уже покрикивали для порядка, и москвичи останавливались на тротуарах, смотрели вслед.
Мог ли он думать тогда, что все так быстро рухнет, и в октябрьской, покидаемой жителями Москве, холодной и темной, к которой подступали немецкие армии, а по улицам носило пепел сожженных бумаг, он будет разыскивать отца, найдет, пробьется к нему, и тот, увидев его, испугается: не за него, за себя. Он понял его испуг:
– Не бойся, я не дезертир. Я вышел из окружения.
Отец поспешно прикрыл вторую дверь кабинета.
– Тише! Здесь не кричат.
Ящики стола раскрыты, отец уничтожал бумаги. И, пробиваясь к нему, к сердцу его, торопясь, стал сын рассказывать, как все там у них произошло, как в последнюю полуторку, в набитый кузов, запрыгивали на ходу, а те, кто не успел, бежали следом по песчаной лесной дороге, хватались руками за борта, а их по рукам, по рукам били, по пальцам. Сенька Конобеев единственный впрыгнул, смог, пальцы измочалены в кровь, а на лице не злость, не обида – счастливая благодарная улыбка. Так бы и его отпихивали, не успей он раньше других втиснуться в кузов, к самой кабине. А ночью, в ледяной воде, когда вброд переходили реку и самый маленький ростом соступил в яму, вынырнул, закричал с испугу, его пхнули в затылок: тони молча! И утонул бы. Жизнь человеческая в такие моменты ничего не стоит, он был там, видел это.
И показалось, отец проникся, прочувствовал, понял. Тогда он осмелился попросить: сейчас набирают в военно-медицинскую академию, еще не поздно, если отец позвонит…
Истощенный, зеленый, жалкий, стоял он по ту сторону стола, где стояли просители и подчиненные. На фронте, когда пошли слухи о немецком наступлении, он видел, как один их студент тайно ел стиральное мыло, срезал ножичком и ел, мыльная слюна пенилась на губах. Он тоже в последние дни, уже не надеясь разыскать отца, ел стиральное мыло, и его проносило с кровью: это на тот случай, если задержит патруль.
Отец нагнулся, захлопнул один ящик, другой, прикрыл дверцы стола, а когда распрямился, это был другой человек, официальный, четкий, чуждый каких бы то ни было посторонних чувств:
– Товарищ Сталин послал на фронт своих сыновей! – сказал он громко не только ему одному, но и всему, что в этих стенах могло слышать.
И сын забормотал ошеломленно:
– Я пойду… Я был… Я не отказываюсь…
Взмолился:
– Пойми, один человек там ничего не решает! Я даже не обучен. Зато после академии, потом…
Отец молчал непреклонно. И сын понял, если он погибнет, отец переживет это: он выполнил свой долг перед родиной, отдал родине сына. И в тот момент он возненавидел своего отца и весь его порядок, при котором жертвуют сыновьями. Мог ли он думать, что, прожив жизнь, еще позавидует отцу, тосковать будет по этому незыблемому порядку.
Что не сделал отец с огромными его возможностями, сделала мать, у которой не было связей, ничего у нее не было. И ведь она не одобряла его, он видел, если бы его забрали на фронт, она, жалея его и любя, приняла бы это как должное. Что-то незнакомое до этих пор, покорность высшей силе, которая в общей беде уравнивала ее со всеми, сделала ее другой. Но и сказать ему: «Иди, воюй!» – она не могла. И вместе с ним прошла весь позорный его путь, о котором он никогда не вспоминал и никому не рассказывал. Это со временем и отдалило его от матери.
Ночью на вокзале их пустили в санитарный поезд. Как мать умоляла начальника поезда, как умолила его, он не знал, но их пустили с их вещичками, среди ночи в тесном купе под стук колес кормили горячим борщом, и был вкусен этот борщ с кроваво-красными от свеклы кусками мяса, кажется, ничего вкуснее в жизни своей он не едал. А после страшно мучился животом, в воспаленном его кишечнике ничего не задерживалось.
Один раз он осмелился, вылез из купе, прошелся по вагонам. С верхней полки свесилась круглая голова, остриженная под машинку.
– Герой! Ты чего не на фронте?
Раненый был его ровесник, а может, и моложе его; грудь замотана бинтами, рука в гипсе. В подрагивающем на ходу поезда солнечном луче золотилась пробившаяся щетинка на крепком подбородке, на смуглых скулах, и светлые глаза набрякли оттого, что свесился сверху, оттуда смотрел. «Я был там!» – хотелось сказать Жене, но почувствовал, как лживо это здесь прозвучит. И голос блудливо завилял.
– Вот еду призываться…
– Призываться… Играться! Защитничек…
Больше он не вылезал из купе и только поражался, что временами в вагоне раздается смех, не обходили они вниманием и сестричек, а о борще, который разносили в обед, говорили больше, чем о фронте. Наверное, они были примитивно устроены, не способны осмыслять происходящее, ту беду, которая нависла над страной.
И был потом бесконечный путь вверх по Каме. Пароход, набитый беженцами, шлепал по реке, темная холодная вода заплескивалась на палубу, встречный ветер обдавал пресными брызгами. И среди узлов, среди вещей – замотанные, закутанные от холода люди: сидят, лежат, спят, сжавшись. И этот кудлатый крепкий старик, положив чемодан на колени, закусывает на спеша, как на столе:
– Чего отступаем? Жиды с фронта бегут!
На глазах голодных людей, он резал ножичком вареное мясо, розоватое внутри, вволю отрезал себе хлеба, сочно грыз луковицу.
– Да я первый палку возьму и его, подлеца…
Он закашлялся, подавившись, заперхал, заперхал крошками, а Жене Усватову и тех крошек, вылетавших у него изо рта, было жаль, так он изголодался, обессилел весь. От вида мяса, от запаха хлеба и лука все его нутро воспаленное изнывало, сжималось больно.
–…первым палку возьму: не беги, стой, где поставлен! Привыкли за чужие спины прятаться, чтоб другой за них голову клал.
Под бешеным его взглядом в страхе каменела еврейская семья: мать, дочка, бабушка. Евгений Степанович, разумеется, был не еврей и совершенно не похож, но он так отощал, так плохо выглядел, что на всякий случай сидел, не поднимая глаз. И в самом деле, стал он замечать, что на пароходе набилось многовато еврейских семей. И был парень его возраста, худой, навсегда задумавшийся, лицо желтое, жидко обросшее, он закрывался поднятым воротником, то ли нос свой озябший закрывал, то ли загораживался от ветра, одни очки блестели. Он тяготел к Усватову, к ровеснику своему, чтобы держаться вместе, но тот как раз этого избегал. И от семьи от этой отсел подальше, само как-то так получилось.
А пароход все плыл и плыл под низкие темные тучи, вставшие над холодной водой, плыл под них в безвестность. Прошлого не стало, в будущем ничего не ждало, и с берегов наплывали слухи, один тревожней другого. И вот странная особенность памяти: осталось так, будто старик этот и в самом деле пристукивал по палубе тяжелой суковатой палкой, даже рука его узловатая, вся из набрякших мослов, виделась. Но палки не было, Евгений Степанович помнил точно, и он объяснил себе это живостью воображения.
И там же, на пароходе, когда совсем уже оголодали и нечего из вещей было променять, чужая женщина подала им по куску хлеба. Отвернувшись от посторонних глаз, чтоб не завидовали, она отрезала себе с дочкой, но почувствовала взгляд: он смотрел голодными глазами. И не удержалась, не совладала с собой, отрезала ему и матери от единственной своей буханки хлеба. Но мать сказала:
– Мы не можем взять, нам отдать нечем. Разве что ему маленький кусочек…
– А вы не мне, вы кому-нибудь потом отдадите…
И на этом, поданном ей в голодную пору, куске хлеба мать свихнулась окончательно. Сколько ей суждено было прожить, все эти годы отдавала, отдавала свой долг и никак не могла отдать.
Эвакуированных встречали на пристани в маленьком городе местные жители, разбирали по домам, по семьям, проникнувшись общей бедой, а их с матерью пожалела молодая солдатка, увидела, как они, сойдя с парохода, стоят неприкаянные. Она жила в бараке в большой комнате, были там кровать, стол, комод с зеркалом, швейная машина под вязаной накидкой, а на стене в большой рамке – увеличенная фотография, два напряженных скуластых лица: она с мужем. Она нагрела воды, и он, и мать впервые за долгое время искупались по очереди в корыте, поставленном у теплой печи, которая топилась из коридора. И заснул он на полу, на подстеленном полушубке, впервые за долгое время так хорошо, так покойно спал за тысячу верст от войны, будто провалился в мир и тишину. И живот с того дня странным образом успокоился.
Хозяйке было лет двадцать пять, крепкая, полная и лицом красива, так ему, во всяком случае, казалось, – он рядом с ней совершенный заморыш. Скажи он, что был уже на фронте, из окружения вышел, она бы не поверила. А если б поверила, другой был бы спрос: что ж это он, призывного возраста, – в тылу, а не там, где его сверстники, где ее муж, от которого не было вестей?
Когда она, раздевшись в тепле, в одной ситцевой блузке с короткими рукавами, в сатиновой юбке на сильных бедрах, обдавая запахом разгоряченного тела, то на мороз выскочит, то в печке шурует, то простирнет что-либо в деревянном корыте, и все – быстро, споро, на лету, он каждое ее движение взглядом сопровождал, пьянел, она ему ночами снилась, и это были тяжелые сны.
Но в городок прибыл полк, разбитый, потерявший тяжелое вооружение: заново формироваться. И в барак стали захаживать командиры, приносили паек, выпивку, оставались ночевать. Он слышал, как женщины откровенно обсуждают их, сравнивая, кому больше повезло. И однажды она сказала строго:
– Ну что, поночевщики, так и будете жить у меня?
И они с матерью перебрались в холодный коридор, куда выходило множество дверей, жались к топке: найти жилье в маленьком городке, забитом войсками и беженцами, было не просто.
Как-то раз командиры и соседки собрались у нее, жарили на керосинке картошку на постном масле, ах, как пахла эта жарящаяся картошка! Отчего-то он надеялся, что его тоже позовут. Мать, конечно, не позовут, зачем она там, но он надеялся.
До полуночи шло веселье, а когда расходились, он видел, ушли не все. Утром на крыльце она сливала из ковша на жилистую шею капитана, и тот, в нательной рубашке, отфыркивался на морозе, что-то говорил ей, а она смеялась, у Жени все холодело в груди от этого смеха. И ростом этот капитан был ниже ее, и старый какой-то.
Проводив его и сама уходя на работу, она вынесла им с матерью остатки разогретой и вновь остывшей картошки, на блюдечке вынесла, что осталось, как кошке какой-нибудь. И он ел, стыдясь и ненавидя себя, ел, потому что был голоден, сидел в коридоре, у топки, на старом свернутом ватном одеяле, которым они с матерью укрывались ночью, и ел эту недоеденную, из милости вынесенную ему картошку.
Не знал он тогда, что еще суждено ему попасть на войну, но путь его туда будет долог: через училище, через запасные голодные полки, где формировались и уходили на фронт маршевые роты, а он провожал их. И поспел он уже к самому разбору: с тремя звездочками на погонах прибыл прямо в Вену. Но и ему в дни всеобщего торжества, когда ничего было не жаль, ему, находившемуся при штабе армии, тоже выдали орден, не самый главный, но все же боевой орден на грудь, чтобы не стыдно было домой вернуться.
Через много дней после войны отец разыскал его, вызвал телеграммой. За всю преданность не миновало отца то, что остальных, преданнейших из преданных, не миновало: очередь подошла по разнарядке, а может, знал много. Лет семь отсидел он, был выпущен после XX съезда, о котором тем не менее говорил с ненавистью. Жил он в Болшеве, под Москвой: то ли снимал, то ли из милости пустили на терраску, в эдакий застекленный голубятник на втором этаже, куда снесли всякий ненужный хлам, старую мебель. В собственную квартиру он не был впущен. Вторая жена, ради которой он и бросил их с матерью (была она достаточно еще молода, как говорится – в теле), приоткрыла дверь, увидела старца стриженого, беззубого, стоит на лестничной площадке с авоськой в руке, а в авоське – селедка в промокшей газете да бутылка боржома. Увидела, узнала, выйдя (так пересказывали Евгению Степановичу), загородила собою вход, только в щелочку успел он увидеть подросшую дочку в глубине квартиры. «Не порть мне жизнь, ясно? Иди, не порть нам жизнь!» И не впустила в дом, был у нее там кто-то.








