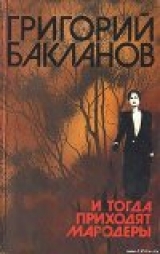
Текст книги "Свой человек"
Автор книги: Григорий Бакланов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Глава III
На большой застекленной террасе, светлой от свежеструганной вагонки, которой недавно обшили и потолок, и простенки, и сплошную стену, шумно сидели гости за сосновыми, под старину, столами из толстых досок. Было уже и съедено, и выпито немало, и лица потны и оживленны, а все вносилось и ставилось, вносилось и ставилось. Пироги пекла Ангелина Матвеевна, большая мастерица своего дела, в доме ее звали Евангелиша, гостям представляли – «наша гостья», но за стол не сажали. Вносила же пироги под восторженные возгласы и разрезала их, и поздравления принимала сама хозяйка.
Умением жены организовать все так, чтобы само все делалось и все были довольны и оставалось только принимать поздравления, Евгений Степанович не уставал восхищаться. Сколько ни сменялось исторических формаций, сколько бы ни являлось миру всяких сократов и гегелей, а была, есть и будет в жизни все та же простая и вечная комбинация: ездока и лошади. Либо ты едешь, либо ездят на тебе. Так уж лучше в седле, чем под седлом.
– Ну, ты, Еленушка Васильевна, скажу тебе со всей большевистской прямотой, и мастери-ица! – тяжело дышал перегрузившийся едой Басалаев, почетнейший из гостей. – И налучился я, и нагрибился, а уж пироги-и!.. И где ты эти грибки маринованные до сей поры сберегла?
– В холодильнике, в фаянсовом бочоночке, как знала!
– Хороши-и! Придется меня нынче подъемным краном приподымать.
Тут, шашлыками на шампурах вперед, вбежал с участка шурин, уже не красный от жара углей, а синий, запаленный. Чуть обугленное, с дымком, сочное мясо капало жиром.
– Ему-то налей, – с привычкой говорить при человеке, как в отсутствие его, хозяйски распорядился Басалаев. Но Евгений Степанович выждал, пока шурин, захватив в руку освободившиеся, позванивающие шампуры, убежал.
– Нельзя…
Временами он оглядывал гостей за столом. Все это были люди, достигшие положения в жизни, жива была бы мать, прослезилась бы умиленно: «Какие люди собрались у тебя, Женя!..» Они и шутили, и смеялись, но временами на разных лицах вдруг проступало одно и то же, знакомое ему выражение непреклонности: «Нет!» Он по себе это выражение знал, мышцами лица чувствовал.
С царственной улыбкой Елена Васильевна пошла вокруг стола, загадочно предвещая нечто, и остановилась за спиной забытого всеми среди разговоров полковника, мягко положила ему на плечи свои широкие ладони.
– А сейчас Андрей Федорович что-то расскажет нам.
«Сергей Федотович», – хотел было он поправить и даже дернулся, но слишком блестящим было общество, сробел, не решился заострять внимание на себе.
– Я вам сейчас раскрою секрет: Андрей Федорович – однополчанин Евгения Степановича. Вместе, можно сказать, прошли дорогами войны, вместе брали Берлин…
И опять полковник дернулся, хотел сказать, что их Третий Украинский фронт южней шел, но мягкие руки с вишневым маникюром надавили ему на плечи.
– Сейчас, сейчас, дорогой Андрей Федорович. Знаю, видела, хотите попросить слова, поделиться…
– Просим, просим! – зааплодировали дамы. И он встал, как приговоренный. Если бы не благое дело – надежда все-таки выхлопотать музей их армии в память павших и живых – да если бы сын с невесткой не побуждали, не стал бы он срамиться на старости лет. «Вместе Берлин брали…»
– Я, конечно, не смогу так описать в живописном состоянии, я только хочу сказать, мы южней шли. Будапешт… Медаль еще учреждена… Вена… Тоже тяжелые были бои.
– Но и – Берлин! – настаивала Елена Васильевна. – Я иногда слушаю, как они вспоминают вдвоем… Вот подлинные ненаписанные романы!
И ярким ногтем погрозила писателю, тот принял упрек, покаянно прижал ладонь к сердцу.
– Да, литература в долгу перед народом, надо это признать…
И полковник, окончательно произведенный из Сергея Федотовича в Андрея Федоровича, понял: отступать некуда. И рассказал про давний бой под Староглинской, в котором был он тяжело ранен, а после посмертно награжден, а знали бы, что жив, ему того ордена не видать, так он считал. Немцев они тогда не пропустили, это правда, но и своих полегло столько, что не подвиги он за собой числил, а за погибших корил себя. Вот этот бой и отдал он сейчас Усватову, от себя подарил, видно, так уж требовалось: позвали коня на свадьбу – значит, воду возить.
– Браво, браво! – зашумели, зааплодировали все.
– Нет, каков скромник наш Евгений Степанович!
– А мы ничего не знали.
– И не узнали бы!
И Басалаев сказал:
– Кто воевал, тот про себя не очень-то и рассказывает. А то приходят некоторые, требуют, стучат себя в грудь: мы, мол, мешками кровь проливали… А где мы воевали, мы молчим. Бывало, автомат в руки и – впереди всех.
Евгений Степанович, довольный, скромно отводил от себя славу:
– Не будем переоценивать мою роль. Сергей Федотович представил тот бой, будто чуть ли не один я…
– Не скромничай, не скромничай!
– Вот как выясняется, через столько лет.
– Это хорошо, живой свидетель нашелся.
– Я все же должен сказать со всей определенностью, что Сергей Федотович несколько умалил свою роль, а он тоже в том бою… Но не будем вдаваться в подробности.
– Нет, почему же! – требовала Елена Васильевна. – Подробности очень интересны. Подробности, подробности!
И она первая зааплодировала своими от природы крупными, для работы созданными, но уже холеными, надушенными и мягкими руками. И дамы поддержали, и, возможно, пришлось бы полковнику еще и подробности вымучивать из себя, но Евгений Степанович дальнейшее славословие пресек и отмел.
– Я просто поражаюсь другой раз, сама себе не верю, что он воевал с оружием в руках, так он в жизни бывает раним, – говорила Елена Васильевна растроганным голосом. – У нас тут береза стояла засохшая, надо было ее спилить. Я позвала рабочих. Когда она падала на землю, он не смог этого видеть, ушел в другой конец двора. «Ты слышала, как она застонала? Она стонала, как живая…» Вы не поверите, у него слезы были на глазах, я, женщина, и то так не переживала.
Но тут Басалаев, упираясь ногой под столом, а рукой – в лежанку, на которой сидел у стены, завозился, поднял себя тяжко.
– Я долгую речь произносить не буду, минуток эдак в сорок пять уложусь, если мне будет дано слово.
Слово ему дали, и Евгений Степанович, пока все шумели одобрительно, успел перешептаться с женой:
– Шофера Басалаева надо покормить.
– Их там вон сколько! Стоят вместе, курят.
– Отозвать в сторонку. Евангелише скажи. И проверь! Ненакормленный шофер – неуважение к хозяину. Басалаев может поинтересоваться.
–…Были мы как-то с Антониной моей Никаноровной – вон она сидит, не даст соврать, – были мы в театре. В ложе… А смотрели мы пьесу. И кто ж, вы бы думали, автор? Усватов. Евгений вот наш Степанович. Занимать такую должность и еще в свободное от работы время… Это, я вам доложу, дело непростое, пусть товарищ писатель, присутствующий здесь, на меня не обидится.
Писатель не обиделся, с полным пониманием кивал.
– Так что же мы свои таланты не ценим? А чтоб в гении у нас пробиться, так это надо прежде умереть. Помер раньше времени – гений! А возьмем хоть того же Шекспира. Ну, задал он вопрос: «Быть или не быть?» Так мы на этот вопрос отвечаем однозначно: быть!
– Бы-ыть! – закричали гости и зааплодировали.
И со стопкой в руке Басалаев расцеловался с Евгением Степановичем.
– Живи! Живи и созидай!
И Евгений Степанович расчувствовался и прослезился, хоть знал, что врет Басалаев, врет, а все равно как-то верилось.
Вот тут согбенно вбежал на террасу шурин, придерживая на себе целлофановую пленку, внес очередные шашлыки, прикрывая своим телом. И такой жар шел от его тела, что пленка вся побелела, запотела, а сверху с нее текло. Теперь только и заметили за шумом и гамом голосов, что дождь хлынул. А шашлыки уже никто не способен был есть, уже глаза им не радовались.
Дождь после тягостного зноя, давившего весь день, хлынул крупный, с градом. Белые градины били по стеклам, скакали по жестяным отливам подоконника. При закрытых окнах стало душно. Сверкали молнии, почти невидимые в дожде, но один раз так треснуло над самой террасой, так осветилось, что женщины закричали.
Охлажденные дождем, стекла террасы запотели от тепла, которым изнутри дышал дом и распаренные тела переевших людей. Где-то над кровлей, в дожде, а может, и над дождем пролетали самолеты, гудение возникало сквозь застольный шум и отдалялось, возникало и отдалялось. А потом, приблизясь, зарычало во дворе, и, протерев запотелое стеклышко, Евгений Степанович увидел: разгружается въехавший в ворота самосвал, выше, выше встает кузов, с него сползает рассыпчатая гора черного асфальта, вся в пару от дождя, и две фигурки в оранжевых жилетах припрыгивают, приплясывают вокруг нее с лопатами в руках.
Когда дождь стих, распахнули окна, и такой благодатью, таким легким дыханием повеяло из сада, от мокрой зелени, что все на террасе ожили, вытирали платками лица и шеи. Евгений Степанович выбежал глянуть хозяйским глазом, что делается. Мокрые от дождя студенты разносили лопатами и прикатывали жирный асфальт катком, впрягшись в него. И он опять увидел ту студентку, ту молодую женщину, которую отметил еще раньше. Она сидела тогда на траве, спустив в кювет ноги в подсученных до колен тренировочных штанах, стройные, золотистые от загара ноги, пила из пакета молоко, запрокидывая голову. Губы ее были в молоке, и она с таким вкусом жизни отхлебывала, какого он давно уже в себе не знал. И он позавидовал этой молодой жизни, потянуло к ней.
Она почувствовала взгляд, мельком, как на чуждое, доисторическое нечто, глянула тогда на него и отпила из треугольного пакета, передала его парню. Напрасно, напрасно она так глянула, он еще многим способен обрадовать, многое показать в жизни, чего она, бедняжка, и не повидает, жизнь прожив.
И сейчас, выйдя, он прежде всего ее увидал. Опершись подмышкой на лопату-грабарку с длинной рукояткой, перекрестив загорелые ноги, стояла она, чуть изогнувшись, и так хорош, так красив был изгиб молодого ее тела, так хороша была она вся на его глаза, разгоряченные несколькими стопками водки и вином! Королева в лохмотьях! Как можно, чтобы такая – в автодорожном? Почему в каком-то автодорожном? Во ВГИК ее. В ГИТИС. В МГИМО! Ах, не знает она своей судьбы.
– Где вы прятались от дождя? Как же так, надо было сказать… – мелко засуетился он. И – студентам, парням: – Туда, туда лопаток пяток асфальта подкиньте, там впадина. И – прикатать.
Он суетился так близко, что запах пота ее уловил от мокрой одежды, от ее молодого тела. Ему ударило в голову. Подогретый вином, он видел себя сейчас перед ней не шестидесятилетним стариком с крашеными волосами и не очень удачно, несмотря на большие возможности, вставленной нижней челюстью, от которой происходили определенные трудности при жевании, а вполне еще молодцом.
И тут заметил он метавшуюся по улице незнакомую женщину, мгновенно почувствовал опасность, исходившую от нее. Она металась от машины к машине, лицо ее было то ли в дожде, то ли в слезах, возможно, дачница чья-то, здесь и дачи сдавали овдовевшие семьи, хотя он, Евгений Степанович, всегда был против этого, в поселке не должно быть посторонних лиц. Она перебегала от шофера к шоферу, упрашивала, что-то у нее случилось, и проходивший мимо грибник в старой соломенной шляпе, дочерна пропотелой, в высоких резиновых сапогах, постоял с корзиной за спиной, с ведром в руке, сказал враждебно и громко:
– Да вон их сколько машин без дела стоит!
И ткнул палкой во двор, но Евгений Степанович уже поспешно ретировался.
Глава IV
Он вернулся на террасу. Елена разрезала арбуз. Огромный, сахарный, красный – это было то самое, что требовалось сейчас переевшим людям: освежало. Его специально прислали к этому дню из южных краев, в Москве в эту пору арбузы еще не продавались. Скромные, безмолвные, загорелые люди внесли один за другим несколько неподъемных арбузов и дынь – исключительно из благодарности – и так же скромно и молча удалились.
Пока на кухне в пару Евангелиша срочно перемывала горы посуды, Елена округлыми движениями большого ножа отрезала огромные ломти и раздавала на чистых тарелках, которые непрерывно поставляли из кухни. Она срезала ломти вкось, так что середина заострялась конусом, и вот этот конус, самую сахарную середку, как бы мешавшую ей отрезать всем равномерно, она сняла ножом и очень естественно переложила в тарелку себе. И продолжала вновь отрезать и передавать.
Под впечатлением только что виденной им молодой женщины он словно впервые увидал, как Елена вся расплылась, какое тяжелое, крупное у нее лицо. И зачем она вообще так мажется? Крупинки засохшей туши на ресницах, эта пышная прическа неестественно черных волос, от которой голова вдвое огромней…
И тут ресницы приподнялись, Елена глянула на него проницательно из-под тяжелых век и с медленной улыбкой подала ему через стол ломоть арбуза на тарелке. И под ее взглядом блудливые его мысли завиляли.
Гости наслаждались арбузом, отдыхая от еды и разговоров, а приглашенный исполнитель авторских песен, притоптывая носком ботинка, прихлопывая по гитаре, отчаянно звенел струнами и пел – орал «под Высоцкого». И так же надувались жилы на шее, и голос хриплый, сорванный. А на дальнем конце среди шумного застолья, как голубки, – их дочь Ирина и молодой дипломат, которого она привезла с собой. Евгений Степанович нет-нет да и поглядывал туда, не выпускал из виду. Там дело слаживалось, шел тот разговор, когда взгляды значат больше слов. Молодой человек явно не гений, но высокого роста, солидной внешности, костюм носит хорошо и весь – от носков итальянских ботинок до узла галстука на горле – в импортном исполнении. А в нагрудном кармане пиджака мундштуком внутрь, обкуренной дырой наружу – трубка. Талейран, кажется, завещал молодым дипломатам, как сделать карьеру: одеваться в серое, держаться в тени и не проявлять инициативы. Этот не проявит, Ирина будет проявлять, дочь у них – умница. Они правильно с матерью рассчитали привезти его сюда, показать общество.
Еще когда план сегодняшнего мероприятия только созревал, вырисовывался в черновом варианте, в первой, так сказать, прикидке, была у Евгения Степановича смелая мысль пригласить пару-тройку цыган с гитарами, пусть попляшут, поорут, украсят торжество. Знал он, как приглашают на дачи юмористов поразвлекать гостей, не тех, что и по телевизору, и на эстраде, а тех, кого не выпускают на публику, держат в тени. И они читают незалитованное: особый смак посмеяться вроде бы над собой, в узком кругу ограниченных лиц, как говорят остряки, позволить то, что для широкой публики не позволено. Но остерегся, решил обойтись шахматистом, космонавтом, писателем и исполнителем авторских песен.
– Натопи-и… – хрипел тот из души самой.
– Не топи! – подголоском вступил писатель, вызвав поначалу недоуменные взгляды. Но он так страдал лицом, что поняли: этот знает, как надо, имеет касательство. Он действительно присутствовал однажды, когда Высоцкий пел свою знаменитую «Баньку», и запомнил, как кто-то из актеров подголосничал: «Натопи!» – «Не топи». – «Натопи-и!» – «Не топи…» И так до трех раз.
– Натопи-и-и ты мне баньку по-бе-елому, – хрипло прорвался исполнитель.
После разговоров о служебных перемещениях, после всего выпитого и съеденного, когда на столе остывали бараньи шашлыки, а на них уже и глаза не глядели, вот это сейчас и требовалось: растревожить себя чужим страданием, размягчить душу. И исполнитель надрывался, будто все это – его собственное, пережитое: «Против сердца кололи мы Ста-а-лина-а-а, чтоб он слышал, как рвутся сердца-а…»
Опять пошли тосты: за него, за Елену. «За Еленушку нашу Васильевну!» – кричал Басалаев. Со стола уносили недоеденное мясо, ставили торты, и уже другой огромный арбуз разрезала Елена все теми же округлыми движениями.
И вдруг ясно увиделось: на том самом месте, где она сидит, как раз там, где ее ноги, лежала тогда на досках террасы ее мать, замерзшая, в нищенском демисезонном пальто, перешитом из железнодорожной шинели, в валенках на босу ногу… Страшно вспомнить, как они примчались тогда в этот жуткий мороз и увидели ее. А потом, на вот этом столе…
– Сейчас будет чай, – улыбнулась гостям Елена, видя, как засидевшиеся мужчины потянулись размяться, покурить. И взглядом направила его взгляд во двор. Там по дорожке уходила их дочь Ирина с молодым дипломатом. Он пыхал трубкой, рука его лежала на ее талии, ближе к бедру, и под его рукой Ирина на ходу покачивала бедрами. Да, за нее можно не беспокоиться, есть в ней главное, что в нашей жизни необходимо.
Тут Евангелиша внесла перед собой и грохнула на стол сияющий самовар, старинный, медный, с медалями, который привезли Евгению Степановичу несколько лет назад, кажется, из Тамбова, там он ему приглянулся, и на террасе приятно запахло дымком углей, сосновыми шишками.
Гости разъезжались под дождем. И под дождем машины обгоняли на шоссе студентов в оранжевых жилетах; подсучив штаны, они босиком шлепали по теплым лужам, кеды несли в руках, а кто и на палке за плечом.
Про полковника как-то забыли под конец. С восклицаниями и прощальными поцелуями рассаживались все по машинам, он постоял в общей суете, но так и не решился никого обеспокоить собой. Несколько раз в течение вечера удавалось ему все же то с одним, то с другим влиятельным лицом заговорить о музее для их армии, но, выразив официальное сочувствие, его тут же отпасовывали: к сожалению, не мой вопрос. А о своем деле переговорить так и не решился, не смог и теперь шел на станцию пешком, прикрывая лысину размокшей газеткой.
Закрыв за гостями ворота, оставшись вдвоем с женой на опустевшем дворе, Евгений Степанович, как все хозяева, когда разъедутся гости, почувствовал огромное облегчение.
– Ну, слава Богу! Кажется, остались довольны.
– Довольны, довольны. Еще бы не довольны. У Еремеевых так принимали? Было столько всего на столе? У меня даже мышцы лица устали улыбаться.
– Ты молодец. Значит, думаешь, довольны остались?
Ему хотелось похвал. И она похвалила его, и он похвалил ее.
– Знал бы кто-нибудь, как я устала!
– А Басалаев? Как тебе показалось?
– Доволен твой Басалаев, доволен. – Елена Васильевна загадочно улыбнулась. Когда она в очередной раз от самовара то ли с третьей, то ли с четвертой чашкой чая подошла к Басалаеву, он, отягощенный, красный, незаметно хватал ее за подколенку: полное тело тянет к полному телу, она понимала это. А вслух громко говорил при этом: «Международные проблемы – международными проблемами, а у нас еще и свои есть, внутренние, нерешенные дела». И рука его уже вознамеривалась подыматься выше, как, наверное, он с официантками привык или по воспоминаниям молодости что-то смутно померещилось.
– Ну, это хорошо, если доволен, – сказал Евгений Степанович скорей в ответ своим мыслям и выглянул за калитку. В матовом свете фонарей сквозь дымку дождя два зонта парили невесомо над мокрым асфальтом. Он постоял во дворе, переждал, пока женские голоса приблизились, стали громче и начали удаляться. Тогда опять вышел. В кювете, вместе со сброшенными туда остатками закаменевшего асфальта, валялось несколько лопат и грабли.
– Никак не научим мы наш народ работать добросовестно! Обязательно нагадят, бросят…
Он глянул в один конец, в другой – улица была пуста. Быстро перебросил через забор к себе на участок лопаты и грабли, общим счетом – шесть штук. При этом говорил:
– Безообразие, как у нас относятся к общественной собственности. За столько лет не сумели воспитать…
Лопаты были так себе, но грабли вполне хороши, и грабарка, та самая, на которую опиралась студентка, хорошая, легкая, с хорошей рукояткой.
Еще раз переждав дам под зонтами, которые теперь возвращались, они вдвоем с Еленой, торопясь и толкаясь боками в калитке, закатили во двор, в гущу кустов, где он будет не виден, брошенный каток, им студенты прикатывали асфальт.
На террасе убирали со столов. Залитые дождем жирные угли мангала чадили. Пока Елена Васильевна отдавала распоряжения внизу («Боже мой, как я устала!»), Евгений Степанович тщательно вымыл руки с мылом, поднялся к себе наверх, распахнул створки окна. После грозы, ливня, града сеялся мелкий дождичек, похоже, на всю ночь зарядил. Земля, прокаленная жаром, впитывала и впитывала, и воздух был свежий, дышалось легко.
Внизу из-за террасы вышел шурин, расстегнутый до пряжки. Стоя возле бочки с дождевой водой, курил, подставив дождю мощный живот, заросший диким волосом. Что терять такому? Выпил, поел, охлаждает брюхо на дожде. Вообще зачем ему жизнь, задается он этим вопросом? И большинство людей так: поел, попил, ну, еще телевизор посмотрел.
– Собаченя, собаченя… У-у, собакин! – слышалось внизу ласковое гудение. – Что ж меня мокрыми лапами, подлец? Холодными… По животу! И еще рычит. Не нравится, не нравится ему… У-у, цуцыня! Ох, и достанется нам завтра! Тебе-то что, а мне проредят от уха до уха. Твою жену, скажут, не зовут, а ты, скажут, идешь! Тебя, скажут, на порог туда не пускают, а шашлыки жарить потребовалось – позвали. Тебе, мол, кто ни поднеси. Но вот в этом она не права. Это со зла. Я такой человек: зовут, не могу обидеть…
– Он что, остался ночевать? – спросил Евгений Степанович недовольно, когда Елена поднялась наверх и подошла, еще не отдышавшаяся от двух маршей деревянной лестницы, проскрипевшей под ней.
– Я не пустила. Еще гости не разъехались, он уже был хорош. Очень нужно от Лины выслушивать упрек. Проспится, утром поедет. Вот мы родные сестры, а какие мы разные.
Она стояла рядом.
– Ну, не умница у тебя жена? Такая орава съехалась. Поцелуй!
Он поцеловал ее и обнял, и некоторое время они стояли так у окна, и он даже почувствовал что-то вроде влечения.
– Ну, ладно, ладно, – засмеялась она, поняв. – Я оценила. Шестьдесят – не двадцать пять, я оценила вполне.
Хвоя за окном вздрагивала от капель, и на ее фоне дождь казался сильней. А когда раскачивало фонарь, взблескивала вода в бочке, в которую текло из трубы. И блестели вдали мокрые железные ворота и лужа воды под ними на свежем жирном асфальте.
– Ты не поверишь, – сказала Елена, – но я хочу есть. Когда гости, суета, я всегда остаюсь голодной.
– Пожалуй, я тоже выпил бы чаю…
Она накрыла им на террасе, на углу стола. Электричества они не зажигали и при свете уличного фонаря, после всего шума и гама очень уютно и тихо попили чаю вдвоем и закусили. А все равно тревога в душе не проходила. Так бывало у него несколько раз в жизни после сильного перепоя, когда на следующий день хоть в петлю лезь от предчувствия беды. Но теперь-то в чем дело, почему? Такой день, такие люди съехались, вся улица заставлена была машинами. Что отравляет радость? И сам себе неожиданно ответил:
– Прочности нет, вот чего не стало в жизни. Все, все, казалось бы, есть, все! И вот другой раз в президиуме сидишь, а радости никакой. Даже это отнято!
Он чувствовал, как раздражение закипает в нем, изжогой идет по душе.
Спустя время, когда дождь поутих, они вышли прогуляться перед сном под зонтами. И он говорил ей негромко на темной улице, когда из света фонаря, под которым блестели дождевые брызги, они опять входили в тень:
– Я начинаю понимать тех, кто возит за стеклом его портрет.
– Даже не говори мне, пожалуйста! И еще к ночи. Неизвестно, что с нами было бы, поживи он еще.
– С нами? Ничего! Человек, если его не коснулось, мог быть уверен. Потому что порядок был!
– А что он с моей родней сделал? Я до сих пор боюсь, когда-нибудь в твоих анкетах обнаружится.
– Обнаружиться не может, там этого нет.
– Вот этого я и боюсь.
И они оба оглянулись и некоторое время шли молча.
– Устойчивости нет, – пожаловался Евгений Степанович. – Твердости. Придет какая-нибудь сволочь: «Не, ребята, вы поели, теперь надо нам поесть». Нынешний – неплохой человек, добрый. Так разве наш народ понимает? Народ наш к палке привык. Я тоже когда-то Сталина осуждал, эйфория Двадцатого съезда. Но при нем был порядок. А сейчас что? Все стало какое-то недолговечное. Вчера по телевизору награждают нынешнего, а он рукой за столик держится, без опоры не стоит. Такое государство, такая страна!
– И зачем он говорит то, что не может выговорить? Опять – Джавахарлал… неужели некому подсказать?
– Это? Некому. Никто не решится.
– Правда, что у него вшит заграничный стимулятор?
– Если б у него одного. Почти у всех у них. – Евгений Степанович обреченно вздохнул. – И не заграничный, а наш. Только изготовлен там. Наши так не умеют.
– Одно могу сказать: дай Бог ему здоровья! – горячо, исступленно пожелала Елена. А он опять вздохнул.
– Определенности хочется. Прочности! – И вдруг высказал заветное, само вырвалось из души: – В идеале – народ должен любить не рассуждая.
Но даже во сне томило беспокойство. И муторно было, и просыпался, будто воздуха не хватало сердцу.








