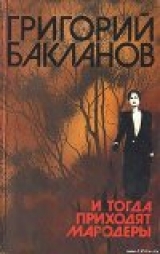
Текст книги "Свой человек"
Автор книги: Григорий Бакланов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Глава XVIII
Был особый смысл и особое значение в том, что первоначально премьеру назначили на 21 января: ленинская тема, подарок к дате. На это и выманивали Леонида Ильича, и он, заядлый болельщик, пожертвовал хоккейным матчем, отменил матч «Спартак» – ЦСКА, которого ждали телезрители, не говоря уже о тех, кто купил билеты на стадион. Высочайшее посещение в такой день могло быть приравнено разве что к возложению венков к Мавзолею, и уже самим этим фактом спектакль заранее был обречен на успех, а там и Государственная премия, а может, и повыше… Ведь ленинская тема.
Евгений Степанович только примерно догадывался, какие силы задействованы, как и через кого побуждают Леонида Ильича, физически немощного, глуховатого, освятить своим присутствием спектакль, в котором и ему отведена роль. Вот это бы объяснить, вот это довести до сведения! Но Евгений Степанович, все взвесив и здраво рассудив, помня принцип – не смог задушить, обними, подавал доброжелательные сигналы драматургу и режиссеру: они вполне могут рассчитывать на его содействие, они не забыли, конечно, он первым предрек успех.
3 марта стояли, перегородив движение по Тверскому бульвару, офицеры милиции в чине капитана, надо полагать, и комитетчики были среди них в милицейской форме, махали полосатыми жезлами, отмахивая все движения в улицу Герцена, в улицу Воровского – к Садовому кольцу. За ними проглядывали и майоры, и даже полковники похаживали, наблюдая порядок.
Прошла машина какого-то посла, незнакомый трехцветный флажок трепыхался на ее крыле, следом беспрепятственно пропустили машину Евгения Степановича. И, пока он поднимался по припорошенным снегом ступеням, стягивая с руки кожаную перчатку, каждым шагом самоутверждаясь, внизу подкатывали и отъезжали машины, распахивались и захлопывались дверцы – большой сбор приглашенных. И опять, как тогда, было много военных с орденскими колодками, в высоких званиях, и дамы с нитками жемчуга на шеях, и штатские, уверенные в себе люди. Он узнавал, его узнавали, он был в своей среде, в привычной обстановке равных и высших, где всегда есть возможность провентилировать вопрос, перемолвиться о деле и решить в двух словах то, что путем служебной переписки месяцами не решается. В таких разговорах и благоприятное впечатление можно произвести, и перспективы возникают, когда собираются сильные мира сего. А внизу, на морозе, наряды милиции все так же перегораживали пространство от Никитских ворот до площади Пушкина.
Среди прогуливающейся в фойе публики увидел Евгений Степанович, как выстроилось полукругом человек шесть, и фотокорреспондент щелкал, щелкал, ослепляя вспышками улыбающиеся благополучные лица. Повлекло туда и Евгения Степановича, он почувствовал естественное притяжение, но дорогу загородила широким бюстом Маслакова, огромная дама из республиканского министерства. Она радостно несла какую-то чушь и поворачивалась, поворачивалась перед ним, не пропуская его. Только когда группа распалась и фотограф удалился, тогда только Евгений Степанович заметил на ее левой груди крошечный значочек, маленькую такую двухцветную книжечку. Вот что она демонстрировала: она стала депутатом райсовета! Боже мой, иметь такие природные данные, такой роскошный бюст, а гордиться такусеньким значочком…
В зале уже рассаживались в креслах, сдержанный гул голосов, мелькали программки, во всем предощущение значительности события. И когда осветилась главная ложа и стали появляться в ней – сначала он, следом все остальные, – зал встал и, стоя, аплодировал, как в былые времена. Пять Золотых Звезд Героя – слева, четыре золотые лауреатские медали – справа, а больше никаких знаков отличия на нем не было. За его плечами виднелись из мрака косые монгольские скулы Черненко, постное лицо Гришина, будто этот человек одним диетическим творогом питается, Соломенцев вовсе без глаз, и еще, и еще, все они выпускали вперед, к народу его, сопровождая в спину поощрительными улыбками и аплодисментами: играли царя.
Место Евгения Степановича на этот раз было близко, он мог, как никогда, разглядеть Брежнева, лицо его, похожее уже на огромную маску: знаменитые брови, слезящийся невидящий взгляд, обвислые щеки и рот, жующий вставные челюсти. Но сквозь золотистый розовый туман видел он то, что жаждал видеть, он видел былое величие и в умилении, в общем восторге радостно бил в ладоши вместе со всем залом. И даже слезинку навернувшуюся сморгнул. А когда наконец все уселись (сначала в ложе, потом в зале), когда и спектакль начался, из зала еще долго нацеливали бинокли, передавали из рук в руки, перешептывались, пересказывали, кто где сидит, переспрашивали. И уже Ленин появился на сцене, знакомо жестикулировал, сияла его лысина, а в зале все еще непочтительно слышался шепоток. И тут из ложи раздалось глухо, как из бочки:
– Это Ленин. Будем приветствовать…
Евгения Степановича холодом обдало, сидел, боясь голову поворотить. Но боковым зрением видел, как над барьером ложи белые руки беззвучно и медленно похлопали устало несколько раз, и за ними, в глубине еще чьи-то ладони смыкались и размыкались, смыкались и размыкались. И мясистая его соседка в ярко-синем платье с блестками послушно захлопала, блестя множеством колец, но муж дернул ее за руку.
Тишина в зале настала полная. И в этой чуткой тишине вновь раздалось утробно, глухо, будто он булыжники в своем рту перекатывал:
– Это про трудности…
Послышался несмелый смешок. Евгений Степанович оглянулся, безумная мысль пришла в голову: кто-то пародирует его голос. Не может быть, чтоб это происходило на самом деле, не может этого быть. Но лица соседей сделались безжизненно-официальными, они ничего не видели, не слышали, не присутствовали. И только сидевший впереди генерал с красным, обветренным, солдатским лицом оглядывался по сторонам простодушно. А зал замер, зал жадно ждал потехи. И уже смотрели не тот спектакль, что на сцене, а тот, что в ложе разворачивался. Оттуда раздавалось нечленораздельное:
– Хорошенькая… А это Хаммер. Живой. Поприветствуем…
И – смех, смех в зале, откровенный смех.
А он, не слыша своего голоса от глухоты, бухал громко, на потеху зала:
– Коль, скоро кончится?.. Коля, долго еще?..
Объятый ужасом, чувствуя, как у него стянуло всю кожу головы, Евгений Степанович осмелился глянуть. И то, что он увидел, было страшно. Он видел сплошные маски вместо лиц, там, в ложе, сидели живые пародии на самих себя: перекошенный набок рот Громыки, или ему показалось, что там Громыко, старческие, выпученные глаза Тихонова на сплюснутом лице, и этот огромный рот, извергающий нечленораздельное… Боже мой!
Он не помнил, как досидел до конца. То колени сжимал себе незаметно, то лоб до боли растирал пальцами, каждую минуту ждал: опять, опять раздастся оттуда, под смех зала. И как только стало можно выйти из рядов, бочком, бочком – в гардероб, а там, стараясь никого не видеть и чтоб его не видели, шапку – в руку, дубленку – на плечи, и на улицу. Шел потрясенный. Машину он отпустил, впервые за долгое время возвращался пешком. Направился было вверх по Тверскому бульвару, туда, к площади Пушкина, к метро, но там был свет, сияли фонари, встретишь еще кого-нибудь, пристанет с разговорами, он пошел вниз, к Никитским. От многолетней привычки держаться на людях так, как требовало его положение, выглядел он и сейчас, если со стороны посмотреть, солидно прогуливающимся, пушистый снег искрился под светом фонарей на его пушистой ондатровой шапке, снег падал на плечи, на спину финской дубленки. Его обгоняли, молодая женщина, разбежавшись, проехалась на скользинке, упала, смеясь, раскатившийся следом за ней по льду парень подхватил ее, поцеловал звучно. И побежали.
Он мельком вглядывался в лица людей, идущих навстречу. Идут, разговаривают, морозный парок изо рта. Все как всегда. Несчастные, ничего не знают. Вот так, наверное, и перед концом света, если миру суждено погибнуть, будут смеяться, разговаривать…
Наверху темное беззвездное небо, не небо, а космос бездонный, черный. И белые ветки лип, толстые от снега, накрыли бульвар, смыкаясь над ним, плыли над головой. Старые липы стояли все в снегу, и от них вдруг стариной, старой Москвой повеяло, такой тоской по минувшему, мог бы, нырнул туда с головой, в прошлую жизнь, в прошлый век, подальше, подальше. Как тихо жили, как хорошо. И была основательность, и время текло медленно.
Впервые он позавидовал маленьким, незаметным людям, которые шли сейчас мимо него, навстречу ему. Что им терять? Придут домой, поедят, попьют чаю, спать лягут. А случись что, узнают из газет.
Трое, громко разговаривая, обогнали его. Двое мужчин и девушка посредине. И когда Евгений Степанович глянул вслед им, один обернулся, веселое, увлеченное разговором лицо в очках, что-то знакомое мелькнуло, но не связалось в памяти. Пройдя несколько шагов, тот обернулся вновь, пошел навстречу. Черное длиннополое пальто, каких давно не носят, серый барашковый воротник, кроличья шапка, правый пустой рукав засунут в карман… Евгений Степанович узнал. А тот, подходя ближе, вглядывался неуверенно сквозь сильные очки.
– Усватов? Женя? Боже мой, Боже мой!..
– Что «Боже мой»?
– Неужели мы такие старые стали? Но, к счастью, ничего не исчезает и не творится, а только одна жизнь перетекает в другую.
Он поманил тех двоих, они ждали его поодаль.
– Маша, моя дочь, – и обласкал ее взглядом. – А это… Это Миша. Маша и Миша.
Евгений Степанович два раза кивнул, руки держал за спиной. Все было понятно: дочь и жених дочери. Влюбленных сразу можно отличить.
– А тебя… Тебя теперь я даже не знаю, как представить. Когда-то мы вместе учились, а теперь, – он поднял свою единственную руку выше серой кроличьей шапки, потряс ею. – Теперь он… Постой, ты уже министр? Или что-то вроде?
Это «что-то вроде», и фамильярность, и кривлянье покоробили Евгения Степановича. Но тут ветром дохнуло, и все разъяснилось: выпил, навеселе.
Старый, с очками на носу, стоял перед ним Леня, Леонид Оксман. Три года просидели они в аудитории рядом. Леонид ходил тогда в гимнастерке, пустой рукав заткнут за армейский ремень, держался браво. И на груди, на хлопчатобумажной гимнастерке – две желтые и красная нашивка: два тяжелых и легкое ранение. И маленькая единственная колодка, медаль «За победу над Германией». Но тогда лицо его не было таким типичным, или не замечалось тогда? И вот – старик, дочь рядом с ним кажется внучкой.
– Здравствуй, Леонид, – сказал он ровным голосом и, не спеша сняв перчатку, подал руку дочери, по начальственному обыкновению первым подал руку женщине. – Усватов.
Она действительно была хороша молодостью своей, влюбленностью. Потом он подал руку Оксману, и тот перевернутой левой пожал ее. Жениху небрежно кивнул.
– А мы сейчас такую комедию смотрели, – ничего не замечая, говорил Леонид громко. – Такая комедия! Обсмеялись.
– В Театре Пушкина? – сухостью тона Евгений Степанович сдерживал порыв чувств, оставлял некоторое пространство между собой и ими. Он сообразил, что на Тверском бульваре есть еще и Театр имени Пушкина, бывший Камерный, по сравнению с МХАТом – рангом ниже, можно сказать, второразрядный, откуда они, наверное, и шли.
– Да нет, во МХАТе! Там такую комедию Леня разыграл! Такие подавал реплики. Все только его и ждали, его слушали.
– Папа! – Дочь тронула его за руку, заметив, как Евгений Степанович недовольно оглянулся, когда про Брежнева было сказано «Леня».
– А ты тоже был там? – спросил Евгений Степанович, еще более отчуждаясь.
– Не «тоже», а за деньги. Купили билеты на один спектакль, а попали на такой, что дорогого стоит.
Евгений Степанович как-то не подумал, что в этот день в театре могли быть просто зрители. То есть, конечно, там было много народу, но он вращался в своем кругу, и все остальное выпало из поля зрения. И потом, он так долго не покупал билеты ни в театры, ни на концерты, что забыл, как это делается, его просто физически не хватало быть всюду, куда его приглашали. На одни просмотры зазывали, добивались его присутствия, но там он в силу большой занятости не мог быть; на других быть полагалось. И, наконец, были такие, как сегодня, куда приглашают по особому списку, и само приглашение означает многое.
– Слушайте, дети, – сказал Леонид решительно. – Идите гуляйте. По-моему, вам без меня вполне хорошо.
Потом Евгений Степанович жалел, что не ушел сразу, не откланялся решительно, позволил распорядиться собой. Но он был в таком подавленном состоянии, что и Оксману обрадовался.
А тот на встревоженный взгляд дочери говорил тем временем:
– Не бойся, мы никуда не зайдем. То есть, положа руку на сердце, я бы как раз с удовольствием зашел куда-нибудь, но, – и указал на Евгения Степановича. – Можешь считать, что я под надежной охраной.
Да, выпить бы сейчас не мешало. Но не в такой компании. И вообще Евгений Степанович не любил быстро пьянеющих людей.
Они пошли рядом, постепенно отставая от молодых. Как странно – он только сейчас это заметил, – встретились, по сути, на том же месте, что и тогда, в середине пятидесятых, когда Леню освободили из заключения. Была слякоть, лепил мокрый снег, у Лени с очков стекало и капало. И вот – дочь, которой тогда не было на свете, целая жизнь ее, вот сколько прошло с тех пор.
Они бродили переулками, где меньше народу, и несколько раз снова и снова выходили то на Малую, то на Большую Бронную. И опять кружили.
– Я не понимаю, – говорил Леонид, – чего ты такой убитый? Что, собственно говоря, стряслось?
«Да, ты не понимаешь, – с сознанием ответственности, возложенной на него, думал Евгений Степанович. – Потому что тебе это не дорого».
– Государство рушится, – и он твердо, строго глянул ему в глаза. – Ты слышал смех в зале?
– Ну и что тут нового? Давно весь народ смеется. Каждый третий изображает его.
И вдруг заговорил голосом, действительно похожим на голос Брежнева:
– Мяса в этой пятилетке будет мало. Мы идем вперед семимильными шагами, рогатый скот за нами не поспевает…
Евгений Степанович почувствовал неприязнь.
– Не паясничай!
– Когда его ставили у власти, все понимали: это временно. Но у нас временное – самое долговечное. В бараках, во времянках, которые строили в начале тридцатых годов, люди живут до сих пор, целые поколения родились в них и состарились. А на горизонте – все те же сияющие вершины коммунизма, которые отдаляются по мере приближения.
«Да, кто там побывал, никогда не забудет и не простит, – думал Евгений Степанович. – Сталин это понимал».
– Не бойся, рухнет не скоро. Миллионы заинтересованы, чтобы гнило как можно дольше. От верху до низу – миллионы временщиков, и каждый хочет при жизни получить свой кусок. Я сегодня в театре посмотрел на них. Это прочно. И опирается на самые примитивные инстинкты, а в природе все примитивное – самое жизнеспособное.
– К твоему сведению, я ничего не боюсь, – сказал Евгений Степанович, с усиливающейся неприязнью, это была уже не просто его личная неприязнь. – А ты бы, конечно, хотел, чтобы все рухнуло?
– Я-то как раз не хочу. К сожалению, из нашей истории следует со всей очевидностью: первыми жертвами всегда становятся ни в чем не виновные. За все всегда расплачиваются невиновные. Но если даже рухнет, тебя не задавит. Товарищ Усватов, сосуд божий, вам еще суждено расти!
– Так вот, чтоб ты знал, – Евгений Степанович покивал, покивал значительно, – менее всего я хочу расти. Мое единственное желание, чтобы меня отпустили и я наконец смог вплотную заняться творчеством. Ты не смотрел последнюю мою пьесу?
– А ты пишешь пьесы?
– Жаль. О ней много говорили, была большая пресса. Билеты спрашивали от метро.
– За пьесу, как говорят в Одессе, не скажу, не видел, а расти ты будешь. Все живое тянется к солнцу, только солнце у каждого свое.
– Какое же твое солнце?
– Мое? Ты только что видел. Мое солнце – это моя дочь. Разве мог я понять тогда, на фронте, что это ее убивали? А я, дурак, даже после второго ранения все верил: меня не убьют. Всю ее жизнь, каждый ее день я ужасаюсь задним числом. А то, что я выжил в лагерях без руки!.. Нет, я поражаюсь чуду, вот дочь есть. На всех ее сверстников я смотрю как на чудо. И в каждой семье, наверное, так думают. Скажи, пожалуйста, ты это должен знать: что, действительно Черненко так выдвигается? Говорят, он уже держит Бога за бороду. Я сегодня впервые видел их так близко, всех вместе. Слушай, это ужасно!
– У него вторая печать, – сказал Евгений Степанович значительно.
– А что это такое – вторая печать?
– Долго объяснять.
– Во времена запорожских казаков писарь носил медную чернильницу на поясе. Вторая печать… – он недоуменно пожал плечом, тем плечом, которое было легче, которое без руки, оно дернулось вверх. – Недавно мне попалась его фотография в газете. Группа военных. Говорят, он где-то служил, на какой-то заставе. Разумеется, во время войны он был нужен родине в тылу. Представить страшно, что стало бы со страной, если бы товарищ Черненко, дорогой наш Константин Устинович, погиб на фронте!.. Что бы все мы делали сейчас без него? На той фотографии, знаешь, кто самый безликий, самый серый? Он! А там сидят люди заметные. Один, впереди, нога на ногу, шашка на колене, глядит орлом. Сначала они сметали, потом их смели. Сколько надо было уничтожить, до какого уровня опустить жизнь, чтобы такие поднялись на вершину пирамиды! И весь труд, целой страны, – чтобы они могли перемещаться из кресла в кресло.
– Ты можешь не кричать? – сказал Евгений Степанович раздраженно.
Некоторое время они шли молча.
– Слушай, помнишь, мы стояли на набережной, ты, Куликов и я? И ты стал вдруг рассказывать про Геринга… Я как раз вчера почему-то вспомнил. – Леонид улыбнулся и на миг стал похож на себя того, давнего. – Ты рассказывал, как он вернулся с первой мировой войны, как сказал своему товарищу, мол, ты мне помоги подняться вверх, а потом я тебя вытащу. И ты предложил нам: сначала вы мне помогите, а потом я потащу вас за собой вверх… Геринг, фашист… А мы только вернулись с фронта… Я рассмеялся.
– Что за ерунду ты мелешь! Какой Геринг? Ты просто пьян!
– Я даже помню, как солнце садилось за трубами ТЭЦ. Мы стояли спиной к парапету, а ты перед нами, и солнце на тебя светило. Не может быть, чтобы ты забыл. Но вот Куликова я тебе не могу простить.
– Мне? Куликова? Не понял!
– Мы были старше его на целую войну. А он – мальчик, так мы к нему относились. Он был самый способный из нас. Способный… Он был по-настоящему талантлив. Знаешь, в институте я ведь ревновал тебя к нему. Сейчас наконец выходит его книга. Не у нас, там. Я читал ее в рукописи. При жизни он боялся передать туда, за Тамару боялся. Он любил ее всю жизнь. И тоже какая-то была у них трагедия. Не знаю. Они сходились, расходились… Умереть, не увидав своей книги, даже не подержав ее в руках… А какие стихи он писал! После контузии я совершенно не запоминаю стихов. Старуху обрадовали: первый наш спутник летает. А она как раз вилами убирала навоз в коровнике. Посмотрела вверх – дырявая соломенная крыша, коровам скормили солому: «Хорошо будет его отсюда видать»… Пересказывать стихи – это ужасно. Но он это писал, когда все ликовали. Тут целая диссертация по экономике, а у него – в двух строках.
– Итак, мне ты не можешь простить Куликова… Интересно. – Евгений Степанович кисло улыбался. – Очень интересно. А между прочим, показания в свое время на тебя дал он. Я не осуждаю, можно себе представить, каким мерам психологического воздействия он подвергся, но факт остается фактом: показания дал он.
– А ты откуда знаешь? – быстро спросил Леонид.
Заложив руки за спину, Евгений Степанович шел мерным шагом, он выдержал долгую паузу, набирал очки.
– Я откуда знаю? Не буду рассказывать, как он каялся, его нет, не хочу. Мучился он ужасно. Но ты забывчив, ты сам мне рассказал. И между прочим, если требуется напомнить, недалеко отсюда, на Тверском бульваре, почти там же, где мы встретились сегодня. И просил прощения. Извинялся за свои подозрения в отношении меня. Это тоже надо напоминать?
– Да, я рассказал… Так вот, чтоб ты знал: никаких показаний на меня Куликов не давал. Да, да. Хотя и там мне это говорили. И приводили факты, факты, которые знали только мы трое: он, ты и я. Он, ты и я. И больше никто. Вот это его сломало. И раньше времени в могилу свело. Ему там сказали: дашь показания, не дашь, известно все равно будет, что дал их ты. Изощренный садизм. Но были факты, фразы, которые знали только мы с тобой, мы двое. Больше никто. Их ни разу мне не приводили. Ни разу не привели.
Евгений Степанович взорвался:
– Так какого же ты… – он выругался, и верхние золотые клыки его блеснули.
– Именно здесь ты должен был взорваться, – сказал Леонид. – Слушай, все это так давно было, что уже и неинтересно. Вон люди идут, спроси, интересно им? В конце концов, не ты, так другой. Ах, предал… Это возмущаются те, кого миновало. Есть время разбрасывать камни. Есть время собирать камни. И есть время предавать. Конечно, обидно, что друг. Но всегда – друг. Наверное, от тебя этого требовали, и ты не смог… Когда я понял, мне стало больно за тебя. За тебя тогдашнего, за Женю, которого я любил. Но ты всегда, я только не сразу догадался, друзья так же слепы, как влюбленные, ты всегда служил силе. Не идее, а силе, неважно какой. И ты стал частью этой силы, к этому стремился. Сейчас ты часть ее. Ты по душе не антисемит, я знаю. Во всяком случае, не был им. Но служба потребует, и это станет твоим искренним убеждением, ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. А она требует, служба требует от тебя. Сегодня ты – любимый сын времени, свой человек.
Евгений Степанович нехорошо улыбнулся тонкими губами. Когда-то, в студенческие времена, рот у него был пухлый, девочки заглядывались, теперь – жесткая прорезь.
– Влюбленные слепы… Но сейчас ты не слеп. Непонятно: чего же ты кинулся ко мне радостно? Я шел мимо, ты кинулся ко мне.
– Вот этого и я не понимаю. Я действительно обрадовался. С тобой связана молодость. А я, выжив, становлюсь сентиментален.
– Если тебе что-то нужно от меня, проси!
Леонид не обратил внимания.
– Была такая картина перед войной: «Профессор Мамлок». Перед тем, как мы заключили договор с фашистами. Потом сразу запретили ее. Там привозят к Мамлоку на операцию эсэсовца, какой-то важный чин. И он, врач, на операционном столе спасает его. А тот будет убивать и его убьет. В этом что-то, чего я не могу понять. Это делает человечество бессильным. Но если бы этого не было, люди давно бы выродились. И через страшные жертвы – повторяют вновь и вновь. Тут какое-то необъяснимое противоречие…
Евгений Степанович остановился, взглянул на часы. Как раз оба они вышли к площади Пушкина, на яркий свет фонарей.
– Да, я здесь свой! – сказал он твердо и недвусмысленно, с совершенно определенным значением. – Здесь меня понимают. И я здесь понимаю всех. Вот так! И не иначе.
И оглядывался, соображая, в какую сторону к метро, давно он уже на метро не ездил. Но тут дали зеленый свет, машины помчались, властным жестом он поднял руку, махнул, будто команду подавал: «К ноге!» – и одна из машин, черная «Волга», притормозила у края тротуара, признала хозяйский жест. Он сел, не прощаясь, захлопнул дверцу, а тот остался на углу, на свету, в своем длинном, чуть не до щиколоток, из давних времен, черном пальто с серым барашковым воротником и в кроличьей шапке. Остался в прошлой жизни, которой не было. Не было. Как в анкетах, которые столько раз по мере служебного продвижения заполнял Евгений Степанович и с ободряющим сознанием проверенного человека писал твердо: не был, не находился, не участвовал, не подвергался, не состоял…
Дома Елена уже знала, что произошло в театре: приятельницы, которые сами не были, но наслышаны лучше тех, кто присутствовал и видел, донесли по телефону с должными недомолвками, намеками и умолчаниями – на условном языке. Она только поинтересовалась: такой-то, такой-то и такой-то были с женами?
– Я тебе говорил: с женами приглашали от министра и выше. Я не развлекаться ездил, это моя работа, там судьбы решались!
За поздним ужином он выпил стопку лимонной водки и ел неряшливо, зло откусывая и роняя изо рта на скатерть, на тарелку; теперь он мысленно говорил самое главное, что не догадался сказать сразу, теперь добивал в споре. Только после второй стопки и некоторого насыщения помягчело в душе, а то уже виски начинало ломить.
– Так плюнуть в душу! – сказал он и, взяв кусок мяса с тарелки, опустил его в раскрытую, со слюной, дышащую пасть черной собаки, которая давно уже терлась о его стул. – Так в душу наплевать! – И опустил в пасть Дика второй кусок, вытер пальцы. И рассказал Елене о встрече на бульваре.
– И правильно! И так тебе и надо! – взвилась она с первых же слов, будто обрадовалась. – Ты побольше, побольше привечай всех этих. С кем в пионерах состоял, с кем сто лет назад учился. Еще одногоршочников созови, они с радостью набегут, с кем ты в детском саду на горшке сидел. Они тебе нужны? Или всякий раз им что-то от тебя нужно? Это что, тот самый, для кого ты столько сделал в жизни?
– Да, – неопределенно, не уточняя, ответил Евгений Степанович.
Он выпил крепкого сладкого чаю, позолоченная серебряная ложечка из глубины стакана излучала электрический свет. И стакан был тот, из которого он всегда пил: тяжелый, хрустальный, в серебряном подстаканнике. И каждая вещь в доме была частью его жизни, о каждой многое можно было рассказать. Ну и что, лучше бы стало кому-нибудь, если бы он прожил не так, как прожил, если бы он, например, пожертвовал собой?
Кто-то когда-то рассказал ему, давно еще, так что забылись мелкие подробности, как молодой Сталин – Сосо – спасался от погони вместе со своим напарником. И тот подсадил его на стену, откуда Сталин должен был подать ему руку, но вместо этого спрыгнул на другую сторону и скрылся. Спустя время они все же встретились. Напарник то ли был избит, то ли угодил тогда в тюрьму, но вот встретились. «Как же ты мог не подать мне руку? Я тебя подсадил…» – «Я нужен для больших дел». Евгений Степанович не делал прямых сравнений, но в том, что он нужен для больших дел, у него никогда не было сомнений. А большие дела, а революции не делаются в перчатках. Да, да, это так, он любил это повторять.
И, уже лежа в постели (две их кровати румынского орехового гарнитура были поставлены рядом, у каждого – своя тумбочка, свой свет), чувствуя тяжесть в животе оттого, что напихался так сразу, переел, он сказал расслабленным голосом:
– Иногда я думаю, в чем причина? Столько делаешь для людей, а в ответ сплошная неблагодарность. Вот пьеса моя… На кардинальнейшую тему, конечно, режиссер не сумел раскрыть, но в ней прочитывается то, чего никто не осмелился сказать. А хотя бы один из этих корифеев хоть одно доброе слово в прессе…
– Завидуют!
– А ко мне идут с просьбами. Они избранные, они белая кость, а я… Может, действительно я не талантлив?
– Ты? – жарко возмутилась Елена. – Святая простота! Ты достиг того, чего они не достигли. Вот и все объяснение. Я на себе постоянно чувствую эту зависть. Знали бы они, как непросто, как ответственно быть женой такого человека!
И она обрушилась на завистников, которые вечно, повсюду мешают, становятся поперек пути, а сами мизинца его не стоят. Он слушал, и душа его размягчалась. А потом она откинула край своего атласного, нагретого ее телом пухового одеяла.
– Иди ко мне.
Заснул он сразу, забыв даже выключить лампу, и Елена над ним дотягивалась голой, полной рукой, на которой заметно обвисало мясо. Если бы в этот момент не она, а мать смотрела на него, она бы его пожалела. Он только заснул, ему еще ничего не снилось, ничто не потревожило, то жесткое, беспощадное, с опущенными углами рта выражение, которое крепло у него, когда говорил о зависти и завистниках, разгладилось, с отвисшей губы слюна стекла на подушку – старое лицо, крашеные волосы; матери всегда больно видеть свое дитя старым. Он спал так тихо, что Елена испугалась, ей показалось, не дышит. Но тут он пошевелился, почувствовав на себе взгляд, вздохнул, и она потянула за шнурок, выключила свет.
А несколькими днями позже, в субботний вечер, сидя в кресле перед телевизором, наблюдая, как огромный оркестр хорошо одетых музыкантов одновременно вверх-вниз водит смычками по струнам (в понедельник должно было обсуждаться мероприятие, связанное с этим коллективом), кушая сочную грушу, которую доставили с Кавказа, стараясь не обкапаться, для чего держал под ней тарелочку, а свернувшийся на полу Дик грел своим телом его ноги в тапочках, Евгений Степанович внезапно почувствовал некое озарение, видимо, музыка подействовала. Он встал, тапочка соскочила с ноги, в волнении не сразу попал в нее на скользком, хорошо навощенном полу, прошелся. Да это же прекрасный сюжет! Он чувствовал творческое волнение, будто теплом дохнули на лицо ему, будто ласковой рукой по щекам провели. Надо вызвать парнишку, с которым он сейчас работает, и рассказать – это может стать их очередной пьесой. Здесь есть драматургия: его предал друг! Настало время предавать, и его предали. И вот они встречаются через восемь лет, и такой мокрый день, и капает мокрый снег с очков… В кино это даже больше бы впечатляло. Впрочем, лагерная тема…
Тарелочка с недоеденной грушей стояла на столе. Вытерев пальцы салфеткой, Евгений Степанович выключил звук телевизора, музыка мешала сосредоточиться, и оркестр скрипачей на большом экране беззвучно водил смычками по струнам. Что ж, можно все это опрокинуть во времена войны: допустим, он командир чего-то и его друг – командир чего-то, и тот струсил и подставил его и предает… Но для этого нужно знать точные подробности, тут потребуется другой соавтор. Впрочем, война давно всем надоела.
Он остановился. Сосредоточенно глядя в одну точку, быстро жуя, доедал грушу. В конце концов, это может быть просто уголовный сюжет. Что-нибудь там с приписками, что-нибудь такое со взятками… Старый однорукий уголовник, старый махинатор, гешефтмахер, одевшись нарочно победней, поджидает на углу. Очень колоритная фигура. И лицо подходящее. Нос, очки. Тут что-то наклевывается, что-то начинает рождаться. Во всяком случае, толчок мозгам дан, надо будет поручить подобрать факты, дать задание, важно теперь размять.
И он почувствовал, как отпал некий груз, томивший его все это время, и душе стало легко.








