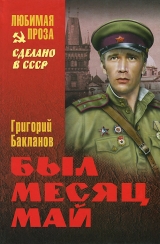
Текст книги "Был месяц май (сборник)"
Автор книги: Григорий Бакланов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА X
После суда жители расходились не спеша, прощались друг с другом уважительно. Некоторые жалели жену Карпухина, многие недовольны были мягким приговором: человека убил, а ему четыре года сунули. Подешевела человеческая жизнь…
Прозрачная вечерняя заря светилась над городом. День кончился. И хорошо было сейчас вернуться домой к тихим занятиям, к семейным делам, к детишкам, обойти хозяйство, каждую вещь привычно встретив глазами на своем месте. А после, пообедав и поужинав одним разом, покурить перед своим домом на лавочке. Вид чужого несчастья всегда располагает к размышлению. И многое примелькавшееся дома, что уже не ценилось, обретало сегодня первоначальную значимость и вес.
Вернулись к себе и родители Мишакова: Пелагея Осиповна и Григорий Никитич. Сами отомкнув, вошли в дом, где и огня для них никто не зажег.
Один за другим здесь родились их дети, на этом полу, теперь уже вытертом, который Григорий Никитич, в ту пору молодой, сам стелил из широких сосновых плах, пробовали они нетвердыми ногами делать свои первые шаги… Огромным показался дом сейчас, нежилой пустотой пахнуло на них из дверей. Но они были живы, и надо было жить.
Вернулась домой и Тамара Васильевна Мишакова. Детей на это время взяли к себе ее отец и мать, в доме никто не ждал. Вещи раскиданы, грязная посуда за много дней на столе, все выхолощенное, как остывшая печь, пахнущая уже не живым дымком, а холодной сажей. До дня суда она еще ждала чего-то, словно не всё кончилось. И вот – всё. Надо начинать жить. А как? К любой вещи руками страшно прикоснуться. И ей, ответственному работнику, умевшему выступить на любом совещании и, если нужно, поставить вопрос, вдруг захотелось завыть по-бабьи, выкричать людям свою боль. Но дисциплина взяла верх, она упала на кровать, лицом в ладони, и никто не слышал, как рвалась и кричала ее душа.
В этот же час на площади, возле церкви, где, возвращаясь с базара, люди ждут на жаре рейсовый автобус, Бобков единственной здоровой рукой подсаживал Дусю на подножку, хлопотал вокруг нее, как отец вокруг дочери. Карпухин оставался здесь на казенном обеспечении, а они уезжали, и ехать им было далеко.
Сразу после суда вернулся домой прокурор Овсянников. Пронеся через комнаты свою боль, он лег на спину на жесткую кушетку в своем кабинете. Жена, теперь не спрашивая, вызвала врача, и, когда вошла к нему, он лежал весь серый, у него даже не было сил говорить. Зато говорила она:
– Так себя отдавать людям! Так себя не жалеть! Какой-то шофер, мерзавец, без тебя его не могли осудить? Ты хоть бы о нас подумал, о детях, обо мне…
Приехавший районный врач в течение трех минут установила острейший приступ аппендицита. Жена и помыслить не могла, чтобы его оперировали здесь, в этой городской больнице, условия которой она представляла себе. Но врач оказалась с железным характером. Ее не смутили ни вес, ни авторитет больного, она сама подошла к телефону и вызвала машину скорой помощи. И вскоре белая с красными крестами машина, оглашая город сиреной, промчалась, распугивая с дороги кур.
Не обкомовские врачи, которым можно было доверять, не пожилой, известный в городе хирург Иван Харитонович, который – одно уж к одному оказался в такой момент в отпуску, а молодой врач, по виду студент, оперировал Овсянникова под местной анестезией. И если за время операции у жены не разорвалось сердце, так, наверное, потому только, что она нужна детям.
Овсянникова положили в отдельную палату с окном в сад. Сделав еще одну операцию – на этот раз двенадцатилетнему мальчику, – хирург пришел навестить его. В каких-то белых полотняных штанах, в белых носках, как у покойника, в белой шапочке и халате с застиранным пятном крови, который надет был прямо на нижнюю рубашку, причем одной завязки у халата не хватало и на спине его закололи иголкой от шприца, с худым лицом, он не производил внушительного впечатления. И вот он делал операцию… Жена оглядела всю эту его одежду почти брезгливо, но одновременно уже с подобострастием и заискивающе.
– Ну, как мы себя чувствуем? – спросил хирург, присев на край кровати и подворачивая полу халата под колено.
– Скажите, доктор, это действительно был аппендицит? – спросил Овсянников, пристально, своим просвечивающим взглядом глядя ему в глаза.
– Конечно, аппендицит, а что же это еще могло быть? – бодреньким, каким-то тонким голосом, при этом фальшиво хихикая, тут же заговорила жена, сидевшая в изголовье, делая доктору страшные глаза и знаки, смысла которых ни он, ни она сама хорошенько не понимали.
– У вас был заслуженный аппендицит, – сказал хирург. – С солидным стажем. В сущности, у вас там сидела бомба замедленного действия, и часовой механизм ее был уже на исходе. Вот мы ее и удалили.
Услышав все эти страшные вещи, жена, вместо того чтобы испугаться, успокоилась. Ей теперь понятней стало, когда она услышала, что у мужа ее был не простой аппендицит, а особенный. Это примирило ее даже с молодостью хирурга: он молод, но, очевидно, очень талантлив.
Прослезившись, она ваткой смочила Овсянникову сохнущие губы: после операции ему еще нельзя было пить. Но он отстранил ее руку нетерпеливо.
Он еще не мог осознать происшедшее. Мысленно он настолько свыкся с тем, что скоро его не будет, что ему не просто было теперь вернуться в жизнь. Возвращение было связано с неким стыдом. Словно он принес себя людям в жертву, но жертва эта не только не была принята, но оказалась никому не нужной.
Если сказанное хирургом – правда, он лишался высшего права, которым обладал, и нравственная почва под его ногами начинала колебаться. Ему надо было разобраться в этом, осознать что-то очень существенное.
Хирург откинул одеяло, осмотрел наклейку на ране и уходя дал распоряжение сестре принести пузырь со льдом. Она вскоре принесла и, устраивая его на животе, сообщила, что внизу ждет следователь Никонов, просит его принять. Овсянников, следивший за ней глазами, нахмурился. С Никоновым было связано как раз то, что предстояло еще обдумать. И он приказал никого к нему не пускать.
Никонов вышел, не зная куда деваться. Он шел к прокурору сказать то, что понял на суде, исправить, если не поздно, свершившееся. И вдруг узнал, что Овсянникова увезли в больницу. Ему показалось неудобным не зайти. И вот зашел…
Овсянникова хоть операция оправдывала, как оправдывает человека перенесенное страдание. А что оправдывало его?
Люди в городе занимались своими вечерними делами в домах и на своих участках. Когда он проходил, судья Сарычев в старых брюках, вправленных в носки, в тапочках, в шелковой сетке, сильно растянувшейся на его смуглом животе, уже перевесившимся через брючный ремень, стоял у себя на огороде, держа в руках шланг. Стучал насос, и вода толчками выбивалась из шланга.
Как же так получилось, что все они, не злые люди, принесли в жертву такого же, как они, человека по фамилии Карпухин? Ведь завтра это же может случиться и с ним, с Никоновым. Не будет его, и вот так же ничего не изменится, и люди вечером выйдут поливать свои огороды… Мысль эта казалась ему непереносимой. Ведь так нельзя жить! И чему в жертву? Они сами, если спросить их, не знают, кому нужна такая жертва? Кому от этого может стать лучше? Но в то же время они не сомневались, что так надо.
И самый виноватый из них, как он думал, был он. Потому что он понимал уже, он знал, чувствовал и тем не менее дал себя уговорить. Сам себя объехал по кривой.
Он шел по городу со своей маленькой бедой, и ему казалось, что ему сейчас хуже всех. Он тоже не знал, как теперь жить.
А вечер садился на поля, закатным умиротворяющим светом пронизан был воздух. И среди полей, вся в извивах, медленно текла речка. Зеленая вода ее в этот час была особенно теплой, и голые ребятишки, визжа от счастья, плескались в ней. И скошенная трава на лугу вновь отрастала.
1965
Свой человек
Глава I
Дом этот, двухэтажный, с полукруглым крыльцом и белыми колоннами, пережил трех хозяев. И каждый, вселившись, начинал что-то перестраивать внутри, что-то пристраивал снаружи, изгоняя дух прежних хозяев и утверждаясь прочно. Оттого, с какой стороны ни поглядеть, дом ни одной своей частью не походил на другую.
Года за три до смерти Сталина въехал сюда академик Елагин. Шепотом передавали, что он-то и есть автор предпоследнего гениального сталинского теоретического труда, который, как писалось в ту пору, открыл новые горизонты. За свои заслуги, оставшиеся безымянными, был Елагин произведен из членов-корреспондентов в полные академики и купил дом в престижном загородном поселке. Еще говорили, что другой дом, на Николиной горе, ему подарен, потому, мол, не всегда живет он здесь, но точно никто не знал, а кооперативные расходы он нес исправно, все, что причиталось, платил в срок.
При Елагине заложено было это полукруглое крыльцо, пробили парадный вход, вместо обычной двери вставили двухстворчатые, а полукруглый, с белыми резными балясинами и белыми перилами, балкон подперли две белые колонны, как два стража стали они при входе. Летними вечерами, когда в хвою сосен опускалось солнце, любил Елагин, нога на ногу, сидеть в домашних тапочках на балконе, поклоном на поклон отвечать жителям поселка, прогуливавшимся по улице внизу. Сладостен был вечерний воздух, который вдыхал он на своем балконе, сладок покой и тишина. Сбылось-таки, сбылось несбыточное, давнее видение далеких, отошедших лет. В ту пору он, молодой отец, и перепуганная до слез жена привезли в коляске четырехмесячного, беспрерывно поносившего сына к профессору. Случилось это за городом, летом, в воскресный день, когда помощи ждать неоткуда, а ребенок погибал на глазах. И как они метались двое, как бегали вокруг глухого забора, стучались, кричали несмело – замшелая калитка лесной дачи вросла навечно. А когда все же из хвойного мрака впустили их, показалось, попали в иной мир: сухо, тепло, открытый солнцу и свету участок, огромная клумба роз – чайные, пунцовые, черные, еще какие-то невиданные – все это пахло до сладости на губах. И белые окна свежевыкрашенной маслом зеленой бревенчатой дачи. А над двумя белыми колоннами, на полукруглом балконе, меж двух могучих голубых елей умиротворенно, как скворец в скворечнике, грелся на вечернем солнце старичок-профессор. Казалось, ничто в тот момент не могло их интересовать, ребенка бы только спасти, а вот запомнилось и вспоминалось не раз, и чем дальше, тем ярче стояло перед глазами: клумба, дача с белыми окнами, а какой воздух легкий, нигде больше такого не вдыхал.
Целая жизнь минула, пока сбылось: такой же балкон, так же покачивается тапочка на пальцах ноги. Внизу, в ванночке, выставленной на солнце, перезрелая незамужняя дочь в очках с толстыми стеклами пускает на воду желтых утят, а давно бы пора ей собственных детей нарожать, купать их. На радостные взвизги дочери подымается улыбающееся в седых волосах, набрякшее от наклонного положения лицо жены из клумбы роз, откуда чаще возвышается ее обширный зад. А по дорожкам, обсаженным флоксами девятнадцати сортов, прогуливается в задумчивости сын, делая жесты руками: сам с собой разговаривает. Весь он – и внешность, и солидность, и походка – вылитый доктор наук, не меньше. «Все, все при нем!» – восхищалась домработница Феклуша, она одна только и восхищалась. И приходило на ум кем-то сказанное: природа, потрудившись на гениев, отдыхает в их потомках. В четыре года сын уже бегло читал, когда съезжались гости, выходил с книгой, и все умилялись. В шесть начал проявлять склонность к наукам, и вот он тридцатитрехлетний – возраст Христа! – облысевший, похожий на пятидесятилетнего, а все еще проявляет склонность к наукам и подает надежды… Елагин вздыхал, отворачивался и опять вздыхал: не так, не так все задумывалось. Как жить без него будут? Временами, себе в том не признаваясь, он испытывал физическую брезгливость к сыну: к его покатой полной спине, к плоскостопной походке, будто лапами пришлепывает, а не ногами.
После своего негласного научного подвига и всего, что следом снизошло, он враз как-то ослабел духом. Его не радовало подобострастие коллег, не в радость было, что жители поселка смотрят на него с завистливым восхищением, кланяются, ниже пригибая шею, а если он за руку поздоровается, отходят от него, будто награжденные. Как только он поселился здесь, некоторые разбежались знакомиться, приглашать в гости, сблизиться домами. Знали бы они, как до сердечного обморока пугают его малейшие намеки на то, что сопричастен великому сталинскому свершению. Слишком хорошо была ему известна судьба авторов некоторых других гениальных сталинских трудов: не только сами исчезли, имена их стерлись навеки. И, бывало, проснувшись ночью, леденел, ждал. А несчастная привычка оглядываться, которая появилась с тех пор… И это при его величественной внешности.
Всю жизнь, занимаясь вопросами отвлеченными, он любил при случае писать и говорить о народе-языкотворце, но представлял себе народ в роли доброй молочницы Клаши, которая по утрам привозит на велосипеде молоко к ним на дачу, переливает тяжелую желтоватую струю из большого бидона в их бидон, стоящий на порожке: «И-и пейтя-а, и деткам парное…» И все это с ясной улыбкой на круглом заветренном лице.
Но однажды, когда бутили фундамент под гараж (очень ему само это слово понравилось: бутили), увидел он, как рабочие вместо камней спихивают в траншею свежевывороченный, весь в мокрой глине пень срезанного дерева, поддели ломами и вот-вот обрушат его. Елагин возмутился, вышел на балкон, как был – в тяжелом верблюжьем халате с шелковыми шнурами, вышел крикнуть сверху: «Послушайте, что же вы делаете? Есть ли совесть у вас?..» И тут услышал внизу визгливый, так что вначале и не узнал его, ликующий Клашин голос: «За одну лошадь, за две коровы да пару овец раскулачивали в нашей деревне, ссылали с детишками за Урал, а теперь и машины у их, и дома каменные, двухэтажные и – не кулаки!..»
Повесив кошелку с бидонами на руль велосипеда, она не то чтобы пристыдить рабочих, как должна была бы, по понятиям Елагина, она зло радовалась, Клаша, столько лет носившая им молоко. И еще он лицо ее увидал в этот момент. И смутился, струсил, позорно отступил в глубь комнаты, не крикнув, не сказав ничего. И пень обрушили в траншею, в чем он не признался жене. А когда после первой же зимы трещина пошла по стене гаража, вместе с женой изумлялся: с чего бы? Так хорошо, так добросовестно работали… Впервые в тот раз ощутил он свою беззащитность, всю непрочность своего положения, если – не дай бог! – что-то произойдет. И из двух сил милей показалась та, что карала беспощадно, но и защищала избранных, под ее покров устремился оробевшей душой.
А уже кончалась эпоха, но мертвый все еще держал души живых, помыслить люди не смели, что время, в котором они живут, – прошлое, задержавшееся искусственно, оно представлялось им и настоящим, и вечным, другого будущего для себя не видели. И кто бы поверил, что вскоре свершится немыслимое, разверзнется тайное: по организациям, на партийных собраниях начнут оглашать списками имена недавно еще неприкосновенных лиц, предадут гласности, как в закрытых заведениях развлекались власть имущие с молодыми девицами и актрисами – зачем, к чему это, ну зачем? Ведь так подрываются сами устои. И будет вынужден академик Елагин жалко оправдываться перед коллегами (особенно любопытствовали старики), заверять, что не грешен, мол, единственно сладкий крем от торта слизывал с голого плеча красавицы актрисы, ровесницы его дочери, крем – да, а на большее не посягал, ибо, во-первых, не способен, что жена может засвидетельствовать… Тут он, конечно, грешил на себя. Эти опытные, умелые девочки открыли ему, что он вполне еще способен. Впервые за свою в неведении прожитую жизнь, целиком и безраздельно отданную академической науке, узнал он многое и о многом пожалел. И на сына стал смотреть с превосходством.
Когда Евгений Степанович Усватов покупал этот дом, став четвертым по счету владельцем, Елагина уже не было в живых: обширный инфаркт избавил его от любознательности коллег, от дальнейших разбирательств. Покупал Евгений Степанович дом перед реформой, на старые деньги, и после не раз приходил сын Елагина, вовсе уже облезлый, но манерами и солидностью – профессор. Вбил себе в дурную свою голову, что, мол, что-то ему недоплатили, что еще ему причитается, должны… Деньги, полученные за дачу, попали у них под реформу, потратить вовремя толком не сумели, и вот считал теперь этот сыночек, что должны ему каким-то образом компенсировать это, устроить хотя бы на хорошее место его и сестру: «Вы человек нашего круга…» Его отпихивали, а он вновь и вновь лез к привычной кормушке, возле которой подрастал с детства, и вдруг почему-то перед ним она захлопнулась, когда прежние знакомые сохраняют посты, да еще столько новых людей кормится. По справедливости им тоже должны бы что-то выделить, дать, а их оттирают…
В одно из очередных посещений Евгений Степанович, уже ненавидя этот тупой взгляд, которым упирался в него младший Елагин, тем сильней ненавидя, что действительно недоплатил, задарма взял дом, такой теперь втридорога продать можно, подвел Елагина к крыльцу, откуда нанятые солдаты строительного батальона выгребали какие-то сгнившие чурки.
– Вот, вот что я у вас купил! – кричал Евгений Степанович, крепкий еще в ту пору, сорокалетний, а солдаты, голые по пояс, в рукавицах и с ломами в руках, охотно смеялись над лысым очкариком. – На легкие деньги закладывалось! А я не ворую. Глина под Москвой на полтора метра промерзает, а тут и на полметра не вырыто. Еще смеет приходить!..
А ночью, проснувшись внезапно, услышал Евгений Степанович, как кто-то ходит по дому. Полная луна стояла за окном, вискозная штора светилась и искрилась, черная тень еловой лапы махала по ней. Со сна да и от страха не враз сообразил, что это его сердце бухает в подушку, удары сердца отдаются в ушах. И заново увиделось, как подталкивал он Елагина к черной разрытой яме, как изгонял его с участка, мелькнула в последний раз в калитке понурая спина, лысый затылок… И что-то для себя во всем этом почудилось. Но при дневном свете смешны бывают ночные страхи.
Заново, на полную глубину, на все полтора метра заложен был фундамент под крыльцо, которое каждую зиму вспучивало и отламывало от дома, обновили растрескавшиеся колонны, полностью перестелили полы на первом этаже, каждую доску с исподу промазывали антисептикой, и раз, и другой раз, и наконец в пустых комнатах, где настежь были распахнуты свежеокрашенные окна, пахло масляной краской и гуляли сквознячки, хозяином прошелся Евгений Степанович по новым полам, попрыгал на них (он был один, никто со стороны этого не видел), вновь прошелся, вновь попрыгал – хорошо пригнано, ни одна доска не зашевелилась, не скрипнула под ногой.
На другой год обнесли участок сплошным забором. Проезжал как-то Евгений Степанович мимо стройки, разговорился с прорабом. «Да есть тут, привезли как раз бетонные столбы, лежат не по назначению…» И поставлен был забор на бетонных столбах. И новоселье, а теперь и свое шестидесятилетие, и награждение орденом справлял Евгений Степанович за городом, на даче, на вольном воздухе.
Глава II
Общество съехалось самое престижное. Помимо людей одного с Евгением Степановичем ранга, был космонавт с женой, был известный шахматист, он приехал на белой английской машине «лендровер», все с интересом разглядывали ее. Был писатель, автор нашумевших в последнее время романов. Был исполнитель авторских песен с гитарой и почти таким же, как у Высоцкого, хриплым голосом.
Скромно держались, сознавая свое могущество, деловые, торговые люди, ворочавшие состояниями. Не без их участия обеспечивались многие удобства жизни и шумные застолья, и этот стол не обошли они своим вниманием. В дальнейшем один из них, произнося тост, предложил тихим голосом, который, однако, всеми был услышан, выпить за тех, кто «все обеспечивает».
Юбиляра, Евгения Степановича, поздравляли с орденом, хотя официально об этом еще не было объявлено. Орден был желанный, именно тот, которого Евгений Степанович ждал и – что греха таить! – приложил к тому немало усилий, ибо скромность, как сказал известный поэт, – самый верный путь к забвению. Евгений же Степанович, тоже не лишенный дара мыслить образами, определял это по-своему: служащему человеку не напомнить о себе вовремя – все равно что потерять скорость на водных лыжах, сразу начинаешь погружаться и тонуть. Это сравнение он где-то вычитал, но оно так ему понравилось, так впору пришлось, что сразу и совершенно естественно посчитал его своим.
Теперь, когда тревоги, связанные с награждением, остались позади, возникла, как нередко бывает, некоторая неудовлетворенность, определенный дискомфорт в душе. А тут еще и Елена, со свойственной ей твердостью выражений, возьми и скажи: «Меньше бы ушами хлопал, и тебе бы не такую железку отстегнули». И перечисляла безжалостно: этот, этот, этот – что, больше тебя заслужили? Но Евгений Степанович смирил себя, не хотелось в такой день самому себе портить настроение.
Впрочем, во всех его делах и начинаниях она была верной помощницей, советы ее он ценил. Когда защищал кандидатскую диссертацию, Елена обзвонила по телефону и «левых» и «правых». «Левым» она говорила: «Как вы не понимаете, он ваш. Из тактических соображений не может показывать это явно. Вы посмотрите, как они действуют, как переманивают к себе людей, как заполняют все пустующие экологические ниши. А вы отталкиваете. Если вы не поддержите, правые затопчут его копытами…» И «правым» она говорила: «Он же ваш, ваш, надо его поддержать. Левые сговорились растоптать его, мне рассказали…» И его поддержали и «левые», и «правые».
С полудня массивные сварные ворота с завитушками поверху, окрашенные в голубой цвет, были распахнуты во двор, а на улице вдоль забора, в тени стояли машины, в некоторых дремали шоферы. На другой же стороне улицы на гребне кювета, куда с участка доносило запах жарящихся шашлыков и дым березовых углей, сидели студенты автодорожного института, из рук в руки передавали пакеты молока, бутылки воды.
Как-то, возвращаясь с работы в загородную прохладу – день в Москве был раскаленный, – попал Евгений Степанович в пробку: стелили асфальт на шоссе, в сизом чаду елозили многотонные катки, асфальт был черный, жирный, хорошего качества. Евгений Степанович давно намеревался заасфальтировать въезд в дачу, он созвонился с кем следует, и ему пообещали прислать машину-другую асфальта и «человечков пяток» студентов, «бойцов стройотряда», как на армейский манер именовали их в летнюю пору.
Но, как всегда у нас, что-то где-то не состыковалось, хотя вот же космические корабли стыкуются на орбите, что-то где-то не сработало вовремя, не сконтактировалось, и вместо четверга прислали в субботу (тут и гости названы, тут и асфальт стелят – все враз), но уже ничего нельзя было отменить, и Елена Васильевна, смягчая улыбкой, говорила гостям: «Пожалуйста, не обращайте внимания на наши эскапады…» Слово «эскапады» означало не совсем то и даже вовсе не то, но из гостей понимали его смысл немногие, а оно звучало и, как все непонятное, воспринималось как должное.
Студенты, одетые разномастно – кто в протертых джинсах, кто в тренировочных штанах, кто в пляжной кепке, а кто и вовсе нечто из газеты соорудив на голову, все в оранжевых, выгоревших на солнце жилетах, в которых они отрабатывали на шоссе свой третий, трудовой, семестр, откуда и перекинуты были на более важный объект: асфальтировать въезд в дачу, – ждали вторую машину асфальта, били друг у друга комаров на потных спинах и, вдыхая запахи жарящегося шашлыка, запивали их молоком из пакетов, а легковые машины все подъезжали и подъезжали.
Жарить шашлык пригласили шурина, брата Елены Васильевны, человека нетрезвой жизни. Его не жаловали в их доме, проще сказать, на порог не пускали, но шашлыки он жарил непревзойденно. Евгений Степанович строжайше запретил подносить ему, но тем не менее несколько раз – «Ну, как дела?» – подходил и всматривался. С багровым от жара углей сальным лицом, то и дело подхватывая клок волос, падавших с лысины на ухо, шурин обмахивал фанеркой выложенные рядком шашлыки, кропил их, а шофер еще и еще подавал нанизанную на шампуры, серую от маринада баранину, два полных таза стояли на траве. Шашлыки истекали жиром, жир капал на угли, сизый чад распространялся под соснами по участку, вся улица пахла шашлыками, а на столы, составленные на террасе, выносилось и ставилось, выносилось и ставилось, и пышная хозяйка с огромной, черной, черней воронова крыла, прической, уложенной на голове, выходила извиняться перед гостями, что, мол, не все готово. Ждали Басалаева, все знали, что без него не начнут.
Гости разбрелись по участку, стояли вокруг белой машины, на которой приехал знаменитый шахматист. Рубчатый след ее остался в воротах по свежему асфальту («Ничего, ничего, загладят», – успокоил хозяин). Как о чем-то вполне доступном и понятном в их кругу, шахматист рассказывал, что брал машину в Англии прямо на предприятии, минус тэкс, налог, а так бы она обошлась ему не в три, а в четыре с половиной тысячи фунтов. Паундов. Он охотно влезал внутрь, передвигал рычаги, и кузов подымался. «Очень удобно, если вдруг завязли в грязи. Она для сельских дорог, для ихних колхозничков. Правда, у них дороги!..» И у Евгения Степановича, который переходил от группы к группе гостей, мелькнула шаловливая мысль: в прежние бы, не в столь отдаленные времена такой бы разговор… Происходят в жизни, происходят перемены, да к лучшему ли?
Гости были все одного круга, разговор шел самый интересный: о планируемых назначениях и перемещениях по служебной лестнице, о том, что носится в воздухе. Только отставной полковник, с которым Евгений Степанович, как выяснилось, служил в одной армии, не чувствовал себя здесь своим. Каждый раз, когда на него обращали внимание, он с готовностью глуховатого человека улыбался напряженной улыбкой, но внимание обращали не на него, а на пять рядов ярких наградных планок на его сером пиджаке. Сам же он, совершенно заурядной внешности, да еще и малого роста, вызывал скорей недоумение. Тут были люди и телосложением, и видом всем куда более подходящие под эти пять рядов боевых наград.
Выйдя на пенсию, полковник посвятил себя ветеранским делам, мечтал создать хотя бы маленький музей их армии, выпустить книгу о боевом пути, который был им прослежен с большой точностью. И по ходу этих разысканий обнаружилось, что в числе здравствующих, можно сказать, выдающихся людей служил некоторое время в их армии и Евгений Степанович Усватов, занимающий ныне столь ответственный пост.
С папочкой документов, надеясь заинтересовать идеей музея, он робко позвонил у дверей. Была у него еще и своя тайная мысль, свой интерес: старший его сын вознамерился поступить во внешнеторговую академию, так, кажется, она называлась, решил пойти по этой стезе, а верней сказать, невестка решила не быть дурой, изменить жизненный статус, и полковник, за всю свою жизнь и за две войны – финскую и Отечественную – как-то не сумевший завести нужные знакомства, но очень любивший своих внуков, пошел к Усватову на прием, с папочкой стоял просителем под дверями, захватив на всякий случай прельщающий список товаров, как их теперь называли, повышенного спроса, на которые записывали ветеранов. Но встречен был холодно. Евгению Степановичу не требовалась ни стенка «Орфей» отечественного производства, ценою в одну тысячу пятьдесят рублей, ни холодильник «Минск», ни даже машина «Москвич» – он имел доступ к «товарам повышенного спроса». В дальнейшем, в своем кругу, Елена Васильевна пересказывала все это как анекдот, и особый успех имела стенка «Орфей» отечественного производства, про нее кто-то воскликнул, смеясь: «Сделана ночью из сэкономленных материалов!..»
Но правильно говорится: ненужных людей нет, а есть люди, которые не нужны до поры до времени. И когда полковник, побуждаемый невесткой и сыном, предпринял вторую попытку, он был встречен радушно и даже приглашен за город, чего уж вовсе никак не смел ожидать. Польщенный, обескураженный, он срочно отправился в военторг, поскольку обнаружился досадный непорядок – у него не хватало двух наградных планок, упустил как-то в последнее время, недосмотрел, – и там по списку ему подобрали и на общей колодке смонтировали по четыре в ряд пять рядов его боевых, военного времени, и послевоенных наград, полученных к датам.
И вот с драгоценным подарком – газетой их дивизии, таких только две сохранилось в его архиве – он приехал электричкой, долго шел от станции по жаре, по песку, искал, расспрашивал и явился раньше всех, поскольку боялся быть неточным. Как раз в это время стелили асфальт в воротах, ему указали калитку с другого угла участка.
Супруга Усватова Елена Васильевна («Простите, как?» – нацелил он свое ухо, за которым был у него розовый, как вставная челюсть, маленький слуховой аппарат. Она назвалась вновь, но как уж не расслышал с первого раза – Васильевна? Власьевна? – осталась неуверенность, и переспрашивать больше не решился, избегал называть ее по имени-отчеству), так вот супруга Усватова, поразившая его огромной прической, была крайне любезна. «Однополчанин Евгения Степановича, – представляла его гостям. – Вместе прошли весь фронт». Он улыбался напряженной улыбкой, держа в уме походатайствовать за сына, взглядом растерянным выбирал, к кому бы лучше обратиться, кто поймет. Все это были люди могущественные, с широкими возможностями, что им стоит? Ведь подтолкнуть только, а там и пойдет, и пойдет…
Евгений Степанович издали приветствовал его взмахом руки, а Елена Васильевна, чаруя улыбкой, разъяснила, в чем состоит главное его предназначение: «Вы, конечно, расскажете гостям о Евгении Степановиче на фронте. Всем будет очень интересно послушать». Полковник смешался: «Мы же даже не в одном полку…» Но большие воловьи ласковые глаза Елены Васильевны похолодели. «Нет, нет, вам есть что порассказать».
От шелкового прикосновения ее руки остался запах французских духов на ладони и полнейшая растерянность в душе. Но, может, так надо? По телевизору увешанные наградами фронтовики, старые, заслуженные люди, свезенные из разных городов, удостоверяли боевое прошлое Леонида Ильича, чуть из вырывали друг у друга право повспоминать, и такие рассказывали подробности, что ему, воевавшему, слушать было стыдно. Когда к двадцать первой годовщине Победы удостоили Леонида Ильича Брежнева звания Героя Советского Союза, тем самым в его лице как бы возвысив всех фронтовиков, ехал полковник в троллейбусе, и вдруг подвыпивший мужчина, по всему видно, окопник, громко, на весь троллейбус, не боясь: «Он что, до этих пор в блиндаже сидел? Только сейчас его обнаружили?..»








