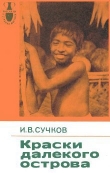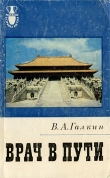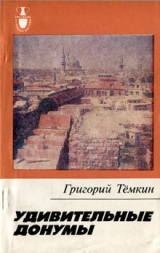
Текст книги "Удивительные донумы"
Автор книги: Григорий Темкин
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Другие нории в Хаме не столь велики, и не все они функционируют: ремонт водоподъемного колеса сложен и дорог, далеко не любое дерево годится на изготовление снашивающихся частей. Обод, к примеру, как считает потомственный хранитель норий в Хаме Абдель Гани Абу-Хусейн, следует делать только из шелковицы или ореха, а трущиеся детали – из абрикоса. Однако муниципалитет принимает все возможные меры к тому, чтобы восстановить неисправные колеса, каждое из которых, безусловно, интереснейший памятник старины. Это уникальная нория в районе Шейх-Мохиддин, объединяющая одновременно и водоподъемник, и мельницу; нория Ма’амурия неподалеку от центра города, колесо которой весит 200 тонн, а почти пятиметровая ось – 5 тонн; Хусамия и ад-Дахше, снабжавшие водой старый город; ад-Ддура и другие вдоль русла Оронта, подающие воду в частные сады. В самой Хаме сейчас 18 колес, а по всему губернаторству Хама их насчитывается 72. Хотя в 1935 году, по воспоминаниям Абу-Хусейна, норий было не менее 120 штук.
Норки входят в число главных достопримечательностей Сирии, но взглянуть на них в Хаму съезжаются не только туристы, но и специалисты по ирригации. Например, Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (FAO) рассматривает проект создания норий в Шри-Ланке, Таиланде: беднейшим крестьянам простые в изготовлении и экономичные нории могут оказать существенную поддержку.
Если лежащие близ рек или ручьев участки земли можно оросить посредством норий, то необъятные просторы Сирийской пустыни требуют современных ирригационных сооружений, комплексного использования всех водных ресурсов страны. Схема такого использования разрабатывается сейчас с помощью советских гидрологов. Задача для Сирии архиважная, ибо Сирийская пустыня занимает почти 60 процентов территории страны и, хотя ежегодные осадки в среднем не превышают там 220 миллиметров, обеспечивает кормами две трети поголовья овец. Сирийская пустыня по-арабски называется Бадият Шам, что можно перевести как «степь Шама». Потенциал ее огромен, единственное, чего ей не хватает, это воды. Весной, когда увлажненную дождями почву пригревает пока еще нежное солнце, с донумами Бадият Шам происходит чудо, сравнимое разве что с весенним пробуждением тундры. Земля покрывается малахитовым травяным ковром, зацветают колючие кустарники, распускаются полевые маки, незабудки, ирисы… Увы, пора цветения длится недолго. Прекращаются дожди, солнце, оставив нежности, набрасывается на землю со всей обжигающей яростью, и Бадият Шам обретает сблик того, чем ее принято считать: пустыни. Или, точнее, полупустыни с потрескавшейся поверхностью, где овцам чем ближе к лету, тем труднее находить корм и где лишь верблюды чувствуют себя как дома.
Верблюд – поистине животное пустыни и, по убеждению бедуинов, создано Аллахом только для них. Богатство бедуина определяется количеством у него верблюдов, ибо ни одно домашнее животное не может сравниться с ним выносливостью в пустыне и силой. Верблюд спокойно ступает по растрескавшейся, раскаленной земле, вязкому, сыпучему песку, полю, усеянному базальтовыми обломками и валунами, где ни ослу, ни лошади не пройти. Они умеют плавать и делают это с удовольствием, когда выпадает такая редкая возможность. Если же нет воды, верблюды обходятся без нее дольше, чем кто-либо другой: в жару – неделю, а если попрохладней – то и дней двадцать. Когда бедуин пригоняет свои стада к колодцу, он прежде всего дает напиться верблюду, который выпивает за один прием по 80–100 литров, обеспечивая себе запас на несколько дней. Если нет пресной воды, верблюд станет пить и солоноватую. Ест он практически все: колючки, любую солому, толченые косточки фиников, сушеную саранчу. На побережьях ему дают сушеную рыбу.
Верблюд обладает отличными «ходовыми качествами». С грузом до 300 килограммов он проходит по 30–35 километров в сутки, а с одним седоком – более сотни километров. Немецкий ученый-этнограф Лотар Штайн рассказывает о верблюде, который с седоком на спине проделал за восемь суток переход через пустыню длиной 1200 километров [22]22
См.: Штайн Л.В черных шатрах бедуинов. М., 1981.
[Закрыть]. Для взрослого вьючного верблюда вполне посильна ноша в 400 килограммов, а рекордсмены поднимают ношу до 800 килограммов.
Бедуины говорят: «Клянусь жизнью верблюда, который дает нам пищу». Это выражение можно понимать не только в переносном, но и в прямом смысле. Хотя грубоватое, волокнистое мясо верблюда уступает говядине, арабы и сейчас едят верблюжатину не так уж редко, а прежде блюда из нее считались вполне обыденными.
В Сирии, например, в 1978 году было забито 7365 верблюдов, хотя к началу 1983 года это число снизилось в пять раз. Наиболее лакомыми частями у верблюда считаются мясо горба и печень. Весной, когда есть свежая зелень, в Хаме и Хомсе готовят «халюб» – верблюжьи потроха и ноги, которые вместе с зеленым чесноком, зеленым луком, уксусом и специями кладут в большой горшок, замазывая его горловину глиной, и вечером ставят в погашенный только что танур; к обеду халюб ютов. А на больших бедуинских пирах до сих пор (правда, теперь в исключительных случаях) подают известное из восточных сказок кушанье – жареного верблюда, фаршированного бараном, фаршированного курами, фаршированными трюфелями…
Молоко верблюдицы не такое жирное, как коровье, но в день от одной кормящей самки можно надоить до 10 литров прекрасного питательного молока, которое не только утоляет жажду, но и, по мнению бедуинов, дает здоровье и бодрость.
Весной с верблюдов снимают шерсть, из которой изготовляют теплую одежду, полотнища для шатров, войлок, одеяла. Из шкуры верблюда шьют обувь, конскую сбрую. Из высушенного верблюжьего вымени делается сосуд для хранения молока. В пустыне, где хворост для костра найти крайне сложно, в качестве топлива используется навоз верблюдов. Даже их моча идет в ход: когда нет воды, ею моют голову, а при появлении на свет ребенка обтирают новорожденного в своеобразном обряде бедуинского «крещения».
Истории известна верблюжья кавалерия, игравшая роль ударной силы в отдельных арабских войсках. Отбирали особо злых верблюдов и специально обучали их. В бою они не только несли вооруженного всадника, но и сами топтали врага подковами с острыми шипами, а иногда пускали в ход мощные длинные зубы.
Верблюды давали арабам даже развлечения. В ряде арабских стран (Сирия в их число не входит) верблюжьи бега составляли популярнейшее зрелище.
Уважение и почет жителей пустыни к верблюду нашли отражение в языке: австрийский ученый Хаммер-Пургшталл насчитал в арабской литературе 5744 различных названия и эпитета, относящихся к верблюду! [23]23
Герасимов О. Г.На ближневосточных перекрестках. М., 1979, с. 458.
[Закрыть]
Существует около двадцати пород верблюдов, цвет которых разнится от белого через все желтые и коричневые оттенки до почти черного. Верблюды бывают двугорбые (бактрианы) и одногорбые (дромадеры), но на Арабском Востоке знают только последних. Изображения одногорбых верблюдов можно встретить на старинных барельефах, мозаиках, в древних наскальных изображениях, на камнях, лежавших на пересечении караванных путей. Известны египетские статуэтки верблюдов, датируемые 2500 годом до н. э. В Тель-Халафе на востоке Сирии при раскопках найдено изображение одногорбого верблюда, насчитывающее около 5 тысяч лет. Не определено пока, сколько тысячелетий небольшому камню с петроглифами и изображением дромадера, хранящемуся в историческом музее в Эс-Сувейде.
Однако распространенное мнение, будто родина верблюда – Арабский Восток, неверно. Палеогеографы и палеонтологи убедительно доказали, что родина верблюда, как и его ближайшей родственницы ламы, – Северная Америка. И уже оттуда в плиоцене (7 млн. лет) и плейстоцене (3 млн. лет) предки лам мигрировали в Южную Америку, а предки современных верблюдов распространились в Европу через перешеек, который связывал тогда континенты на месте нынешнего Берингова пролива.
Тем же путем проникли в Азию и лошади, от которых берет начало знаменитый арабский скакун – гордость арабов, символ красоты и жизни, с которым связаны их победы, слава, героизм. Арабы считают, что после Адама, которому, как известно, были подвластны все животные, первым, кто укротил и оседлал лошадь, был прародитель арабов Исмаил бен Ибрагим, и поэтому верят, что они узнали лошадь раньше других народов. Так это или нет – мнения на этот счет расходятся. Однако большинство ученых-исследователей полагают, что первыми коневодами в Восточном Средиземноморье были гиксосы – кочевой народ, пришедший в Сирию в XVIII–XVII веках до н. э. Гиксосы настолько почитали своих лошадей, что хоронили их отдельно или вместе с хозяином: такие захоронения были найдены при раскопках кургана Тель аль-Аджуль в районе Газы [24]24
Endberg R. М.The Hycsos Reconsidered. Chicago, 1939.
[Закрыть].
Так или иначе, уже ко II тысячелетию до н. э. лошадь была приручена и для кочующих по пустыням племен стала ценнейшим достоянием, более того, другом, сидя на крепкой спине которого можно было пасти скот и отыскивать новые пастбища, охотиться и спасаться от преследования. В арабской литературе многие сотни страниц посвящены горделивому красавцу скакуну. В XI веке арабский писатель Ибн-Рашик в книге «Аль-Омр» («Жизнь») писал, что ничто так не радует сердце араба, как три вещи: известие о рождении сына, хорошие стихи и добрый конь. Сам пророк Мухаммед не обошел вниманием коня, сказав, что добро, сокрытое в лошадях, откроется в день Страшного суда.
В Сирийской Арабской Республике коневодство уже не имеет былого значения, однако в степях можно и теперь встретить пастуха с отарой овец или погонщика верблюдов, восседающего на грациозной, тонконогой лошади. В городе всадник-бедуин, приехавший верхом за покупками или в гости, не редкость. А на базарах по-прежнему есть одна-две лавки шорников, где с безнадежной обреченностью ждут покупателя покрытые пылью седла, чересседельники, уздечки и прочая упряжь, названья которой не без труда вспоминает и сам торговец.
Не менее, чем верблюд и скакун, символичными для восточного мира стали цветы – с той, правда, разницей, что верблюдов и лошадей становится все меньше, а цветов все больше. В Сирии обожают цветы. В городах все лоджии являют собой цветники в миниатюре. Каждый кусочек земли во дворах домов, если он не занят деревьями, превращен в газон или клумбу. Цветочных магазинов в Дамаске в несколько раз больше, чем в Москве, и какой бы букет вы ни выбрали – гвоздики, левкои, ноготки, астры, – продавец поздравит вас с приобретением и долго будет упаковывать цветы в хрустящий целлофан, перекладывая их веточками зелени, стараясь расположить самым выигрышным образом. В столице, в гостинице «Шератон», каждую весну проводится выставка цветов, куда съезжаются десятки цветоводов из Сирии и из-за рубежа, и каждый в качестве экспоната привозит какое-нибудь маленькое зеленое чудо. И все же, что бы ни поражало посетителей, заставляя их ахать и прищелкивать языком, королевой выставок всегда остается роза.
Роза издавна вплелась в быт сирийцев. Известно, что еще 2 тысячи лет назад она была предметом экспорта Финикии. Аббасидский халиф Аль-Мутавакилль говорил, что он, король султанов, и роза, королева цветов, достойны друг друга. В Сирии впервые стали делать розовую воду. Когда Саладин в 1187 году освободил от крестоносцев Иерусалим, он объявил, что не вступит в город, пока там стоит запах врагов. Чтобы «очистить атмосферу», из Дамаска в Иерусалим срочно направили 500 верблюдов с грузом розовой воды. При этом следует учесть, что на приготовление одного литра розовой воды (по рецепту Авиценны) требовалось около 600 граммов лепестков!
Когда же в XVII веке было впервые изготовлено розовое масло, одной капли которого достаточно, чтобы пропитать воздух в большом доме, роза превратилась в настоящую драгоценность. Про розовое масло нельзя даже сказать, что оно шло на вес золота, временами оно стоило в два, три и даже пять раз дороже.
Что придает розе столь удивительный аромат? Трудно сказать. Американские ученые, проведя химический анализ, пришли к выводу, что запах розы создают около 30 различных веществ. Но когда все эти вещества были синтезированы, то получился раствор, имеющий запах жженой резины. К сожалению – а может быть, и к лучшему, – в лабораториях удается воспроизвести далеко не все, что создает природа.
Удивительные сирийские донумы продолжают взращивать этот удивительный цветок как с помощью садоводов, так и без нее. В мае – июне на холмах расцветает дамасская роза; тогда же на каменистых осыпях в горах Антиливана распускается нежно-розовая Rosa canina, в каменистых местах в апреле можно встретить и арабскую розу; к востоку от местечка Дума под Дамаском с июля по август растут на редкость шипастые Ливанские розы; на склонах от Дамаска до Зебдани все лето цветет ползучая финикийская роза – у нее загнутые шипы и много соцветий, белых и алых… [25]25
Post G. Е.Flora of Syria, Palestine and Sinai. Beirut, 1932, vol. 1, c. 458–460.
[Закрыть]
Глава 4
Крест против полумесяца
Кто в детстве не зачитывался романами о благородных, галантных, закованных в сверкающие доспехи воинах Вальтера Скотта и несколько менее благородных, но могучих и непреклонных – Генрика Сенкевича? Кто не помнит фильм об Александре Невском, где рогатые шлемы псов-рыцарей вместе с головами слетали с плеч под секирами русских ратников? Кто не мечтал хоть однажды побывать в средневековом замке, заглянуть в щель амбразуры, через которую смотрели на готовящегося к штурму противника угрюмые глаза крестоносца, пройтись по булыжной мостовой, по которой цокали копыта боевых коней, потрогать каменные стены, в которых гуляло эхо, разносившее звуки от бряцания мечей?
Тому, кто приезжает в Сирию хотя бы ненадолго, не прикоснуться к этой овеянной романтикой и в то же время мрачной странице истории – периоду крестовых походов – невозможно. Невозможно потому, что та страница писалась кровью и огнем прежде всего на сирийских землях, хотя «авторство» главным образом принадлежит французскому духовенству и мелким феодалам – рыцарям. Недобрую память о них арабы сохранили вплоть до XX века, всех европейцев называя «ифранджи» (франки) и вкладывая в это слово далеко не лестный смысл. Однако кроме памяти о смерти и разрушениях, повсюду сопровождавших крестовые походы, от той эпохи осталась целая система замечательных рыцарских замков; некоторые из них сохранились почти в первозданном виде и представляют собой уникальные образцы средневековой военной архитектуры. Однако, перед чем как познакомиться с сирийскими замками, обратимся к событиям, породившим эти замки, столкнув в более чем двухсотлетием противоборстве крест папской Еврспы и полумесяц мусульманского Востока.
Конец X – начало XI века. Западная Европа с алчностью поглядывает на восток. Покоя Европе не дают старый «зуб» на арабов за захваченную ими Испанию и легендарные богатства, которыми якобы полны дворцы исламских халифов.
На Арабском Востоке тем временем происходит то, что рано или поздно всегда случалось с непомерно разросшимися империями: когда-то единый арабский фронт, сплотившийся вокруг зеленого знамени ислама, начали разъедать внутренние противоречия. На севере Сирии хозяйничали турки-сунниты. Юг контролируют египетские халифы династии Фатимидов, исповедовавшие шиизм. Друзы заправляли значительной территорией, сейчас относящейся к горному Южному Ливану, но в тот период и вплоть до середины нашего столетия – сирийской. В горах на севере Сирии порядки устанавливает секта нусайритов, а в горах несколько южнее – общины исмаилнтов и ассасинов. Ужесточаются притеснения сирийских христиан – маронитов, яковитов, несториаи. Более того, Фатимиды, особенно третий халиф династии – Хаким, известный своим религиозным шовинизмом, от гонений на собственных подданных, исповедовавших христианство, перешли к нападениям на пилигримов из Европы, вопреки имевшемуся договору грабя и обирая их караваны. Трогать христиан, смиренно идущих поклониться гробу господню в сарацинами [26]26
Так христиане называли последователей Мухаммеда, и не только арабов, но и турок и других мусульман. Происхождение слова «сарацин» не установлено. Известно, однако, что еще задолго до смерти исламского пророка ученые Плиний и Птолемей словом «саракнуос» называли некоторые восточные племена. Одни лингвисты считают, что это слово образовано от арабского «шарк» – «восходящее солнце», «восток»; другие связывают с арабским словом «сахра» – «пустыня», «люди пустыни».
[Закрыть]же занятый Иерусалим?! Это уже был казус белли, за который Европа не замедлила ухватиться.
Первым голос поднял паломник Герберт, в будущем папа Сильвестр II. Возвратившись из Палестины в 986 году, он в открытом письме возопил о страданиях Иерусалима и призвал всех христиан на помощь святому городу. Искры, высыпанные распаленным богословом, попали на горючую смесь из христианского фанатизма пополам с разбойничьим авантюризмом. Французы и итальянцы незамедлительно зажглись жаждой мщения, в паломничество стали прихватывать с собой оружие, а дабы оно не заржавело, начали время от времени совершать набеги на прибрежные поселения арабов.
К концу XI века отношения между Европой и мусульманами накалились до предела. 26 ноября 1095 года папа Урбан II, француз по происхождению, обратился к христианской пастве со словами: «…предпримите путь к гробу святому, исторгните ту землю у нечестивого народа и подчините ее себе…». «Кто здесь горестен и беден, там будет богат». И паства, среди которой были и верующие, искренне желающие спасти христианские святыни, и военные, жаждущие битв, славы и завоеваний, и манимые будущими барышами купцы, и проходимцы всех мастей, и раскаявшиеся грешники, искавшие искупления грехов в тяготах походной жизни, и отпетые преступники, самое дно общества, для которых любые перемены означали облегчение, – вся эта разношерстная западноевропейская орда потянулась на освященную папой римским большую дорогу.
Самый крупный отряд – 150 тысяч человек – выступил в августе 1096 года, и его поход вошел в историю под названием первого крестового похода. К поясам участников, главным образом французов, норманнов и итальянцев, были подвешены прямые тяжелые мечи, па груди – кресты (отсюда «крестоносцы»). Их девизом было: «Deus lo volt» («Этого желает бог»).
Дойдя до земель «нечестивого народа», многие рыцари вдруг поняли, что воля божья – не лететь сломя голову в Палестину, а немедля поделить между собой самые лакомые куски сирийского пирога. Валдуин занял город Эдессу и основал Эдесское графство – первое из крестоносных государств на Востоке. Предводитель норманнов повернул па запад и захватил Киликию, где жили тоже далекие от ислама армяне и греки. Его вассал и родной дядя Боэмунд тем временем после долгой и трудной осады взял Антиохию. Она стала главным городом Антиохийского княжества – другого государства крестоносцев, к которому несколько лет спустя Танкред (из Нормандии) присоединил Латакию и Апамею. Графы Раймонд Тулузский и Готфрид Бульонский двинулись на юг, стараясь придерживаться побережья Средиземного моря. To, что они выбрали маршрут, проторенный уже многими завоевателями Востока, а не углубились во внутреннюю Сирию, спасло от разорения крупнейшие города – Халеб, Хаму, Хомс, Дамаск, которые позже крестоносцы 1ак и не смогли взять. Те же города, что оказывались у них на пути, или после недолгого сопротивления отдавались на милость победителя, или покупали себе мир за золото.
Практически нигде не встречая отпора, а от многих христиан и некоторых бедуинских племен получая даже поддержку, 7 июня 1098 года крестоносцы подошли к своей заветной цели – Иерусалиму. Их было около 40 тысяч, п у тысячного гарнизона, оборонявшего Иерусалим, шансов на победу, конечно, не было. 15 июля город пал, и благородные рыцари из христианской Европы устроили на его улицах беспощадную резню. Летописцы сообщают о «грудах голов, и рук, и ног, которые можно было видеть повсюду, на всех улицах и площадях» [27]27
Цит. по: Hitty Ph.History of Syria including Lebanon and Palestine. L., 1951, c. 599.
[Закрыть]. Арабский историк Ибн аль-Асир уточняет число жертв: 70 тысяч человек. Образовалось третье, главное из четырех (несколько позже Раймонд Тулузский займет Триполи, и графство Триполийское станет четвертым) крестоносных государств в Сирии – королевство Иерусалимское. Глава его, Готфрид Бульонский, впрочем, отказался от титула короля, не смея ходить в короне там, где спаситель носил терновый венец, и, смыв кровь горожан со своего меча, смиренно присвоил звание «защитник святого гроба». Но двенадцать лет спустя его брат Балдуин, граф Эдесский отбросил предрассудки, короноьался и стал первым настоящим монархом Иерусалимского королевства.
И в Европе, и на только что завоеванных территориях воинствующие христиане праздновали победу, которая казалась окончательной и бесповоротной. На деле же, однако, ситуация для крестоносцев складывалась не так уж радужно. Государства крестоносцев, простиравшиеся с севера на юг на весьма внушительные расстояния, которые в разные годы колебались от 600 до 900 километров, располагались на очень узкой полосе в 90–100, а в районе Триполи – всего около 40 километров. И всему этому столь растянутому фронту с востока постоянно угрожали многочисленные, хотя пока и разрозненные, силы мусульман. Да, превосходство закованной в железо кавалерии крестоносцев над легковооруженными арабскими всадниками в открытом бою было продемонстрировано первым крестовым походом, но еслт несколько рыцарей могли решить исход одной конкретной битвы, то удерживать в течение длительного времени обширные земли, пусть даже при поддержке местных христиан и «врагов врагов» из числа мусульман, было уже значительно сложнее. Тем более что ряды папских воинов сокращались, и не только за счет потерь: многие рыцари после взятия Иерусалима сочли свою миссию исполненной и вернулись домой. С Готфридом Бульонским, например, в Иерусалиме осталось всего 300 конных рыцарей. Подкрепления из Европы приходили редко и были недостаточными. Естественным и единственным решением, благодаря которому крестоносцы продержались на территории Сирии почти 200 лет, было строительство укреплений – замков и крепостей. То, что не могли сделать солдаты, должны были выполнить камни.
Сооружение замков как стратегия колонизации началось в правление короля Балдуина I (1100–1118), и вплоть до XIV века, пока из Сирии не ушел последний крестоносец, над фортификациями неустанно трудились военные строители франков. За этот период были возведены и перестроены десятки замков, которые по назначению условно можно подразделить на три группы.
К первой можно отнести замки, предназначавшиеся для охраны маршрута паломников к гробу господню. Они строились преимущественно на юге, между Яффой и Иерусалимом, то есть вне территории современной Сирии, поэтому в этой книге мы на них не станем задерживаться.
Вторая группа включает укрепления на Средиземно-морском побережье. Поскольку во всех прибрежных городах существовали старые фортификации, оставшиеся от византийцев или арабов, крестоносцы лишь перестраивали их, расширяя и усиливая в соответствии с собственными военными представлениями. А по средневековым понятиям, укрепленному городу полагалось иметь помимо крепостных стен хотя бы небольшой донжон, или башню-замок, причем расположенный не в центре города, а в углу и с выходом на открытую местность. В случае падения города в таком донжоне можно было держаться еще какое-то время в надежде на подкрепление. Увы, эти замки столько раз переходили из рук в руки, что до нас дошли в основном их благородные руины. Лучше других, пожалуй, сохранились укрепления в Тартусе: остатки замка тамплиеров с великолепной крепостной башней-донжоном и двух концентрических линий обороны. Часть третьей стены, окружавшей город, и собор можно с некоторой натяжкой назвать почти целыми.
И наконец, третья группа, в которую входят замки стратегического назначения – огромные, неприступные бастионы, возводимые не столько для защиты какого-то конкретного юрода, сколько для охраны растянутого восточного фланга государств крестоносцев и контролирования проходов в горах и ущельях. Замки эти расположены в столь изолированных, труднодоступных местах, что после изгнания из Сирии крестоносцев их ратные судьбы большей частью завершились, и в дальнейших войнах они уже не участвовали, благодаря чему и сохранились для потомков во всем их средневековом величии. Это они в первую очередь встают перед мысленным взором, когда речь заходит о замках крестоносцев: расположенные на сирийской земле Саон – замок Саладина, замок Крак де Шевалье, Калаат аль-Маркаб и другие.
В 35 километрах от Латакии, в окружении каменистых холмов, на каменном уступе, целиком из камня, стоит одно из уникальных сооружений раннего средневековья – замок Саладина. Предполагают, что укрепления на этом важном участке Нусайритских (Ансария) гор существовали еще при финикийцах. Известно, что к началу первого крестового похода там уже стояла византийская крепость Саон. Развалины старого замка, равно как и напоминание о его недолгой активной истории в послекрестовый период – минарет, бани, рассыпающиеся постройки арабского городка, – еще различимы в зелени травы, переплетении ползучих кустарников и пестроте диких цветов, медленно ведущих свое наступление на древние камни. И все же византийские и арабские сооружения не столько скрадываются горной растительностью, сколько просто теряются на фоне грандиозных сооружений, оставленных крестоносцами.
Серпантин головокружительной дороги выводит к замку неожиданно, открывая его сразу во всем великолепии: треугольные, с километр длиной фортификации, с двух сторон переходящие в глубокие, крутые обрывы. С третьей стороны от горного массива плато, на котором расположился замок, отделяет ущелье, словно прорубленное в скале волшебным мечом. Но волшебного меча не было. Были годы изнурительного труда, по объему сравнимого разве что с возведением пирамид. 170 тысяч тонн горной породы высекли из кряжа руки рабов и пленников крестоносцев, и ров длиной 156 метров, шириной от 15 до 18 метров и глубиной 28 метров превратил Саон в остров в каменном море. А поскольку задуманный ров был слишком широк для обычного подъемного моста, франкские строители оставили посередине рва монолитную скальную опору под двухпролетный мост – ее игла по сей день возвышается как памятник создателям этого рукотворного каньона.
На дно рва солнце заглядывает лишь в полдень. Неподалеку бьет родник. В отвесной стене вырублены ниши под конские стойла; несколько в стороне в скале зияет пещера для пленных – ни один враг, пусть даже плененный, не должен был осквернить своим присутствием рыцарский замок, строившийся крестоносцами как символ собственной незыблемости.
Укрепления замка и в самом деле внушают мысль о полной его неприступности. С востока помимо рва Саон защищают также крепостные стены, три малые круглые башни и донжон – массивное, квадратного сечения двухэтажное сооружение со стороной 25 метров и единственным входом в пятиметровой толще внешней стены, перекрытым подъемной решеткой. За воротами донжона сразу располагается нижний зал со сводчатым потолком, который в центре переходит в мощную четырехгранную колонну; такая же колонна поддерживает потолок и в зале верхнего этажа, куда ведет вырубленная прямо в стене лестница. К донжону примыкает, но не соединяется с ним проходом самое обширное в замке помещение, разделенное четырьмя рядами пилонов на пять залов и связаннее с круглыми башнями и колодцем-цистерной. Вторая цистерна, вмещавшая около 5 тысяч кубометров воды, располагалась с северной стороны замка, почти лишенной дополнительных укреплений и тем не менее самой безопасной благодаря отвесной пропасти. Южную стену обороняли три сильные квадратные башни, самая западная из которых служила и главным входом. На запад треугольник Саона, повторяя треугольную форму скалы, обращен вершиной, которая надежно защищена глубоким обрывом.
Тем поразительней факт, что замок, с 1110 года являвшийся оплотом крестоносцев в Антиохии и контролировавший проход из долины Оронта к морю, в июне 1188 года был взят Саладином за… час! Полагают, что это короткое, но жаркое сражение разворачивалось следующим образом. Саладин начал обстрел Саона с противоположной стороны восточного рва, а когда осажденные решились на контрвылазку, штурмом ворвался через самое уязвимое место в обороне замка – северо-восточный угол. После непродолжительной схватки гарнизон сдался, и оставшиеся в живых были отпущены на свободу за выкуп: десять золотых за мужчину, пять – за женщину и по два – за каждого ребенка. Захватить Саон вновь крестоносцам не удалось.
Многие европейские авторы склонны это молниеносное взятие «неприступного» Саона объяснять численным превосходством арабов, мощностью батареи из шести (по тем временам – большая сила) осадных катапульт, метавших камни весом до четверти тонны (следы от их попаданий до сих пор видны на укреплениях замка), а также I рубой тактической ошибкой командира гарнизона. Арабские исследователи, однако, взятие Саона прежде всего относят на счет полководческого таланта легендарного национального героя арабов Салах ад-Дина (что в переводе означает «благочестие веры»), широко известного в Европе под именем Саладин.
Аль-Малик ан-Насыр (царь-победитель) ас-Султан Салах ад-дин Юсеф ибн-Айюб родился в 1138 году в городе Такрид на реке Тигр, в семье высокопоставленного курдского военачальника. Хотя с детства Саладин был склонен больше к теологии, чем к ратному делу, судьба распорядилась по-своему: в 1169 году он попадает в Египет и становится визирем фатимидского султана Нур ад-Дина. С этого момента начинается карьера Саладина, которую он посвятил трем основным целям: превращению египетского шиитского ислама в суннитский; объединению Египта и Сирии под единой властью; джихаду («священной войне», своего рода контркрестовому походу) против франков.
Первой цели Саладин достиг довольно быстро и легко; вторая осуществилась, когда умер Нур ад-Дин и власть над Египтом и Сирией сосредоточилась в его руках. Теперь, владея государством, сплоченным испытаниями полувековой войны и ненавистью к захватчикам-иноверцам, можно было приступать к выполнению третьей задачи.
На крестоносцев, уже изрядно потрепанных в сражениях с Hyp ад-Дином, обрушился новый, энергичный, фанатично религиозный, талантливый противник. Саладин наносит франкам поражение за поражением, берет город Тиберию в самом центре Палестины. В июле 1187 года армии христиан и мусульман сходятся в решающем сражении под Хиттином. Зная преимущества тяжелою вооружения крестоносцев, Саладин искусно использует его слабую сторону, долгое время избегая прямой атаки и обстреливая из луков рыцарей, изнемогающих в своих доспехах под палящим июльским солнцем. Из 20 тысяч крестоносцев мало кому удалось спастись. Среди пленников оказался сам король Иерусалимского королевства Ги де Лузпниан. Саладин оказал ему почести, достойные королевского ранга, и освободил под клятву никогда больше не поднимать меч против мусульман, которую тот впоследствии нарушил, приняв участие в следующем крестовом походе. За выкуп получили свободу другие знатные рыцари. Но далеко не все. На долю попавшего в плен Реджинальда де Шатильона, лорда Керакского, выпала совсем иная судьба. Рядом с его замком Керак к югу от Иерусалима пролегал маршрут мусульманских паломников, и, нарушая договоренность, Реджинальд часто грабил идущие в Мекку караваны; его флот в Красном море не давал покоя жителям аравийских и нубийских берегов, а однажды он с вооруженным отрядом высадился в Хиджазе, двинулся на Медину и за сутки пути от священного города ислама был остановлен спохватившимися арабами. Как пишут средневековые историки, Реджинальд собирался в Медине ни мало ни много как захватить гроб с телом пророка Мухаммеда, отвезти его к себе в Керак и допускать к нему мусульман за специальную плату! Набожный Саладин поклялся лично отрубить голову святотатцу и на глазах Ги де Лузиниана исполнил клятву.