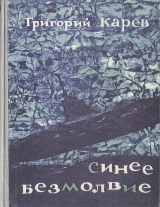
Текст книги "Синее безмолвие"
Автор книги: Григорий Карев
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
КЛАДОВЫЕ МОРЯ
Ничему бы так не обрадовался Демич, как встрече с бывшим командиром Майбородой. Виктор Олефиренко, конечно, многое сделал для того, чтобы простой колхозный паренек полюбил и освоил водолазное дело. Но хорошим водолазом Прохор, пожалуй, так и не стал бы, не доведись ему после учебы служить под началом Павла Ивановича Майбороды.
Рассказывая о том, что знал, что видел сам или вычитал в книжках, Олефиренко всегда приукрашивал море и моряков, будто хорошую песню складывал о них. Море в его рассказах было загадочным и манило к себе неизведанной тайной и удивительной красотой, а моряки – бесстрашными, лихими, хладнокровными, умеющими шутить в самые тяжелые минуты жизни.
Павел Иванович, напротив, был человеком практическим. О море он рассказывал примерно так:
– Моря и океаны нашей планеты – это огромная кладовая с запасами рыбы, морских животных, вкусных и питательных крабов, омаров, креветок, устриц, трепангов. На морском дне – масса различных водорослей. Они могут быть и кормом для скота, и ценными лекарствами, и продуктами питания. А под водорослями и морским грунтом скрыты богатейшие месторождения титана и меди, свинца и кобальта, урана и платины. Все это мы, водолазы, должны помочь человеку открыть и освоить. Если бы удалось собрать золото, которое растворено в водах мирового океана, то золота на земле было бы больше, чем меди!
Он относился к морю, как хлебороб к целине: роди и дай, не родишь – заставлю!
Морская биография Павла Ивановича началась давно. Вырос он среди моряков, спасавших объятый пламенем французский лайнер «Жорж Филиппар» и поднимавших разорванный набухшим горохом океанский пароход «Днепр». В ту пору, когда Прохор еще и под стол пешком не ходил, он уже плавал практикантом на «Декабристе». Однажды на траверзе мятежной Суеты «Декабрист» был остановлен франкистскими сторожевыми катерами. Катеришки, как рассказывал потом Павел Иванович, были ржавые и слабые, их задранные в синее августовское небо пушчонки выглядели смешно и жалко. Но совсем недалеко, нацелив жерла орудий на «Декабриста», стоял, как впаянный в цветное отражение Атласских гор, серый немецкий линкор «Дейчланд». Павел Иванович уверял, что «Дейчланд» выглядел тогда очень эффектно на фоне зеленых обрызганных желтизной гор, подножие которых было затянуто голубоватой дымкой, а вершины скрывались в облаках… Семь лет спустя, в тысяча девятьсот сорок пятом, водолаз Майборода первым вступил на развороченную авиационными бомбами палубу «Дейчланда», затопленного в канале между Штеттином и Свинемюнде. Искореженный, изъеденный ржавчиной и обросший ракушками, линкор мешал судоходству. Водолазы приподняли его с грунта, чтобы дать возможность ледоколам вытащить его ржавые останки в море и там затопить на глубине…
Не было, пожалуй, в послевоенные годы сколько-нибудь важных судоподъемных работ на Балтике и на Черном море, в которых не участвовал бы Майборода. И на балтийской «Коммуне», и на черноморской «Марусе», на всех судах-спасателях он был своим человеком. Рассказывали, что в его водолазной книжке потерян счет глубоководным спускам и часам, проведенным под водой. Для новичков Павел Иванович был человеком почти таинственным, а для тех, кто знал его поближе, понятным, как открытая книга. Смотрит бывало на него Прохор и будто черное по белому читает: худощав и жилист – это оттого, что у Майбороды детства почти не было, а молодость пришлась на военные годы; вот они с их заботами и невзгодами и вылепили его таким: ничегошеньки лишнего не дали, разве что силу бицепсам – воина всех варила круто, калила до малинового цвета; узловатые руки – так сколько же теми руками тяжелой матросской работы переделано; резкие черты лица – это необходимые водолазу строгость и целеустремленность, та жесткая суровость, с которой он каждый раз спрашивает за промах, та целеустремленность, которой требует в одной мере и от подчиненных и от себя; мягкие каштановые волосы, прядкой падающие на большой лоб, пристальные глаза под густыми бровями, – так кто же из водолазов не испытал на себе их мягкости и теплоты в минуту усталости, когда после тяжелого труда поднимаешься с многометровой глубины и палуба вдруг качнется под тобой, как в детстве люлька качелей, и все поплывет кругами перед твоими глазами.
Перед самой аттестацией с Прохором случилась беда.
Не такая уж и большая, может с каждым молодым водолазом это случиться, но последствия ее были для Демича самые неожиданные.
Шли обычные тренировочные спуски с водолазного бота. День был туманный, над водой стоял полумрак, а под водой и совсем темно. Прохор вместе со всеми радовался: есть возможность потренироваться в сложной обстановке, поработать на глубине без освещения. Моряки – народ такой: чем труднее задание, тем больше охота разбирает выполнить его. Прохору приказано было: держась за тонкий канатик, буйреп, спуститься на дно, отыскать на шестиметровой глубине затопленный тяжеловес – большой ящик с песком, прорыть под ним нору, протянуть через нее стальной трос, остропить ящик и подготовить к подъему. Работа почему-то в тот день у него не ладилась: то конец травили недостаточно, и приходилось снова и снова дергать и тянуть его, то захваты плохо цеплялись за скользкий ящик, то илом заносило прорытый под тяжеловесом туннель прежде, чем Прохор успевал протащить в него стропы.
Раздосадованный тем, что дело в руки не дается, молодой водолаз заходил то спереди, со сзади, то сбоку распроклятого тяжеловеса, все больше и больше вытягивая к себе стропы и воздушный шланг.
– Может, поднять тебя на палубу? – спрашивал Олефиренко, руководивший тренировкой.
– Ну, нет. Не выйду из воды, пока не выполню задания.
Наконец, Прохор протащил все-таки конец под ящиком, захватил крюком за стальной строп и для верности дернул изо всей силы, так, что взбаламученный ил тучей поднялся, окончательно лишив водолаза света. Наверное, Прохор прорыл слишком большой туннель, грунт не выдержал, осел, и тяжеловес, опрокинувшись, придавил ему ступни обеих ног. Если бы не металлические носки галош, он, пожалуй, растрощил бы Прохору кости. Демич попытался вытащить ноги из-под ящика, но свинцовые галоши были крепко прижаты к камню. Он попробовал нагнуться, чтобы приподнять руками тяжеловес, но едва присел, как колени уперлись в ящик, и Прохор опрокинулся навзничь. К тому же он начал задыхаться, не хватало воздуха.
– Дайте больше воздуха, – попросил Прохор по телефону.
– Даем больше воздуха, – ответили ему со спусковой станции.
Но Прохор не почувствовал облегчения. Воздуха не хватало, грудь разрывалась от боли, а налитая кровью голова гудела, как пожарный колокол. Случайно Прохор ухватился за воздушный шланг и почувствовал, как в нем упруго пульсировал воздух. Но шланг так же, как и ноги, был придавлен ящиком, воздух не поступал в скафандр. На боте, очевидно, догадались о том, что водолаз попал в беду и попытались вытянуть его из воды, но спусковой конец натянулся, как зацепившаяся за корягу рыболовная леска, а Прохор, конечно, не сдвинулся с места.
– Запутался, не могу выйти без помощи другого водолаза, – закричал он в телефон. – Мне дурно. Поднимайте скорее.
В ушах зазвенело сильнее: бам-бам-бам-бам, – бил пожарный колокол. Сознание мутилось, слышались какие-то голоса, что-то огромное, страшное наваливалось на Прохора, душило. Будто в свете кровавого зарева он видел то мать, то Олянку, то деда Костя, они что-то кричали ему, но он ничего не слышал, только видел их беззвучно шевелящиеся губы и расширенные от ужаса глаза. Прохор потерял сознание.
«Сейчас проснется», – сказал у самого уха дед Кость.
Прохор открыл глаза.
Деда Костя не было. У койки стояли в белых халатах Виктор Олефиренко и врач. Оказывается, прошло уже много часов после того, как Прохора вытащили из воды и бот доставил его на берег.
С тех пор Прохор стал не то что бояться воды, но просто торопел перед нею. Вот стоит на трапе водолазного бота. Грузы и шлем давят ему плечи. Перед самыми глазами в иллюминаторе вода плещет. Он уцепился рукой за последнюю ступеньку трапа, слышит, как пальцы хрустят от напряжения, а разжать их не может. Вот, кажется, выпусти трап, и утянут тебя пудовые галоши, свинцовые грузы, неудобный скафандр в холодную и темную бездну. Навсегда утянут – ни солнца, ни неба, ни друзей-товарищей никогда уже больше не увидишь. Хочет Прохор улыбнуться сам себе, сбросить с себя оторопь, перестать думать о глубине и не может, чует, как холодный комок подкатывается к самому сердцу, как капельки пота выступают на лбу… Каждый раз ценою большого усилия воли он заставлял себя уйти на морское дно. Две-три секунды всего длилась эта борьба с самим собою. Никто ее не замечал…
Но Прохор-то знал, как она обессиливала его в самом начале спуска, знал, что если еще случится какая-нибудь неполадка, если один раз не совладает он с собой в эти две-три секунды, значит, не уйдет под воду; если хотя бы один раз не сумеет побороть свой страх перед пучиной, то останется побежденным навсегда, никогда не будет водолазом.
Да, никто не замечал его беды. Никто не видел, что молодой водолаз на какое-то мгновение дольше, чем следовало, держался за поручни трапа перед спуском под воду, что лицо его заливала смертельная бледность. А Прохору с каждым разом все хуже и хуже приходилось. Озноб брал его уже не на последней ступеньке трапа, а на первой. Потом, когда становился на галоши, еще позже, когда надевали на голову шлем… А дальше пошло так, что он за день до спусков покоя себе не находил. Страх глубины, как клещ, впился в него, где-то сзади, ниже левой лопатки, и все ближе подбирался к сердцу, все глубже запускал свои гибкие тонкие щупальца. Иногда Прохору казалось, что огромный невидимый спрут поселился в нем и сжимает его своими страшными лапами, высасывает и силу, и смелость, и совесть… Прохор был в отчаянии. Он злился на старшину, когда тот накануне объявлял о предстоящих спусках, – лучше сразу, внезапно: приказали и айда под воду.
И никто – ни старшина, ни командир корабля, ни корабельный врач, – ничего не замечали.
А Павел Иванович заметил. Как только Демич прибыл на корабль, на котором Павел Иванович служил специалистом водолазных работ, так на первой же тренировке и заметил. Вечером свободные от вахты офицеры после ужина обычно уходили в город или в каютах готовились к занятиям, а Павел Иванович к матросам тянулся. Как-то остались они вдвоем у обреза с окурками. Лейтенант спросил матроса о письмах из дому, поинтересовался учебой и постепенно перевел разговор на проведенную в тот день тренировку.
– Давно вы стали бояться воды? – неожиданно спросил лейтенант.
Прохор растерялся. Слышал он от старых водолазов, что когда человеком овладевает страх перед глубиной, – дело конченное, его немедленно отчисляют из водолазов. А Прохор боялся глубины и любил ее, стремился к ней, надеялся побороть в себе чувство страха. Поэтому и скрывал свою беду от других. Но если узнает о ней корабельный специалист водолазных работ, пожалуй, не станет возиться, на другой же день Прохора спишут на берег.
– Я помочь вам хочу, Демич, – мягко сказал лейтенант, касаясь рукой плеча Прохора. – Страх опыта боится. Надо чаще под воду спускаться. Завтра вместе на грунт пойдем. Хорошо?
Говорят: «Тяжело в ученье – легко в бою»… Не знает Прохор, в бою легко ли. Но ему и сейчас кажется, что за годы службы вода в море заметно посолонела. От его пота посолонела. Ох, и умеет же его выжимать с человека офицер Майборода, умеет! И вместе с потом всякую дурь: страх, лень, нерадение, несобранность. Много кое-чего он из Прохора выжал, пока водолазом сделал.
…И вот сидят они, демобилизованный матрос и бывший его командир, в кубрике, как будто никогда и не расставались. Прохору все хочется рассказать Павлу Ивановичу: и о погибшем в годы войны отце, и об обиде своей на Олефиренко, и о неприязни к Качуру, о неудачной попытке объясниться с Осадчим, повлиять на Бандурку, и даже… Нет, нет, этого он Павлу Ивановичу не скажет, об этом он даже самому себе еще боится признаться.
Павел Иванович внимательно слушает Прохора, положив узловатые коричневые от загара руки на стол и изредка поправляя падающую на лоб мягкую каштановую прядку волос. Густые брови то хмурятся, когда Прохор горячо говорит о несправедливом обвинении его в дезертирстве и о том, что в экипаже «Руслана» много неполадок, то высоко удивленно приподнимаются, когда Прохор рассказывает о водолазе Качуре. Странный этот Качур, и все, что он говорил Демичу, конечно, вранье: не может водолаз припрятывать в море ценности, найденные на затонувшем судне, и потом тайком поднимать и сбывать их куда-то, ведь каждый спуск под контролем, на виду у экипажа. Но зачем ему было предлагать Прохору деньги? В какие темные махинации Качур хотел запутать его, и почему то запугивал Прохора, то старался задобрить, подружиться? Честный человек так вести себя не будет.
– Ну, хорошо, Олефиренко вас не понял, допустим. Но ведь можно было обо всем рассказать на собрании, поставить вопрос честно и прямо: так и так, мол, ребята, не таким должен быть экипаж коммунистического труда, не так строители коммунизма должны поступать. По-моему, поняли бы вас товарищи и поддержали бы, если нужно, и Олефиренко поправят, а уж с Качуром обязательно разберутся.
– Пробовал, – безнадежно махнул рукой Прохор.
– Ну и что же?
– Не поверили. Мало того, обвинили меня в подрыве авторитета ударника коммунистического труда, в клевете на экипаж…
– Кто обвинил?
– Комсомольское собрание, кто же.
– Олефиренко выступал?
– Нет.
– А кто?
– Да сам же Качур и выступил, изобразил все так, будто я по злобе на него клевещу, хочу у него невесту отбить, меня же в аморалке обвинил.
– Вон как! А что за невеста такая?
– Да какая она ему невеста, – рассердился Прохор. – Искалечить девушке жизнь хочет. А она его ненавидит и боится. Вот какая она невеста.
– Ну, а вы-то ее любите, ухаживаете за ней? – допытывался Павел Иванович.
Прохор замолчал. Любит ли он ее? Вот это и есть тот вопрос, на который он даже сам себе ответить не может. Есть что-то в Люде такое, что заставляет Прохора все чаще и чаще думать о ней, о ее судьбе, о том, что надо ей как-то помочь, чем-то обрадовать, чтобы она чаще улыбалась, ведь ей так идет улыбка, она становится очень красивой, когда улыбается. И Прохору хотелось видеть ее красивой и радостной. Но разве это и есть любовь?
Павел Иванович пристально посмотрел на Прохора и, кажется, отгадав ответ на свой вопрос, не стал дальше расспрашивать о девушке.
– Ну, и что же собрание? Поддержало этого водолаза? Выступил кто-нибудь против вас?
– Да нет, против меня не выступали, – сдвинул плечами Демич. – Но и не поддержали меня. Качура никто не захотел разоблачать, хотя многие им недовольны… Просто отмолчались… Время было позднее, вопрос стоял о пьянке Осадчего… Ну, об Осадчем и вынесли решение. А о Качуре… сказали – поздно уже. Да что я для них в конце концов – дезертир, человек, увильнувший от трудностей, – я же понимаю. А Качур – герой-производственник, слава экипажа как-никак. Ему легче верить. А только он… Я не знаю, кто он: вор, жулик или еще хуже, но он подлый человек, верьте моему слову.
Чем дальше продолжался разговор, тем больше горячился Прохор. Он досадовал на себя: не сумел толком рассказать Олефиренко, не нашел общего языка с комсомольцами на собрании, теперь вот и ему, Павлу Ивановичу, самому справедливому человеку, не сумел рассказать как надо, выставил себя дураком, нытиком, мелким кляузником… А Павел Иванович понял Демича по-своему: обратился парень к капитану – тот не захотел слушать, попытался рассказать на собрании – ничего не вышло. Дальше Демич и не пошел. Но в себя-то он верит и Качуру, очевидно, имеет основание не доверять. Чем больше горячился Прохор, тем сдержаннее и хладнокровнее становился Павел Иванович.
– Скажите, Прохор, а почему вы все это рассказали мне?
Прохор никак не ожидал такого вопроса. Он вначале даже растерялся: ну как, почему? А кому же тогда и рассказать, как не своему командиру? Но командиром Павел Иванович Майборода для Демича был когда-то, теперь они друг для друга никто. Никто? Разве бывает человек человеку никто? Есть родственники и земляки, есть начальники и подчиненные, есть сослуживцы, сотрудники, друзья, приятели, товарищи по работе, знакомые, есть просто люди, которые живут с тобой в одном городе, встречаются с тобой на улице, в трамвае, на пляже… Но разве стал был Прохор рассказывать обо всем, что его волнует, первому встречному? Но Павел Иванович не первый встречный. Он не просто знакомый. Он и не приятель, черт побери! Так кто же он ему, Прохору Демичу? Не родственник, не начальник, не сослуживец…
– Почему именно мне? – снова спросил Майборода.
– Видите, Павел Иванович, я три года служил под вашим руководством. За три года я тридцать, а может быть, триста тридцать раз обращался к вам по всякому поводу, и вы всегда были справедливы…
«Фу ты, какая елейная чушь! – думал в то же время про себя Демич. – Люди по десять лет учатся в школе, но никому из них не приходит в голову после получения аттестата зрелости бегать к бывшему классному руководителю за советами и помощью…»
– А когда вы обращались к командиру корабля Кострицкому или к его заместителю, разве они не были справедливы? – снова спросил Майборода.
– Конечно, были, – не понимая, куда клонит собеседник, согласился Демич.
– И еще один вопрос. Вот если бы я приехал на «Руслан», а вас здесь не было, и мне то же самое рассказал другой, совсем незнакомый мне водолаз, как вы думаете, я заинтересовался бы этим или пропустил бы мимо ушей?
Уж не думает ли Павел Иванович, что Прохор обратился к нему, чтобы использовать знакомство в мелкой и склочной возне?
– Думаю, что вы помогли бы.
– Хорошо. Спасибо за доброе мнение. А если бы на моем месте был Кострицкий, Пирумов или Неймарк?
– Тоже не прошли бы мимо.
– А не задумывались вы, Прохор Андреевич, почему именно к нам больше всего обращались матросы за советами и помощью?
– Вы – офицеры, начальники. Вам по долгу службы… – начал было Прохор, но Майборода перебил его:
– Сейчас мы для вас не начальники… Да кроме нас на корабле были и другие офицеры, к которым не обращались.
– Верно, были…
Прохор вспомнил Судакова, который всякую жалобу рассматривал, как проявление «нездорового настроения матроса», и всегда старался выискать статью устава, чтобы, ссылаясь на нее, ответить: «Вы не правы. Прекратите разговоры и не суйте нос не в свое дело», как будто бы все, что делалось на корабле, не было кровным делом каждого члена экипажа.
– Не кажется ли вам, что к нам обращались, и мы старались справедливо разобраться в каждой жалобе, в каждом сигнале потому, что мы коммунисты и всякое явление рассматриваем как эпизод борьбы за коммунизм? Эту фразу мы с вами часто повторяем и слово «борьба» произносим спокойно, а ведь борьба все-таки есть борьба! Тут и напряжение сил, страсти, волнения…
Так вот куда клонит водолазный специалист Майборода! Он не просто товарищ, не родственник, не просто хороший человек, а коммунист, представитель партии. Вот почему дверь в его каюту почти никогда не закрывалась: одних вызывал к себе Павел Иванович, другие приходили сами – по служебным и личным делам, с тревогами и радостями, с раздумьями и сомнениями. И уходили окрыленные поддержкой, умудренные советом, освещенные радостью или повергнутые в раздумье над своей жизнью, над прожитым и грядущим днем. Это так потому, что, как корабельный флаг для моряка – символ Отечества, которое он бережет, народа, которому он служит, так коммунист для них был олицетворением партии, которая учит, воспитывает, указывает путь к победе, олицетворением ее мудрости и правды… Да, но Прохор обратился к единственному коммунисту на «Руслане», к коммунисту Олефиренко, и тот…
Прохор хотел уже рассказать об этом Майбороде, но Павел Иванович приподнял ладонь над столом, призывая к вниманию, и продолжал:
– Да, это борьба! Вы – самбист, Прохор, и хорошо знаете, что среди схватки нельзя выходить из боя, надо схватку довести до конца. Вас считают трусом. Да, да, трусом, спасовавшим перед трудностями. Но вы-то знаете, что это не так, вы то честны перед собой, перед своей совестью? Вам не поверили, но вы-то убеждены в своей правоте. Вы Олефиренко считаете честным коммунистом, а он вам не поверил. И это вас обескуражило. А в настоящей борьбе бывает по-всякому. Но честность с собою, убежденность должны были дать вам силы вести борьбу до конца. Кроме Олефиренко, есть партийное бюро отряда, есть партком порта, партком пароходства. Почему вы не пошли к ним, не рассказали все так, как рассказали мне? Ведь я мог и не приехать на «Руслан»?
Майборода умолк, его сильные узловатые руки спокойно лежали на столе, большие серые глаза укоризненно и строго смотрели на бывшего подчиненного. И Прохор подумал о том, что в этих знакомых ему глазах добавилось грусти и усталости, а в светлых волосах – седины.
– То, что вы не сделали один, сделаем вдвоем, – тихо, будто рассуждая с самим собою, сказал Павел Иванович. – Пойдем в партком, посоветуемся. Конечно, после судоподъема. Завтра выходим в Чертов ковш на подъем лодок. Дело-то интересное! Я за это время познакомлюсь с экипажем, понаблюдаю за Качуром, составлю свое мнение. Грешник, страшно люблю свое суждение иметь.
И вдруг как-то молодо посмотрел на Прохора, хитро подмигнул ему:
– А почему бы команде «Руслана» действительно не завоевать звание экипажа коммунистического труда? А?








