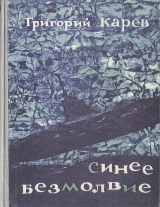
Текст книги "Синее безмолвие"
Автор книги: Григорий Карев
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
СЧАСТЬЯ ТЕБЕ, МОРЯЧОК!
В субботу, как только «Руслан» ошвартовался у стенки, Прохор побрился, надел новые матросские брюки с остро наточенными утюгом складками, белую форменную рубашку с синим воротником и сошел на берег. Все это он проделал быстро, но неторопливо, как привык делать на военной службе, и, кажется, совершенно не задумываясь, куда он сейчас отправится. Только когда взобрался по крутой тропинке на самый обрыв высокого глинистого берега, понял, что идет к Людмиле. Именно к Людмиле, к Люде, а не к Леньке. И вообще, с того часа, когда Прохор сказал Качуру, что ходит на Загородную не к Людмиле, а к Леньке, он почему-то все время думает о ней, Людмиле.
Все чаще и чаще он думал о том, что надо бы поговорить с ней по душам, попытаться развеять огорчения, сказать что-то теплое, хорошее, может быть, веселое, чтобы вызвать на ее милых губах улыбку, заставить вспыхнуть искорками радости голубые глаза. «Нельзя! Чужая невеста…» И Прохор, взяв в руку тяжелый чемодан с аквалангами, уходил с Ленькой к морю.
«…Она очень юная, совсем еще девчоночка, и плечики у нее хрупкие. А на них столько забот и дел, хлопот и тревог ложится… Просто свинство такому здоровому верзиле, который когда-то пароконный воз одной рукой останавливал, быть рядом и не помочь, не взять часть ноши на свои плечи. Дружба в конце концов… Нельзя! Чужая невеста!»
Как мешало ему это дурацкое «нельзя!» Мешало сделать что-то хорошее, простое и важное, что-то глубоко человеческое, как движение сердца, как возглас водолаза «Иду на помощь!», когда он спешит к попавшему в беду товарищу… Вот так может и пройти мимо судьба человека, который тебе совсем не безразличен, который тебе дорог, которого ты… Ведь, черт побери, если бы Прохор знал, что на шестидесятиметровой глубине в заклиненном отсеке задыхается главный старшина Баташов со своими товарищами, разве не пошел бы он к ним на помощь, даже рискуя своей жизнью, как это сделал его отец, спасая раненого сержанта Астахова? Разве не пошел бы он вчера на помощь Осадчему, как ходил не раз на опасную глубину на помощь совсем незнакомым людям?
Где бы ни был Прохор, чем бы ни занимался – на дне морском или в отсеке «Катюши», обследовал затонувший корабль или прорезал автогеном дверь в переборке, – все ловил себя на том, что думает о Людмиле, все чаще возникали перед глазами небрежно упавшие на белую полупрозрачную блузку русые косы и грустные синие глаза под широкими, слегка нахмуренными бровями. Даже когда прочитал письмо сержанта Астахова, сразу же подумал: «Вот какой был у меня отец, Люда!» И ему захотелось как можно скорее рассказать Людмиле об отце, поделиться с ней своей радостью.
На углу Морской и Загородной Прохор купил букет красных георгин и синих астр. Никогда еще ему не приходилось покупать цветы, а сегодня купил. Первый раз в жизни.
– Кому дарить будешь, морячок? – приветливо спросила пожилая цветочница.
– Невесте, – неожиданно для себя выпалил Прохор и почувствовал, как кровь прилила к его щекам.
– Вон как! – заулыбалась цветочница. – И давно в женихах ходишь?
Прохор еще больше покраснел.
– Да ты не смущайся, милок. Счастья стесняться не следует, ему радоваться надо.
– До счастья еще далеко, тетенька!
Цветочница понимающе и сочувственно покачала головой, прищурила черные, должно быть, очень красивые в молодости глаза.
– Ничего, от таких статных да пригожих, как ты, счастье далеко не уходит. Дай-ка сюда твои цветы, – она взяла из рук Прохора георгины и астры, положила их на прежнее место и протянула ему стебли белых и розовых гладиолусов. – Возьми эти. Красные георгины подаришь ей перед самой свадьбой.
Прохор бережно взял цветы.
– Счастья тебе, морячок!
– Спасибо!
Он шел по улице и думал о людях, желавших ему счастья: о деде Косте, Викторе Олефиренко, Павле Ивановиче, отце, Граче, незнакомых ему сержанте Астахове, Лаврентии Баташове, Богдане Андрийце и этой цветочнице. Все они разные. И все хотели ему, Прохору, счастья. А кто он им? Чем заслужил перед ними? Ну, отец, Виктор, Павел Иванович – это понятно. А Баташов? Андриец? Эта женщина, продающая цветы? Что заставило ее толкнуть Прохора к Люде? А ведь она толкнула, подсказала ему решение, над которым он думал все эти дни… Он вспомнил ее добрые, чуточку смятые старостью глаза. Может быть, эта простая цветочница понимает то, чего еще не понял Прохор: счастье приходит тогда, когда ты даришь его другим? До сих пор Прохор был уверен, что живет правильно, потому что не считал за собой ни жульничества, ни лукавства, ни подсиживания, ни лести, ни какой-нибудь другой подлости. И считал, что может быть счастливым. Но, оказывается, этого достаточно, пожалуй, для малой радости, а для большой, для счастья, нужны не только чистота и трудолюбие, нужна душевная щедрость, как у этой цветочницы, нужно бороться за счастье других, как это делали Баташов и отец, надо делать счастливыми других… Конечно, до этого ему, Прохору, еще очень далеко, ему надо еще научиться, как говорит Павел Иванович, доводить дело до конца. Он владеет приемами самбо, но самбо – это самооборона, а надо научиться принимать удары на себя ради других. Конечно, к этому нелегкий и длинный путь. Но разве самая длинная дорога не начинается с первого шага? И он сделает этот первый шаг, он его сделает!
ОНИ ВИДЕЛИ ДНЕВНЫЕ ЗВЕЗДЫ
Хоть день уже клонился к вечеру, жара еще не спала. На асфальтовую панель жирным слоем осела мельчайшая, перетертая подошвами пешеходов пыль. Прохор почувствовал облегчение, спускаясь в прохладный полуподвальный коридор домика на Загородной.
Дверь в комнату была приоткрыта, и оттуда доносилась негромкая грустная песня.
Людмила не слышала, когда Прохор вошел и остановился у двери. Она стирала с мебели пыль, неслышно двигаясь по комнате.
Я слезы тяжелые
С ресниц не сотру.
Березоньки голые
Продрогли на ветру…
Она пела тихо, мягким, каким-то встревоженным голосом, то обрывая немудрящий мотивчик, то повторяя отдельные слова, будто заучивая их на память. А Прохору казалось, что он и вправду видит, как последние листочки срывает с березки холодный сырой ветер, как дрожит и гнется тонкая белокорая березка, роняя тяжелые слезы на желтую мокрую траву.
Достанется ветру
Багряная краса… —
пожаловалась Люда. Помолчала и грустно, как вздох:
Любви моей пеплом
Покроется коса…
Причем здесь березки!.. Это Людмила рассказывает о себе, о своей судьбе, о том, как тяжело, как холодно, одиноко и сиро ей будет с нелюбимым. Так вот почему Прохор никогда не слышал этой песни – ее Людмила сама выдумала, сама сравнила себя с беззащитной березкой!
Прохор видел, как взяла она чистую тряпку, подошла к стенным часам – единственная память об отце – и, приподнявшись на цыпочках, начала протирать деревянный футляр.
И снова песня. Только не грусть и не слезы, а укор и обида звучат в ней.
И нет тебе дела
До моих горьких слез,
Как ветру осеннему
До голых берез…
– Люда, – еле сдерживая волнение, тихонько позвал Прохор.
Она вздрогнула и замерла на цыпочках с высоко подмятыми к футляру часов руками.
– Люда! – громче позвал Прохор.
Часы зашипели и ударили гулким боем. Раз, другой, третий… Руки Людмилы задрожали, и, пока в комнате таяли гулкие мелодичные звуки, они медленно опускались…
Она повернулась к Прохору и, не поднимая на него глаз, еле слышно прошептала:
– Это… вы, Прохор?
Ему хотелось подбежать к ней, обнять, прижать к себе… И еще хотелось сделать что-то такое необычное, что-то такое, что сразу повернуло бы все по-иному… Но он только крепче сжал в руках стебли гладиолусов.
– Да, это я, Люда.
Людмила успела прийти в себя. Увидев цветы, она обрадовалась.
– Ой, какие чудесные! Что же вы их так безжалостно мнете?
– Это вам, Люда.
– Правда? – В глазах сверкнули искорки, еле заметной тенью на губах промелькнула улыбка. – Спасибо. – Я очень люблю гладиолусы.
Леньки не было дома. Людмила рассказывала о его учебе, о том, как он изменился за время знакомства с Прохором, и все тревожно поглядывала на дверь. Наконец, не выдержала:
– Знаете что, Прохор, сейчас должен прийти Арсен, а я не хочу его видеть. Давайте уйдем из дому.
– В кино?
– Нет, не хочу.
– В театр?
– Нет. Давайте пойдем к морю. Оно вам не надоело?
– О, нет! Море не может надоесть…
…Берег еще горел под вечерними лучами солнца, на волне играли розоватые блики. Они прошли мимо гудящего пляжа, прокаленных солнцем теневых зонтиков, нагих шоколадных тел, играющих в волейбол девушек на остывшем песке и мокрых топчанов, на которых, стуча костяшками домино, сидели во влажных плавках парни, и выбрали укромное местечко за скалами, на большом плоском камне. Можно было сесть спиной к городу, спустить ноги почти к самой воде и чувствовать себя только вдвоем среди безбрежного моря, только вдвоем во всем мире, любоваться вечерними красками, дышать солоноватым воздухом, настоянным на водорослях, йоде и солнце, слушать плеск волны и шорох прибрежной гальки и думать о чем-то хорошем и радостном.
Во время захода солнца, когда небо и вода на западе горели тяжелым пурпуром, каким горят только совсем спелые вишни, появились чайки. Казалось, что они ниоткуда не прилетели. Явились – вот и все. Неожиданно зароились вокруг, шумные, крикливые, голодные, нервные. И так же неожиданно исчезли, будто растаяли в синеве.
– Люда!
– Да.
– Ты любишь море?

Людмила молчит. Она думает о только что рассказанной Прохором истории его отца, о Баташове и Андрийце и о том, что Прохор очень хороший, должно быть, человек, потому что ей, Людмиле, свободно и просто с ним, рядом с ним ей легко дышится. Она думает и молчит. Прохор решил, что она засмотрелась на высокие звезды и что она улыбается, хотя он еще ни разу не видел, как улыбается Люда.
– О чем ты думаешь? – спрашивает Прохор.
– Я думаю о том, что сегодня, сейчас, вот сию минуту, мне впервые после смерти отца захотелось играть на пианино.
Людмила пристально смотрит в море, чуть прищурив глаза, брови слегка сдвинулись к переносице и в наступающих сумерках становятся похожими на расправленные крылья чайки. Длинные белые пальцы вздрагивают на коленях. Что она слышит: шум прибоя или полонез Огинского, шелест гальки или сонату Баха? Или прислушивается к биению собственного сердца? Отчего горят ее щеки: от легкого бриза или от прилива горячей крови?
– Проша!..
Она всегда называла его Прохором и всегда говорила «вы». Почему море так сближает людей? Не потому ли, что оно так часто их разлучает? Без близости нет разлуки, а разлука заставляет думать людей друг о друге и этим сближает их. «Проша»? Может, он ослышался? Может, ему только хотелось, чтобы она его так назвала?
– Проша!..
– Да?
– Звезды красивые?
– Очень.
– Говорят, счастливые их могут увидеть даже днем.
– Да. Есть даже книжка такая – «Дневные звезды».
– Интересно, какие они, если глядеть на них из глубины моря?
Конечно, интересно. Но Прохору никогда и в голову не приходило посмотреть в ночной зенит из глубины, хотя для этого надо было всего лишь лечь на спину, направить иллюминатор шлема вверх. К чему ему были звезды, да еще дневные, до сих пор? Он жил своими личными, очень земными и очень маленькими, оказывается, интересами… Так не жил, конечно, его отец, иначе бы он не вернулся за сержантом Астаховым. Так не жили ни командир «Катюши» Лодяков, ни Баташов, ни тот веселый воронежский парень, который умер в затонувшей лодке, не приходя в сознание. Так не живут ни Олефиренко, ни Павел Иванович, ни Грач. Их интересовали и дневные звезды, и окружающие их люди, и завтрашний день, и то, что будет через десять и через сто лет. Они жили и живут и для этих звезд, и для будущего людей. Иначе они не были бы такими мужественными, как моряки «Катюши», и такими жадными до дела, как Майборода и Грач. И еще – они, конечно, любили. Иначе откуда бы им стать такими, какими их знает Прохор?.. Странно, что он никогда не задавал себе подобных вопросов раньше. Очевидно, только здесь, в Южноморске, заканчивается пора его юности и начинается пора зрелости. Вот поднимут они лодки, экипаж завоюет звание коллектива коммунистического труда – конечно же завоюет, потому что ошибки и недостатки будут исправлены, а Качура рано или поздно выведут на чистую воду, – и он, Прохор Демич, станет таким, как и все другие: человеком, который уже что-то сделал и точно знает, к чему ему стремиться в будущем.
– Люда!
– Что, Проша? – Она с трудом оторвалась от своих раздумий.
– Вот мы разделаемся с лодками и… наверное… потом…
– Что, потом, Проша?
– Потом я уеду к своим ребятам в Братск.
Людмила вздрогнула и зябко поежилась. Ей, наверное, становилось холодно в легонькой блузке с короткими рукавами. С суши хотя и тянул теплый бриз, но над морем поднималась дымка. Прохор пожалел, что у него нет костюма, теперь бы он снял пиджак и накинул бы его на плечи девушке.
– Понимаешь, там очень нужны водолазы, и там мои товарищи, пока я не вернусь к ним, они будут считать меня дезертиром…
Она еще больше съежилась и, сложив руки, начала тихонько растирать ладонями озябшие плечи.
– Ты поедешь со мной, Люда?
– Куда?
– В Сибирь…
Людмила перестала растирать плечи, но ладоней не отняла от них и повернулась к нему со сложенными на груди руками.
Так быстро потемнело! Прохору не видно Людмилиных глаз, трудно даже разглядеть ее лицо. Что ответит она ему? Благодатный Юг и студеная Сибирь, Черное море и Байкал, солнечный Южноморск, в котором она выросла, и неустроенный, совсем незнакомый Братск, подружки по школе, по бригаде и совсем чужие люди… Откуда и куда ты зовешь, Прохор, эту хрупкую, молчаливую, совсем не похожую на энтузиасток, совсем не привыкшую к романтике первооткрытий девушку? Да, ей трудно здесь. Но в родном городе, как в родном доме, – углы и те помогают. И кем ты ее зовешь? Знакомой девушкой, с которой можно расстаться на последней железнодорожной станции, или любимой, верность которой будешь хранить, куда бы ни забросила тебя судьба и что бы с тобой ни случилось? Женой – товарищем и другом в трудном жизненном пути или женой – хранительницей твоего домашнего уюта? Кем? Ты ведь ничего не сказал ей, Прохор, ничего не спросил. Какого же ты ждешь ответа?..
Почему молчишь, Люда? Он зовет тебя в Сибирь, и ты никак не поймешь, что пришло к тебе с этим зовом: золотой луч солнца с безоблачного неба или тень тучи, появившейся на этом небе? Но разве ты хочешь, разве ты ждала безоблачной жизни, похожей на голубой свод планетария, на котором по чьей-то воле, пусть умной и доброй, но чьей-то воле, вспыхивают и гаснут искусственные светильники, а не жизни широкой и вольной, как настоящее небо, в котором рождаются и гибнут светила. Да, настоящее небо не всегда бывает голубым, на нем появляются облака, даже грозовые тучи. Но разве облака и тучи только символ печали? Дождь и роса, ручей и река разве могли бы существовать, не будь облаков и туч? Разве не благодаря облакам влага не только бушует в морях и океанах, но и утоляет жажду пустынь, по стволам поднимается в кроны деревьев, по соломке – к зерну, по стебельку – к цветку, стучится дождиком в окно, ложится теплым снежным покровом на промерзшую землю? За грозой приходит благодать, за невзгодами и переживаниями – счастье. Почему же ты молчишь, Людмила? Ты ведь любишь его, ты ведь знаешь, что он тебя любит! Ты мало знаешь Прохора? Но ты знаешь о нем самое главное: он хороший. Хороший потому, что тебе легко рядом с ним.
Как медленно-медленно течет время, кажется, прошла целая вечность, а не пролетело несколько минут. Кажется, можно было бы пересказать день за днем всю свою недолгую жизнь, а она никак не произнесет короткие «да» или «нет»…
– А как же с Ленюшкой? – еле слышно спросила Людмила.
…Когда возвращались на Загородную, было уже поздно. Мелкие росинки садились на листья акаций и платанов, на волосы, лицо и обнаженные руки Людмилы. Но ей совсем не было холодно: сильная рука бережно и твердо поддерживала Людмилу за локоть, и от руки по всему телу разливалось кружащее голову тепло. Они не торопясь шли по залитой лунным светом улице – хорошо шагать, когда легко дышится и на сердце спокойно и радостно.
Только у самого дома Людмила вдруг отпрянула за одиноко стоявший газетный киоск, увлекла за собой Прохора и испуганно прижалась к нему.
– Что с тобой? – спросил он, нежно обнимая ее за плечи.
– Молчи! – тревожно прошептала Людмила, сердце ее сильно стучало.
Из ворот вышел высокий мужчина в темном макинтоше, осторожно оглянулся по сторонам и торопливо зашагал в город.
– Это Арсен, – сказала Людмила, когда человек удалился достаточно далеко.
– Он был у тебя?
Людмила отрицательно покачала головой и показала на темное окно своей комнаты. Окна в доме были темными, только в одном, на втором этаже, горел свет. Но и он тотчас потух.
– Это у Масюты, – поежилась от нервного озноба Людмила. – Он там бывает.
– Тебя это трогает?
– Ничуть. Но я боюсь почему-то этого нелюдимого Масюту.
– Тебе нечего бояться, – сказал Прохор. – Иди и спи спокойно. Скажи Леньке, что я приду рано утром, пусть готовится.
– Возьмите завтра и меня с собой, – попросила Людмила. – Мне одной будет скучно дома.
– Ого! – рассмеялся Прохор. – Как бы не пришлось мне покупать третий акваланг. Хорошо, Люда. Завтра будешь дежурить на нашей шлюпке. Это даже удобнее, а то оставляем ее на якоре и все время боимся, как бы кто из озорства не угнал.
Он подождал, пока Людмила зашла в комнату и зажгла свет.
Широко, по-матросски шагал Прохор Демич навстречу загорающейся утренней заре, впереди все было ясно, как звездное небо, и спокойно, как у него на душе. Завтра он напишет письма матери и ребятам на Ангару. Послезавтра расскажет о своем счастье Павлу Ивановичу и Грачу. Жаль, что Грач ничего не знает о Людмиле… Ничего, они еще попьют с ним крепкого флотского чайку, и Иван Трофимович напишет еще свою корреспонденцию о людях подводной лодки. (Прохор снова заметил, что об отце, о «Катюше» и о Людмиле он думает одновременно, как будто они были чем-то связаны между собой).
А затем все будет, как у людей. Леньке придется на годик остаться в Южноморске, в школе-интернате, пока они устроятся в Братске, получат комнату. Люда приобретет новую специальность. Можно будет одновременно работать и учиться. В первый же отпуск они съездят к его матери. А потом заберут ее к себе. У них будет все, как у людей: работа, учеба, семья и счастье.
Прохор широко шагал навстречу заре. Бледно-голубая кромка неба на востоке росла, становилась все шире, наливалась лимонной желтизной. Звезды поднимались все выше. Интересно, какие же они, если взглянуть на них из морской глубины?
Тяжелые капли росы падали с высоких каштанов.
ПОДВОДНЫЙ ДИВЕРСАНТ
Люда сама попросилась на весла. Прохор и не представлял себе, что она может так звонко смеяться из-за каждого пустяка, что она так хорошо работает веслами и что у нее, оказывается, не такие уж хрупкие плечи, как показались под тоненькой блузкой, а тело красивое и сильное, особенно, когда Люда откидывается в гребке, упираясь ногами в рыбины шлюпки: тяжелая коса, свернутая тугой короной, оттягивает голову, и Прохору видны только белая гибкая шея и нежный подбородок. Но гребок закончен, Люда наклоняется вперед, ее широко открытые, сияющие глаза и улыбающиеся губы приближаются к самому лицу Прохора. Люда смеется и снова откидывается в гребке. И вообще она за ночь сильно изменилась: повзрослела, вытянулась, глаза стали смелее и ярче, а жесты решительнее.
Море застыло огромным зеленоватым зеркалом, в котором отражается безоблачный купол голубого неба, а ослепительное солнце растекается зыбкой золотистой полосой. Лодка быстро и ровно скользит по этому зеркалу, оставляя за собой легкие разводья. Крупные прозрачные капли падают с весел, и Прохору кажется, что он слышит, как они звенят, разбиваясь о прозрачную воду.
Они были счастливы.
Только Ленька сегодня не в духе. Обычно, когда выходили в море, он расцветал всеми веснушками, большие серые глаза светились радостью из-под выгоревших белесых бровей. Теперь Прохор с удивлением поглядывал на своего юного друга. Коричневое от загара тело мальчика было, как и в прошлые разы, напряжено в ожидании команды бросить якорь, который он держал обеими руками, словно какое-то сокровище, которое, не дай бог, уронишь – разобьется на мелкие осколки. Но белесые брови хмурились, а глаза то недовольно косились в сторону Людмилы, то разгорались решимостью что-то сказать такое важное, что у Люды и Прохора, пожалуй, сразу изменилось бы настроение. Но Ленька молчал, хмурился, поглядывая исподлобья то на Прохора, то на Людмилу.
– Капитан, капитан, улыбнитесь! – шутливо начал было Прохор песенку, подмигнув Леньке, но тот еще больше насупился и отвернулся.
– Какая акула укусила сегодня Сына Моря? – наконец спросил Прохор у Людмилы.
– Сегодня Сыну Моря влетело, как простому смертному, – перестав смеяться и вытягиваясь в гребке, сообщила Людмила.
– Вот как?!
– Да, много она понимает. Только ругаться горазда… – начал было Ленька свою жалобу, но тотчас осекся, будто прикусил язык.
– Как же не ругаться, – подняла лопасти весел над водой Людмила. – Позавчера постирала ему рубашку, погладила, а сегодня ее уже одеть нельзя было – в пыли, в саже, в птичьем помете, в руки взять и то гадко.
– Где же ты так, Ленька?
– На чердаке голубей гонял, – ответила за брата Людмила. – Вот горе мое веснушчатое, – уже без огорчения, а с нежностью к брату добавила она.
– Сын Моря и голубятник. Ничего общего, – нарочито удивился Прохор. – Лучшие люди гибнут на наших глазах!
– Да, голуби, голуби! – передразнил сестру Ленька. – Я там видел… Эх, если бы вы знали то, что я знаю, вы бы…
– Что, Ленька?
– Секрет. Пока секрет.
– Нашел вахтенный журнал «Черного принца»? Или подробную карту Атлантиды?
– Смеешься? Да? Ну, так вот, не скажу и все!
Людмила рассмеялась и снова взялась за весла. Гребла она легко, наслаждаясь запахом воды, движением своего тела, своим дыханием, ослепительным сверканием солнечных бликов.
– Табань! – скомандовал Прохор, когда шлюпка подошла почти к самой гряде, отделяющей Чертов ковш от моря.
Людмила смеется и, как заправский гребец, упирается веслами в тугую толщу воды, руки ее дрожат от напряжения, а вокруг лопастей весело закипают пенистые бурунчики.
– Отдать якорь!
Ленька взмахивает руками, и тотчас за бортом поднимается высокий сноп брызг, по воде расходятся гибкие круги, в которых ломаются золотые маленькие солнца.
Сегодня Леньке не надо помогать Прохору одевать акваланг – это сделает Люда. Как только ремни были застегнуты, Ленька одел маску, проверил рукой расположение гофрированных шлангов и, кивнув Людмиле, спустился за борт. Кувыркнулся в воде, как молодой дельфин, и пошел на глубину. Только по вскипающим пузырькам воздуха можно было еще заметить направление его движения.
Леньке нравилось плавать у самого дна, наблюдая игру солнечных зайчиков на камнях, песке и водорослях, выслеживая небольшие стайки кефали, осторожно шмыгающих между камнями бычков и притаившихся в песке глосей. Но больше всего ему хотелось заглянуть в глубины Чертова ковша: там должны быть целые леса высоких и красивых водорослей, а может быть, удастся рассмотреть в глубине и затонувшую лодку – ведь сегодня такая прозрачная вода! Конечно, Прохор ни за что не разрешил бы ему идти дальше каменного барьера. Но сегодня Прохор, наверное, задержится немного на шлюпке. Если плыть точно по компасу на юго-восток и хорошенько поработать ластами, можно минут за десять достичь Чертова ковша, потом нырнуть поглубже, метров на сорок, посмотреть немножко, очень немножко, и сразу же обратно. Пока Прохор поговорит с Людой, пока спустится и немножко поищет его у скалистой гряды, Ленька наверняка уже вернется на условленное место встречи.
…Прохор ругал себя за то, что отпустил Леньку одного. Конечно, это должно было когда-нибудь случиться – не надо было обучать мальчишку, пусть бы шел себе в клуб аквалангистов и занимался там в общей группе. Учеба заняла бы значительно больше времени, и в этом году Леньке вряд ли удалось бы плавать под водой, да и выучка, возможно, не была бы такой хорошей, но зато Прохор был бы спокоен. Собственно, почему спокоен? Просто переложил бы ответственность за подготовку Леньки и за все, что могло с ним случиться, на других. Опять на других? Черт побери, он неудачник, ему последнее время не везет в жизни! Но, может быть, поэтому и не везет, что он старался обойти трудные места, уступал себе в мелочах: отказался от поездки на Ангару, потому что захотелось разыскать следы отца; не стал доказывать Олефиренко его неправоту, потому что это сделать было нелегко; примирился с Качуром, хотя мог вывести его на чистую воду, решил – пусть это сделают другие; даже с Людой у него получилось как-то само собой…
Но где же Ленька? Прохор, изгибаясь всем телом, с силой оттолкнулся ластами от упругой толщи воды, устремился к каменному барьеру Чертова ковша. Вот уже на желтом, будто покрытом зыбью песке появились редкие кустики водорослей, потом темные пятна зарослей, большие, обросшие тиной камни. Наконец желтый рифленый песок стал попадаться только полянами, лужайками, отдельными пятнами, впереди можно было разглядеть высокие подводные скалы, обросшие водорослями. Солнечные лучи, как косые пряди дождя, пробивались к ним сквозь толщу воды и, освещая вершины и выступы, отбрасывали черные зыбкие тени на каменистое дно.
Леньки не было у барьера. Какая досада, что под водой нет возможности окликнуть, позвать, подать голос, как на суше. Безмолвие! Красивое безмолвие окружает человека, и движешься в нем, как на экране немого фильма. Может быть, мальчик где-то совсем рядом, за выступом скалы, увлекся наблюдением за какой-нибудь причудливой тварью или в расщелине между скалами любуется шевелящимися водорослями. Можно проплыть мимо и не заметить.
Прохор внимательно осмотрел подножие огромной, вздымающейся к самой поверхности моря скалы, у которой они условились встретиться. Леньки не было. Неужели он поплыл за барьер, в Чертов ковш? Прохор чувствовал, что у него начало сильнее, чем обычно, стучать сердце. Волнуешься, водолаз? А разве ты не знал, что нельзя кустарным способом готовить пловцов, что спуски разрешены лишь группами не менее трех человек? От кого ты можешь ждать сейчас помощи? А может быть, Ленька, веснушчатый, белобрысый, скуластый Ленька, который доверился тебе, твоему опыту, уже нуждается в помощи, а ты даже не знаешь, где он. Тебе становится холодно и душно, Прохор? Ты бы сорвал с себя маску и крикнул бы во все легкие? Но этого нельзя сделать, нельзя нарушить безмолвие подводного мира!
Прижав руки вдоль тела, Прохор несколькими толчками ласт вырвался за барьер и, увидев под собой синюю глубину Чертова ковша, нырнул в нее, хотя и знал, что акваланг рассчитан всего на сорокаметровое погружение, а здесь не меньше, чем полсотни метров до дна.
Несмотря на тихую и солнечную погоду, на глубине сорока метров все сплошь казалось синим и зеленым. Прохору удалось просмотреть сквозь толщу придонной темной воды только небольшой участок дна, покрытый такими густыми и высокими водорослями, что в них трудно было бы заметить человека. На глубине Прохор задержался всего минуту и начал всплывать.
Его уже охватывало отчаяние, когда он заметил над собой плавно и быстро скользящего Леньку. «Ну, получишь же ты у меня на орехи!» – подумал Прохор, но тут же увидел второго, почти в два раза большего, чем Ленька, пловца. Аквалангист плыл легко и быстро, извивая гибкое тело и еле заметно вздрагивая ластами, а в вытянутых руках держал подводное ружье. Он оглядывался по сторонам и держал ружье наготове, будто выслеживал кого-то. «Леньку!» – догадался Прохор. «Мне хорошо видно их обеих потому, что я нахожусь глубже их метров на пятнадцать и они как бы проектируются на светлой поверхности моря. Но друг друга они не видят из-за слепящих лучей солнца, пронизывающих верхние слои воды. Ну, а меня, скрытого темно-синей глубиной, тем более не видят», – подумал Прохор, устремляясь вслед за неизвестным пловцом. Только теперь он смог по достоинству оценить его выучку. Работая ластами изо всех сил, Прохор еле успевал за ним.
Вот-вот должны были появиться скалы барьера. Опасаясь напороться на их острые выступы, Прохор вынужден был подниматься все ближе к поверхности моря. Вскоре он оказался почти на одном уровне с неизвестным пловцом, но значительно сзади него. Леньку он потерял было из виду, но затем снова увидел его: мальчик плыл быстрыми, неровными толчками, изо всех сил работая ластами и руками. Расстояние между Ленькой и его преследователем медленно сокращалось. Их разделяло пятнадцать… двенадцать… десять… восемь метров.
Наконец Ленька достиг одной из скал барьера. Преследователь перестал шевелить ластами, еще больше вытянулся и вздрогнул – это беззвучно выстрелило его ружье, и острый гарпун метнулся туда, где только что плыл Ленька.
Все это произошло так быстро, что Прохор вначале даже не понял, что же случилось. Но в следующую секунду он выхватил из чехла привязанный к ремешку трусов водолазный нож и бросился к подводному бандиту. Тот, наконец, заметил Прохора и, оборвав капроновую нить, на конце которой был привязан выпущенный гарпун, сделал несколько толчков ластами и пошел на глубину Чертова ковша. Прохор хотел было последовать за ним, но услышал легкий свист и насторожился. Он глубоко вдохнул воздух, свист повторился. Это легочный автомат акваланга сигнализировал, что давление воздуха в баллонах достигает всего тридцати-тридцати пяти атмосфер и пловцу необходимо выходить на поверхность.








