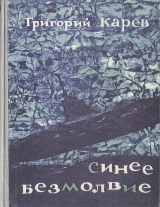
Текст книги "Синее безмолвие"
Автор книги: Григорий Карев
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
МОЖЕТ, ТЫ И ПРАВ, МИРОН
– Где Осадчий? – спросил утром Прохор у Бандурки.
– У капитана.
– Вызвал?
– Угу…
Бандурка явно не хотел разговаривать с Прохором, торопливо повязывал галстук перед зеркалом, нервничал.
– Куда так торопишься, Олег?
– Сегодня выходной, могу я обойтись без вашего контроля за своими действиями? – вместо ответа раздраженно спросил Бандурка.
– Можете, конечно, – тоже перешел на «вы» Прохор. – Только, Олег Емельянович, сообщают из заочной школы, что дела там у вас плохи, особенно по химии. И мне кажется, что лучше бы вам почитать сегодня о строении атомов элементов малых периодов или какая там тема у вас в школе?
– Обойдусь без строения атомов…
– Из школы предупредили: возможно исключение по неуспеваемости.
– Да какая тебе забота? – все более раздражался Бандурка. – Ну, исключат. Подумаешь, будет один водолаз на «Руслане» с незаконченным средним образованием. Всего один!
– Один-то один, но и жизнь у тебя тоже всего одна. Как прожить ее думаешь?
– Проживу. У меня отец и мать полуграмотные и живут… Он – сапожник, она – уборщица. Живут и даже, представь себе, не догадываются о существовании элементов малых периодов.
– Моя мать тоже среднего образования не имеет, – будто рассуждая с самим собою, подхватил Прохор. – Но пишет мне, что жалеет об этом. В вечернюю школу в пятьдесят лет решила поступить. А она-то всего доярка. Очевидно, придет время и водолаз Бандурка тоже пожалеет о том, что в свое время за ум не взялся.
– Да шо ты пристал ко мне? Ну, не идет мне химия, понимаешь, не идет. Думаешь, я не мучился над учебниками? Мучился! А понять ничего не могу – не голова, а медный шлем, только и того, шо вместо иллюминаторов – гляделки.
Бандурка говорил с такой злостью, как будто это Прохор был виноват в его неспособности одолеть химию. Черные глаза поблескивали под густыми, сросшимися бровями, а верхняя губа, покрытая мелкими бисеринками пота, нервно подергивалась. Прохору стало жаль парня. Он подошел к Бандурке, взял его за плечо:
– Подожди, Олег, не горячись, расскажи толком.
Но тот резко вырвал плечо.
– Отстань, говорю.
В другой раз Прохор, может, просто обиделся бы на Бандурку и махнул бы рукой: пусть его! Но именно та боль, с которой Бандурка говорил о своей неспособности к учению, та искренняя злость на самого себя подкупали Прохора: значит, переживает парень, только виду не хочет подавать, стыдится своей слабости. Эх, если бы Прохор умел поговорить с Олегом так же душевно и просто, как тогда Грач с Ленькой, чтобы он сам собой раскрылся, рассказал о своей боли, поверил в свои силы, заставил себя снова взяться за учебу.
– Мне тоже было когда-то трудно, – снова спокойно начал Прохор. – Я поделился своей бедой с товарищем, и тот помог мне.
– Чы не ты мне помогать собираешься?
– Почему бы и не я?
– А сам ты в химии кумекаешь?
– Немного. Во всяком случае вместе по учебнику разберемся что к чему.
Бандурка молча отошел к зеркалу и, повернувшись спиной к Демичу, снова занялся галстуком, который никак не завязывался.
– Ну, Олег, по рукам? Будем вместе атомы одолевать?
Бандурка с такой силой рванул на себе галстук, что у него в руках остались два оборванных конца. Он выругался: и швырнул их на палубу. Затем резко повернулся к Демичу. Лицо Бандурки было искажено злобой:
– Иди ты к чертовой матери! Сволочь!
– Олег!
– Олег! Олег! Счастье твое – не здолаю тебя, а то показал бы я тебе такого Олега, что ты за девятыми воротами гавкнул бы.
– За что, Олег?
– За что? Спрашиваешь? Не знаешь?
– Честное комсомольское…
– Ха! И тебе не стыдно еще комсомольцем называться!.. Хотя у таких, как ты, з сорому очи не вылазять.
Он подошел к Демичу и спросил в упор:
– Кто вчера вечером капитану говорил, что из-за меня и Осадчего экипажу звание коммунистического не присвоят? Кто?.. Молчишь? Осадчий – пьяница, Бандурка – неуч, экипаж позорят?.. А ты знаешь, почему запил Осадчий? Потому, что если бы капитан не устроил тебя по блату на корабль, Мирон был бы назначен старшим спусковой станции.
– Это – неправда!
– Нет, это – правда. Качур видел проект приказа о назначении Осадчего старшим.
– Он врет!
– Это ты брешешь. На комсомольском собрании на Качура набрехал, а вчера на Осадчего донес.
В это время в кубрик вошел Осадчий.
– Чего ты раздымился на все Черное море? – грубовато и, как показалось Прохору, устало сказал Мирон Бандурке. – Он не доносил. Капитан сам видел. И, опять же, мы с тобой таки виноваты: я – пью, а ты – лодырь… Я дал капитану слово, что пить не буду.
– Ты и мне давал, – обиженно буркнул Бандурка.
– Я дал капитану слово, что пить не буду, – повторил Осадчий, повысив голос. – Значит, не буду! И еще я дал капитану слово, что на следующей неделе ты вышлешь все контрольные работы в заочную школу. А ну, снимай, пижон, костюм и доставай учебники. Я с тобой церемониться не буду.
Мирон как будто сейчас только заметил Прохора, смерил его с головы до ног хмурым взглядом:
– Говорят, в чужих руках ломоть шире?
– Не понимаю, к чему эта поговорка сказана?
– А к тому, что не подметай чужой хаты, коли своя не заметена.
– Может, более просто выразишься?
– Можно и проще. Я не хочу, чтобы ты поучал и воспитывал меня или Бандурку. Пить нам или не пить, учиться или не учиться – сами рассудим, не маленькие. Но ты в это дело не встревай, только дело испортишь.
– Допустим. Но причем же здесь поговорки?
– Обещание после службы ехать в Сибирь давал? Давал. В газете об этом писали? Писали. В Братске водолазы нужны? Позарез! Ты с поезда сбежал? Сбежал. Так как же ты, дезертир, будешь меня учить коммунистической морали?.. Счастье твое, что не я секретарь комсомольской организации, я бы тебя живо на собрание вытащил и из комсомола вытурил бы в три шеи.
Кровь ударила Прохору в лицо. Он побагровел, в больших черных глазах сверкнули слезы, полные губы вздрогнули и побелели, на могучей шее вздулись мускулы. Но Прохор и на этот раз сдержал себя, пересилил вспышку гнева. Он сжал огромные кулаки так, что хрустнули пальцы, и сказал тихо, чувствуя, как дрожат губы:
– Может, ты и прав, Мирон. Может, мне самому давно надо было рассказать об этом на комсомольском собрании. Что же, подумаю.
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ С МОИМ БРАТОМ!
– Смотрите, что вы сделали с моим братом. – Люда показала на груду брошюр и книжек, заваливших большую половину стола. Здесь было все, что удалось Прохору достать в портовой библиотеке и в магазинах города о водолазном деле, подводном спорте и основах физиологии подводного плавания.
– Он выучил наизусть нужные и ненужные таблицы режимов декомпрессии, как будто собирается в глубоководную экспедицию, – продолжала Люда. – Все читал мне вслух: о том, как Ганс Хасс в глубине океана оседлал китовую акулу, как Ив Кусто и Фредерик Дюма поднимали затонувшие корабли… Скажите, чего вы от него добиваетесь? Для чего вы пользуетесь мальчишеской увлеченностью? Хотите из него сделать утопленника? Ведь это все – чепуха!
Чудная эта Людмила. Вот почти две недели Прохор ежедневно приходил в их дом, пока болел Ленька. За это время она не сказала Прохору двух десятков слов, все с какой-то опаской поглядывала, не одобряя его затеи. А теперь вот, пожалуйста: Ленька впервые после болезни ушел в школу, Прохор принес ему подарок – голубые ребристые ласты, ждет его возвращения, а она накинулась на Прохора.
– Почему же вы не запретите ему забивать себе голову этой чепухой? – кивнул он на книги.
– Могла бы – запретила бы…
– А вы пробовали?
– Нет, не пробовала. Вчера, когда вы ушли, я хотела было поговорить с ним об этом, но он вдруг сам начал разговор о том, что для исследователя подводного мира нужны знания математики, гидравлики, медицины, литературы, зоологии, биологии, ботаники, и еще назвал с полдюжины наук и уселся за школьные учебники. Этого с ним никогда не было. Он очень способный, мой Ленюшка, всегда приносил со школы пятерки, хотя дома никогда не брался за книжки.
Прохор тоже чудной какой-то! С людьми он обычно смел и даже, говорят, дерзок. В компании, если кому из матросов познакомиться с девчонкой надо было, всегда его просили: Проша, выручи. Он к любой мог подойти, шутливо отрекомендоваться, представить товарища. Ребята всегда упрекали Прохора в том, что он непочтительно, свысока разговаривал с девчатами. А что ему с ними? Подумаешь, нежная половина человечества!.. А вот с ней, с Ленькиной сестрой, он как-то не находил нужного тона, она его корит, а он… Да кто она такая для Прохора, в самом деле!
Люда отошла к окну, повернулась к Прохору спиной и начала зачем-то медленно обрывать фиолетовые лепестки герани.
– Кем он вырастет – инженером, как его отец, или пустым романтиком моря? Может, на белесые вихри будет одет шлем астронавта? Может, имя его вечно останется на книжках чудесных стихов, а может, его никто и не вспомнит… Для вас это все равно, а для меня нет. Я ведь не только сестра ему, я заменяю ему родителей, отца, я его самый близкий товарищ. И для меня ничего нет дороже его судьбы.
– А кем бы вы хотели его видеть?
– Кем?.. – Люда задумалась. – Человеком! Это – главное. Не обязательно быть слесарем или композитором, ученым или пастухом, важно быть человеком! Честным, отзывчивым на чужую беду, готовым прийти на помощь товарищу, страстно стремящимся к счастью. К счастью не только для себя.
– Счастье тоже разное бывает.
– Разное… На днях Ленюшка читал мне книжку американки Джен Крайл о том, как группа подводных спортсменов обнаружила где-то у берегов Флориды груженный драгоценностями корабль, затонувший лет двести тому назад. Он читал, а я смотрела, как у него загорались глаза, как дрожали ноздри и пересыхали губы. Он был весь там, среди ныряльщиков. Он завидовал им. Я тогда испугалась, думала – это сокровища на него так подействовали… Но когда вожак достал несколько серебряных слитков, растравив этим алчность, зависть и злобу у остальных ныряльщиков, и они, как стая волков, бросились на удачника, Ленюшка чуть не заплакал. Я его никак не могла заставить дочитать эту книжку. «Это – банда!» – сказал он. И я поняла, что он никогда не будет таким злым…
Люда все смотрела в окно и говорила как бы для себя самой: тихо, спокойно. И от ее рассуждений, оттого, что она понимала прочитанную ей книжку так же, как и он, Прохор почувствовал себя в этой скромной и тесной комнатушке легко и свободно, как будто он долго-долго жил здесь вместе с ними, как будто это не Ленька, а он, Прохор, читал ей книжку об искателях подводных кладов. Странно, право странно, что именно от таких пустяков люди становятся ближе, роднее.
– Он мечтает побывать в затопленном старогреческом городе Ольвия, – продолжала Люда. – Что же, пусть идет, если это поможет быть ему человеком.
Чудная эта Людмила! Надо же было ей накинуться на Прохора с упреками для того, чтобы потом одобрить его занятия с Ленькой! Она чуть свет уходит на фабрику, а вечером – в школу и между работой и учебой успевает постирать, прибрать, приготовить Леньке поесть, а иногда и помочь ему в учебе. На фоне ярко освещенного окна сквозь ткань блузки просвечивают хрупкие Людины плечи. Не легкий, нет не легкий груз лежит на них! И Прохору становится неловко от сознания, что его сильные, привыкшие к труду и тяготам плечи не взяли на себя хотя бы часть этого груза. Взять? Но как? Как ей сказать об этом?
– Люда…
Это Прохор произнес так тихо, что она не услышала. «Почему я такой нерешительный, такой мямля, когда надо сказать ей простые и теплые слова! – рассердился на себя Прохор. – Вот и Олянка тогда, наверное, ждала от меня этих слов и не дождалась».
– Люда!
Прохору показалось, что девушка вздрогнула. Или это ветер дохнул через открытое окно и тронул легкую прозрачную блузку? А может, ей почудился совсем другой голос? Ведь ей семнадцать скоро, и Прохор о ней ничего, ничего не знает… Олянка – совсем другое. С Олянкой связано детство, связаны летние вечера, когда хочется молча сидеть у пруда, под звездами в небе, над звездами, тихо шевелящимися в воде, у тебя под ногами, и держать в своей руке чью-то теплую руку и слушать далекий звон степных цвиркунов. Олянка – давнее, переболевшее…
Люда, будто прислушиваясь к чему-то, вполоборота повернулась к Прохору.
Тот опустил глаза и поднялся из-за стола:
– Люда!
Хрипло и раздраженно звякнул дверной звонок. Вслед за этим скрипнула дверь, и, не дожидаясь приглашения, в комнату вошел Арсен Качур. Прохору показалось, что Арсен, одетый в клетчатую блузу и узкие зеленые брюки, выскочил, как кукольный Петрушка, откуда-то из-под пола. По тому, как расширились Арсеновы глаза, как черные сторожкие зрачки нацелились в него, Прохор понял, что тот никак не ожидал встретиться с ним здесь. Он даже не поздоровался с Людой.
– А-а, Прохор Андреевич! Какая приятная неожиданность! Каким ветром тебя сюда занесло? – дрогнули в кривой улыбке губы Арсена, и в то же время довольно фамильярно, как старого приятеля, он толкнул Прохора в плечо.
После того памятного Прохору разговора между ними сложились довольно странные отношения. Качур подчеркнуто вежливо раскланивался с ним при людях, называл не иначе как по имени и отчеству и однажды даже похвально отозвался о его работе перед всем экипажем. Прохор старался не замечать старшего водолаза первой спусковой станции, не вступал с ним в разговор, держался от него в стороне: все ему виделось какое-то зло, неразгаданное коварство в черных мятущихся глазах Качура, какой-то подвох в криво улыбающихся губах. Но один на один им за последнее время только раз и пришлось встретиться, да и то опять же под водой.
Готовили к подъему затонувшую баржу. Надо было подвести под нее стальные полотенца, к концам которых крепятся понтоны. В понтоны накачают воздух, и они, всплывая, поднимут на поверхность баржу. Водолазы промывали тоннели под баржей, чтобы пропустить через них полотенца. Грунтосос у Прохора работал хорошо, с нарзанчиком, как говорят водолазы, то есть так, что вода, смешанная с грунтом и воздухом, бьет на поверхности из широких шлангов с шипеньем, с пузырьками, любо-дорого смотреть. За смену Прохор ушел под баржу метров на пять. Работать пришлось почти в потемках, на ощупь; вход, через который в тоннель проникал серый призрачный свет, Прохор загораживал спиной. Прохор так увлекся делом, что, когда по телефону сообщили о высланной смене, даже внимания не обратил – знай, нажимал на рукоятку грунтососа. Вдруг он почувствовал, что кто-то смотрит на него сзади, и от этого стало как-то не по себе. И воздух подается нормально, и грунтосос дрожит по-прежнему ровно, а Прохору стало холодно и темно в тоннеле, смутная тревога щемит сердце. Оглянулся, а у самого входа в тоннель, на свету, стоит кто-то в раздутом воздухом скафандре, в глазастом шлеме. Стоит, как всякому водолазу полагается стоять под водой: чуточку наклонившись вперед, слегка растопырив руки. Ну, водолаз, как все водолазы. А Прохору он почему-то жутким призраком показался. «Уж не азотное ли опьянение у меня», – с тревогой подумал Прохор. Есть такая болезнь – азотное опьянение. На глубине, при повышенном давлении, газы, которыми дышит человек, ведут себя предательски. Даже кислород, живительный кислород, который с наслаждением вдыхает водолаз, поднявшись на поверхность, даже этот газ на глубине в двадцать-тридцать метров отравляет организм: вызывает чувство ничем не оправданного беспокойства, во рту ощущается неприятный металлический вкус. Тело водолаза сводят страшные судороги, огнем горят его внутренности, он теряет зрение, а затем и сознание. В сильнейшее опьяняющее средство превращается на глубине и такой безобидный на поверхности газ, как азот, составляющий более трех четвертей воздуха, которым мы всегда дышим. Да, человек именно пьянеет от азота, как от крепкой водки. На опасной глубине в шестьдесят-семьдесят метров он вдруг начинает петь песни или беспричинно ругаться, плакать, жаловаться на давно, казалось бы, уже забытые обиды. Иногда в его помутившемся сознании возникают миражи, он видит то, чего на морском дне нет: волнующееся от ветра ржаное поле, огнедышащие вулканы, эскадры кораблей, ведущие бой. Тогда наверху матросы, дежурящие у телефонных аппаратов, слышат в микрофоны то безумный хохот, то надрывный плач, то леденящие душу крики ужаса отравленного азотом водолаза.
Прохор продул несколько раз загубники, как полагается по медицинским правилам в случаях отравления, остановил грунтосос и пошел навстречу водолазу. А тот стоит, одной рукой свода тоннеля касается, другой на размываемый водой грунт показывает: обрушатся, мол, ил да камни и похоронят тебя в этом подводном склепе. Подошел Прохор вплотную к водолазу, заглянул в его иллюминатор и еще страшнее стало: плоская красная физиономия с войлочными усиками кривилась в злой ухмылке. Он, Качур!…
И вот снова стоят они друг против друга. Почему у Люды такие испуганные глаза? Что ищет так долго в карманах Качур? В дверях появляется Ленька, раскрасневшийся, сияющий всеми веснушками и большими, как у Люды, глазами. Но как только Ленька замечает Арсена, глаза его быстро меркнут, белесые брови хмурятся, веснушки ярче проступают на медленно бледнеющем лице.
– Ленька! – не то обрадованно, не то зло крикнул Арсен. – Вот молодец, вовремя пришел. Мотнись-ка в магазин за поллитровкой, – протянул он парнишке розовую бумажку.
Ленька прижал к груди облезлый портфель с книжками, переступил с ноги на ногу, посмотрел на Прохора сузившимися и ставшими вдруг колючими глазами. Потом швырнул портфель под стол и молча прошел в комнату, к самому окну, сердито оттолкнув руку Качура с деньгами.
– Слышишь, что говорю?
В голосе Качура – нескрываемая угроза.
– Не пойду я, – не оборачиваясь, решительно сказал Ленька.
Прохор почему-то подумал, что Арсен еще больше разозлится, накричит на мальчишку, погонит в магазин. Он уже хотел заступиться за Леньку. Но Качур неожиданно переменил тон и, как будто не замечая Ленькиного настроения, попросил:
– Сходи, сходи. Я за это куплю тебе новый портфель.
Ленька молчал.
– Слышишь, малый? Портфель новый куплю, – чуть громче повторил Качур.
– Врешь ты все, – неожиданно громко закричал Ленька, оскаливая мелкие белые зубы. – Вот сколько раз обещал, а все врешь. Не пойду я никуда.
Люда подошла к брату, обняла его за плечи.
– Не трожь его, Арсен. Он не пойдет.
– Эх, вы! – обиделся Качур. – У человека, можно сказать, важное событие в жизни, день рождения хочу с вами вместе отметить. А вы… – Он безнадежно махнул рукой. – Дело ясное: не пойдет. Ну, да Арсен не гордый. Арсен сам пойдет.
Он ткнул в карман смятую розовую бумажку и направился к двери. Но, взявшись уже за дверную скобу, остановился.
– Только ты, Прохор Андреевич, не обижай меня, не уходи. Слышишь? – не поднимая глаз, попросил он.
– Ты тоже уходи, – зыркнул Ленька глазами из-под белесых бровей на Прохора, когда ушел Качур. – С ним пришел, с ним и уходи.
«Может, и в самом деле мне лучше уйти? – подумал Прохор. – У них, очевидно, свои счеты. Не мое это дело, и лезть мне в чужой фарватер совсем ни к чему». Но Люда смотрела на него так жалобно и так была непохожа на ту спокойную, умную Люду, с которой он только что разговаривал о Ленькиной судьбе, что Прохор вместо того, чтобы распрощаться, подошел к Леньке.
– Я не с ним пришел, Леня. Я – к тебе… Вот ласты принес…
Ленька молчал, все так же недоверчиво смотрел на Прохора, на ласты даже не глянул.
Качур быстро вернулся с поллитровкой водки, бутылкой вина и кульком конфет. Расстелил на свободной от книг половине стола газету и разложил на ней розовые кусочки сала, тонкие ломти колбасы, сыра, достал из тумбочки краюху ржаного хлеба и начал нарезать грубыми кусками. Делал он это уверенно и нагловато, все время рассыпая двусмысленные прибаутки, будто полчаса тому назад вовсе и не ссорился с Ленькой. Ленька отодвинул локтем кулек с конфетами, взял в руки какую-то книжку и уселся читать.
Люда по-прежнему стояла у окна, спиной к медленно сгущающимся сумеркам, скрестив на груди руки. Она не помогала Качуру накрывать стол, но и не мешала ему. Она просто терпела его хозяйничанье, его нагловатую улыбку, его плоские шутки, как терпят противно холодную и нудную морось, когда некуда от нее укрыться и когда знают, что скоро эта слякоть пройдет и тогда можно будет обсушиться и обогреться, а от противных капелек не останется и следа. Она следила за двумя взрослыми мужчинами и сравнивала их между собой.
С Арсеном она познакомилась сразу после обмена квартиры. Он вошел в комнату так же, как и сегодня, не спросясь и не поздоровавшись. Сказал, что знавал ее отца. Деловито осмотрел комнату.
– А жить ты, девочка, не умеешь.
– Как это, жить не умею? – не поняла Люда.
– А так. Квартирку обменяла и денег не взяла со сменщика. Антон Александрович так не поступил бы, – кивнул он на портрет отца.
Люде стало неловко. Отца она считала самым справедливым и честным человеком на свете. А разве справедливо брать доплату за государственную квартиру? Люда обменялась просто потому, что в старой двухкомнатной квартире становилось пусто и эта пустота напоминала о постигшем их горе. Да и платить за квартиру, за свет и газ надо было немало, а жили они тогда с Ленькой на одну папину пенсию. Правда, сменщик ее обманул – комнатка оказалась сырой и не такой уютной, как казалось Люде вначале, но причем тут деньги?
Через день он опять пришел и принес Леньке новый костюмчик, а ей – красивую вязаную кофточку.
– Ой, что вы! – испугалась Люда. – У нас нет денег на такие вещи.
– Ерунда, – небрежно процедил сквозь губы Арсен. – Это мой подарок в память об Антоне Александровиче.
– Не нужны мне ваши подарки, – замахала руками Люда… – Уберите их.
Она не хотела даже примерить кофточку. А Ленька так и прикипел ручонками к костюмчику. Жалко было смотреть на Ленюшку, на его старенькую, вылинявшую и ставшую ему тесной курточку, на чиненые-перечиненные штанишки.
– Ладно, не хочешь подарок принимать, возьми за деньги, в рассрочку, – рассмеялся Арсен. – Я запишу себе, сколько стоит, а будут деньги – отдашь.
Сколько сейчас таких записей в Арсеновом блокноте!
Сперва он называл ее не по имени, а просто – девочка. Потом – Людкой. Ухаживать начал. Но было в его ухаживании что-то странное. Если Ленька был дома, Арсен уводил ее в кино или давал Леньке на билет и отсылал гулять. Нет, он не был скупой, и если Ленька сказал «всегда обещаешь и врешь», то очевидно потому, что подарки Арсен давал мальчику не от души, а всегда с насмешкой и затаенной злостью, как бросают кость мешающей собаке. Когда Леньки не было дома, Арсен садился у стола и нудно, расспрашивал о работе, о школе, хвастался накопленными деньгами или жаловался на одиночество. Никогда он не сказал ей ласкового слова, хотя при людях был приторно любезен и нарочито внимателен.
Он приходил всегда неожиданно. Будто вырастал у порога. Однажды Люда была во дворе и увидела, что он прошел через калитку и зашел в подъезд. Она пошла за ним, Но Арсен тихонько прошел мимо двери ее комнаты и поднялся на второй этаж, где было только две квартиры: одну занимал старый нелюдимый Масюта, в другой жила большая семья мастера с трикотажной фабрики, помогшего когда-то Люде устроиться на работу. Арсен вошел в квартиру Масюты. Что ему там надо? Люда притаилась в полутемном коридоре, ожидая его возвращения. Но прошло около часа, Арсен не возвращался, и Люда пошла в свою комнату.
– Ох, и жарко же на улице, – сказал Арсен, входя через несколько минут.
– А мне показалось, что слышала твои шаги на лестнице второго этажа.
Арсен глянул на нее исподлобья и деланно усмехнулся.
– Вон как! Ты уже узнаешь меня по звуку шагов! Это неплохо. Но я только что пришел. Знаешь, в магазинчике рядом я заметил венгерский ром. Мне очень хочется его попробовать. Ты не возражаешь? Я сейчас сбегаю.
– Ты же знаешь, я ничего не пью.
– Одну капельку. Просто для пробы.
Арсен быстро вышел и через несколько минут вернулся с бутылкой рома и большой коробкой шоколадных конфет. Он все-таки уговорил ее выпить стопку рома. У Люды закружилась голова, ей стало смешно и оттого, что щеки стали горячими-горячими, а нос начал деревенеть, и оттого, что Арсен, этот некрасивый тридцатилетний мужчина, смотрел на нее округлившимися маленькими глазками, глупо улыбался, слащавым голосом говорил совсем неподходящие ему слова, будто разговаривал с маленьким ребенком:
– Людочка, маленькая, хорошенькая.
Сю-сю-сю! Он, оказывается, может быть смешным и… жалким. Горячими дрожащими руками он обнял ее за плечи и потянул к себе.
– Людочка, маленькая моя, поцелуй меня…
Люда уперлась ладонями в его горячие щеки, силилась оттолкнуть от себя красное и потное лицо.
– А скажешь, зачем ходил на второй этаж?
Арсен вздрогнул, по-звериному захрипел, скрипнул зубами и, обхватив ее за талию, поднял с табуретки и потащил к кровати… Люде стало страшно. Она со всей силой толкнула его руками в грудь, вырвалась и, отбежав за стол, исступленно закричала.
– Не ори, дура… Не трону, – бессильно и зло сказал Арсен.
– Уходи! Уходи вон, сейчас же!
И расплакалась.
– Не ори, говорю. Соседи услышат…
– Я сама, сама позову соседей. Расскажу, что ты напоил меня и хотел… – Несвязные слова и рыдания вырывались из ее груди, нервная лихорадка сотрясала ее вдруг обессилевшее тело.
– Ну-ка, только попробуй! – неожиданно отрезвев, пригрозил Арсен. – Я тоже кое-что рассказать могу… Не соседям, а следователю расскажу.
Людмила так удивилась этим словам, что даже перестала плакать.
– О чем ты расскажешь?
– О твоем отце. Ты думаешь, он нечаянно свалился за борт? Ха-ха! Как бы не так! Свалился, иначе все равно в тюрьму угодил бы. Я знаю. Вот, в руках он у меня, твой батя.
Арсен выплеснул в рот недопитый ром и, накинув на плечи пиджак, вышел из комнаты.
Что мог знать об отце Качур? Тогда, сразу после гибели отца, действительно, долго шло следствие, говорили разное… Нет, нет! Не может быть ничего дурного. Ее отец – честный, хороший человек. А если? А если Арсен заявит, наговорит, наклевещет? Мертвые не умеют оправдываться.
Всю ночь она тихонько плакала, чтобы не разбудить Леньку. А на другой день после работы пошла на кладбище, положила на могилу отца цветы, поправила примятую кем-то траву и сидела молча до самой ночи, думая об отце. Несколько раз она собиралась спросить у него, у его могилы. И не знала, о чем спрашивать.
С тех пор она начала бояться Арсена и Масюты. Зачем он ходит к нему почти каждый раз, когда приходит к Людмиле? Что может быть общего у водолаза с этим старым нелюдимым человеком, о прошлом которого рассказывают так много страшных историй? И то неведомое Людмиле прошлое бывшего уголовника как будто бросало черную тень на Арсена, делало его тоже страшным.
Людмила боялась Арсена. А он по-прежнему внезапно появлялся в ее комнате, молча садился за стол и смотрел на нее жадными и злыми глазами. Как он непохож на того Арсена, который сейчас хлопочет у стола!
Прохор – ровнее характером. Немногословен, но всему, что он говорит, веришь и все, что делает, кажется, делает от души. Может, поэтому и полюбил его Ленюшка? Мальчик тянется к нему, без него скучает, и Люде кажется, что не только потому, что Прохор всерьез занялся его подготовкой к подводному спорту. Есть в нем какая-то спокойная, уверенная сила и скупая мужская любовь к людям, что-то похожее на покойного отца. Вот он стоит, огромный, плечистый, с копной черных, немного вьющихся волос. Большие черные глаза спокойно и чуточку насмешливо следят из-под широких, сросшихся на переносице бровей за Арсеном. Если бы он был немножко смелее, немножко решительнее и хотя бы капельку, одну капельку, любил Люду, он бы вышвырнул это рыжее чудовище из ее комнаты, он бы избавил ее от гнетущего страха, от непонятных и неприятных Люде посещений. Сама она не может этого сделать, у нее нет для этого ни сил, ни решимости.
Пили только мужчины. Люда не притронулась к налитой ей стопке вина, а Ленька пересел на кровать, подальше от стола, и продолжал рассматривать книгу. Арсен говорил всякую чепуху, а Прохор только вставлял короткие фразы, будто прислушиваясь к какому-то, только ему слышному голосу, будто раздумывая над чем-то.
– Хороший ты хлопец, Прохор. И зря ты на меня дуешься, – неожиданно переменил разговор Арсен, опрокинув в рот очередную стопку.
Прохор ничего не ответил, только внимательно посмотрел на Качура.
– Ей-богу, хороший! – продолжал Арсен, наливая стопки. – Только ты меня неправильно понял. Ну, что плохого в том, что предложил тебе деньги? Или тебе ничего не нужно, ни хороший костюм, ни квартира? Что, так и будешь всю жизнь жить в матросском кубрике? Или боишься, что отдать нечем будет? Эх, ты!.. Даже когда хочешь людям добро сделать, и то они тебе не верят, трудовые деньги взять не хотят. У меня же их, как травы!
Черт его разберет, этого Качура. Может, и в самом деле он, как говорит Олефиренко, работяга. Может, тогда во время поиска баржи, глупо подшутил над ним, да и только? Может, он просто человек без обаяния? Бывают такие, лишенные дара привлекать сердца, из их рук голодный куска хлеба не возьмет… Доброта в них слишком глубоко запрятана, что ли?.. Прохор внезапно подумал о том, что сейчас в нем почему-то тает непримиримая ненависть к Качуру, оставались лишь чувство жалости к этому некрасивому и, должно быть, неудачливому человеку да какая-то усталость, неудовлетворенность собой.
«Хмелеть начинаю», – подумал Прохор и предложил Качуру:
– Пойдем на воздух?
– Да, здесь третий лишний, иди, – ответил Арсен.
Люда встала из-за стола, прижала ладони к груди, испуганно посмотрела на Прохора.
– Это правда: третий лишний здесь, – рассмеялся Прохор. – Пойдем вместе – их двое останется, – кивнул он на Люду и Леньку.
– Поздно уже… – робко вставила Люда.
– Понимаю… Все понимаю, Людка, – разозлился вдруг Арсен. – Только ты смотри у меня.
Он пьяно и противно осклабился, показывая желтые большие зубы и пряча глаза, по покорно поднялся из-за стола:
– Пошли, Прошка! – и первым направился к двери.
Ночь теплая расцвечена звездами, как елка огнями. Шли молча: Качур – впереди, Демич – сзади.
Прохор будто прислушивался к себе, отыскивая в душе прежнюю ненависть к Качуру, и не находил. Он не мог понять, почему в этот вечер ненависть как-то незаметно и против его желания перегорала, притуплялась, хотя сознание Прохора протестовало против этого. Может быть, это произошло потому, что никто – ни Олефиренко, ни Осадчий, ни Бандурка – не хотели верить ему, и даже Людмила, которую Прохор считал существом чистым и чутким, как-то мирилась с Качуром, принимала его у себя, терпела его бесцеремонность. Пожалуй, и Людмила не поверила бы Прохору, тем более, что у него действительно не было никаких доказательств.








