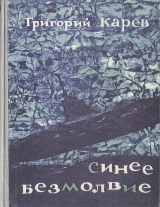
Текст книги "Синее безмолвие"
Автор книги: Григорий Карев
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
СЫН МОРЯ
Надо совсем не иметь сердца, чтобы после такого разговора обмануть мальчишку. Но случилось так, что в понедельник заштормило – экипажи спасательных судов и водолазных ботов дежурили в порту, а ночью вышли к Тендре снимать с мели греческий сухогруз, там до конца недели и проболтались. Ждал, наверное, Прохора Ленька. И брехуном, конечно, обзывал. А что мог поделать Прохор? Морская служба!
В следующее воскресенье, уложив в чемодан акваланг, Прохор отправился к причалам, где неделю тому назад познакомился с Ленькой. Погода стояла пасмурная и ветреная. Белые барашки подкатывали к берегу на синих спинах волн и разлетались хлопьями пены, фонтанами брызг. Когда в разрыве туч выглядывало солнце, с неба спускался серебряный столб света, и море играло светло-синим, голубым и зеленым. Но серебряный столб уходил вслед за тучами, и краски темнели: хоть сколько смотри – только синее да белое, только волны да пена.
Прохор молча ходил по пустынным причалам. Леньки не было.
К полудню ветер ослаб, по морю потянулись светлые полосы, волны хотя и били почти с прежней силой о берег, но стало прозрачнее и голубее. Несколько шустрых пареньков уже бегали по мокрой гальке.
– Ты знаешь Леньку? – спросил Прохор одного из них.
– Какого Леньку?
– Вот такого, как ты, сероглазого, белоголового…
Пареньки обступили Демича, проявляя больший интерес к незнакомому моряку и его чемодану, чем к тому, о ком он расспрашивал.
– Сирота он, недавно школу бросил.
– Веснушчатый?
– Да.
– У него сестру Людкой зовут?
– Да, да Людмилой.
– Так это же Сын Моря. Ребята, кто знает, где живет Сын Моря?
Ленька учился в другой школе, но все они знали его историю, знали, как он бросил школу, как бродяжничал по окрестным селам, как бежал из детского приемника и опять появился в школе. Но куда он снова запропал и где живет, никто не знал.
– Плохие же вы товарищи.
– Да?.. А ты сам попробуй дружить с ним: чуть что не так, он тебе такую трепку задаст, ого!
Так или иначе, но Ленькиного адреса никто не знал, и Демич, подождав на причале еще часа три, решил, что завтра непременно сходит в школу, где учился его юный знакомый. Затем поднялся в город, сел в трамвай и поехал разыскивать Музей обороны.
В этом музее Прохор давно мечтал побывать, еще когда служил во флоте. Эх, ребята, ребята! Может, и зря вы обижаетесь на Прохора, что не поехал он с вами. Ведь вы же сами в этом и виноваты. Разве не Женька Валуйский рассказывал ему о том, как увидел в этом музее портрет брата-героя, о судьбе которого никто из домашних ничего не знал? Разве не ты, Виктор, рассказывал Прохору об экспозициях и документах этого музея? Что вам было до того, что отец Демича погиб в сорок первом при обороне Южноморска и, кроме скупой похоронной, ничего, даже портрета, не сохранилось для сына. Что вам до того?
Отец! Каждый имеет отца… Почти каждый теряет его: одни, как Ленька, в детстве, едва запомнив черты отцовского лица, ласку его глаз и тепло его ладоней; другие – когда станут уже юношами и многому научатся у отца, такому, чему у других никогда не научишься, – всю жизнь они потом подражают отцам и испытывают счастье узнавания в себе отцовских черт; третьи – когда станут зрелыми мужами и сами оставят в жизни глубокий чекан; но какими бы ни были их сила и слава, власть и слово отца для них непререкаемы. Всем горько терять родителей, но горше всех тому, кто потерял его младенцем, когда, научившись выговаривать самое дорогое слово, уже некому было сказать его. Двадцать лет Прохор носит в себе это горячее, как кровь, слово. Оно жжет его, оно переполняет его, требует выхода. Иногда парню казалось: сказать бы его тому, кому оно принадлежит, и стало бы легче. А сказать некому. Прохор даже не знает, какой он был, его отец. Прохор спрашивал деда Костя – добрый хлебороб был, говорит. Прохор спрашивал у матери – она только заплакала в ответ. Он выучил наизусть похоронную, но разве словами «пал смертью храбрых» все сказано?..
Отец был морским пехотинцем. Прохор все стихи про морскую пехоту выучил. Все мечтал: «Обойду все места, где высаживалась морская пехота, где она билась за этот, город, опрошу тех, кто воевал в ее рядах, – не может быть, чтобы так-таки никто и не помнил морского пехотинца Андрея Демича! Мне бы только узнать, каким он был, как воевал, как умер…»
Потому и не поехал Прохор с ребятами в Братск. Все хотелось рассказать им начистоту, да боялся – засмеют, посчитают сентиментальным чудаком. А Прохор и сам не любил ребят, способных легко растрогаться, расчувствоваться, считал это признаком душевной слабости. И в то же время полагал своим сыновним долгом узнать все об отце. Прохор верил, что в самую страшную минуту своей гибели отец думал о нем, и хотел быть таким, каким виделся отец в смертный час, хотел, чтобы дети его, Прохора, были похожи на деда, на безвестного бойца морской пехоты, павшего в бою за Отечество…
ТАЙНЫ МОРЯ
Раненый моряк вложил всего себя в бросок гранаты: силу каменных мышц, гнев и любовь, клокочущие в сердце, волю к победе, мужество и суровую решимость стоять насмерть. Все это сумел выразить в мраморе скульптор – одно только забыл: горячую мечту моряка о сыне… А ведь тот, кто шел на смерть, не мог не думать о детях. Скульптура не согревает Прохора. Моряк не похож на его отца.
Кто-то крепко сжал Прохору локоть.
– Здравствуй, водолаз!
Огляделся. Рядом стоял тот самый рыбак, который защитил Леньку на причале.
– Здравствуйте… товарищ Грач!
Грач засмеялся так, что молчаливые посетители музея оглянулись на него:
– Да не Грач я. Это меня мальчишки так окрестили. Бывший фронтовой корреспондент флотской газеты, ныне инвалид войны Иван Трофимович Подорожный, вот кто я такой. Ну, а о себе расскажешь?
Прохор назвал свою фамилию.
– Демич? – удивленно переспросил Иван Трофимович.
– Демич…
– Редкая, брат, фамилия. – Он задумчиво пробарабанил пальцами по костылю, будто воскрешая в памяти прошлое. – Редкая, а вот где-то застряла в моих извилинах, что-то хочет напомнить мне, а что – не улавливаю… У меня когда-то богатейшая память была, браток, я мог целый день по окопам ползать, не вынимая блокнота, а вечером в редакции такую корреспонденцию настрочить – ахнешь! И не переврано ни слова. А теперь, брат, перевалило за сорок, склероз и прочее такое… Демич, Демич, Демич… гм…
Прохор рассказал, что привело его в музей. Иван Трофимович оживился и снова стал похожим на грача, прыгающего по весенней пахоте.
– Это меняет, брат, дело, меняет дело. Так говоришь, твой героический предок служил на Черноморском флоте? Это уже кое-что значит! В морской пехоте, говоришь? Это уже кое-что дает для моих извилин. Где участвовал: Новороссийск? Мысхако? Малая Земля? Феодосия? Севастополь? Ах, вот как! Значит, здесь? Да, да… Конечно, зачем бы ты искал десантников Малой земли в нашем музее. Смешно! Ну, а в каком отряде моряков был твой отец? Не знаешь? Это, брат, худо… Худо, говорю, потому что здесь был не один отряд.
На минутку тучка раздумья набежала на его живое, энергичное лицо, он умолк. Потом снова вцепился в рукав Прохоровой рубашки.
– Не горюй, моряк, не горюй… Только здесь ты своего предка не отыщешь. Здесь одни колоритные фигуры. Имена многих героев надо искать в архивах. А архивов в городе два: городской, где я внештатным сотрудником состою. Большой и запутанный. И – у меня в квартире, в котором я господствую безраздельно. Этот чуть поменьше, но еще больше запутан. Понял? Пойдем! – Схватив костыли, он легко бросил свое упругое тело вперед. Прохор еле успевал за ним по широкой мраморной лестнице.
Комната на улице Короленко, где жил Иван Трофимович, действительно походила на хранилище архива: полки и полочки, шкафы и шкафчики, этажерки и ящики из-под папирос – все это было уставлено, уложено, завалено и загромождено подшивками газет, записными книжками, папками и просто пачками бумаг, перевязанными то куском рыболовной лески, то цветной тесьмой, то просто старым шнурком от ботинка. В дальнем углу стоял письменный стол, заваленный книгами, рукописями и толстыми потрепанными тетрадями, рядом диван, обитый черным дерматином, с другой стороны, вместо окна, стеклянная дверь, открывающаяся на крохотный полукруглый балкончик. Иван Трофимович извлек откуда-то алюминиевый чайник и, сунув его Прохору в руку, скомандовал:
– Иди на кухню: прямо, потом направо. Набери воды и поставь на плитку. Будем чай пить по-флотски. Понял? Иди!
Когда Прохор вернулся в комнату, Грач уже распаковал какой-то ящик и, выложив добрую половину его содержимого на стол, перебирал разноцветные листочки, огромные свитки бумаги и что-то мурлыкал себе под нос. Просмотрев все листовки, изданные на Черноморском флоте в годы войны, Иван Трофимович принялся листать газетные подшивки. А после чая развязал большой сверток пожелтевших от времени бумаг, карт и фотографий. Все тише становилось его мурлыканье, все реже он произносил: «Ах, этот Демич! Этот Демич!» Он еще продолжал уверять Прохора в том, что обязательно разыщет следы его отца, но в его голосе все меньше было уверенности, он все чаще отвлекался от поисков рассказами о фронтовых приключениях. А их у него было немало. Фронтовой корреспондент бывал и у морских пехотинцев под Одессой, и на боевых кораблях, ходил в море с подводниками и катерниками, оборонял Севастополь и Новороссийск, высаживался на Малой земле и в Феодосии.
– Посмотри-ка на эту красавицу, – пододвинул он Прохору темно-синюю плотную папку, туго набитую какими-то бумагами. Когда-то кадровики в таких папках, напорное, хранили дела офицеров флота. И сейчас еще можно было прочесть выдавленную на синем дерматине надпись Личное дело», а дальше шла аккуратно наклеенная полоска белой бумаги с написанными от руки словами «подводной лодки «Катюша». Развязав серые шнурки, Прохор обнаружил в специальном кармашке на внутренней стороне обложки фотографию подводной лодки. Сигарообразный наполовину погруженный в воду корпус ничем не выделялся среди таких же корпусов, видневшихся на втором плане. На мостике стояли моряки в ватниках и регланах.
– Это я, – ткнул карандашом в одного из них Иван Трофимович.
Снимок был мелкий, потускневший от времени, и моряков, конечно, узнать было невозможно, но Прохор охотно поверил Ивану Трофимовичу, что невысокий моряк, выглядывавший из-за спины бородатого человека в реглане, был именно он.
– Ах, какие репортажи я давал с борта «Катюши»: «На минном поле!», «Прорыв боновых цепей!», «Поединок с «Пантерой», «Удар по конвою!». И все это на первой странице, крупно, в рамочке и ниже подписи черным петитом «Борт энской подводной лодки». Это звучало! Ради этого стоило, черт возьми, дышать испарениями соляра и соляной кислоты, нюхать прогорклое машинное масло, слушать, как мины скребут тросами по тонкому корпусу лодки и в двух метрах рвутся глубинные бомбы, обливаться потом и мечтать о глотке свежего воздуха. Стоило!.. Когда «Катюша» ныряла слишком глубоко и начинали трещать борта, а с подволока сыпалась пробка, вот этот бородатый капитан-лейтенант Лодяков хмуро шутил:
«Корреспондент, переходите с авторучки на черный карандаш и пишите послание потомкам».
«Почему, Владимир Иванович?»
Командир лодки вполне серьезно и страшно спокойно объяснял:
«Записи черным карандашом лучше сохраняются. На поднятой со дна «Женерозе» погибли все записи, сделанные чернилами и химическим карандашом, а черный карандаш сохранился даже на безнадежно раскисшей бумаге».
Командир при любом удобном случае рассказывал о гибели и подъеме транспорта «Женероза». Все мы сперва удивлялись его привязанности к этой довольно обычной в морской жизни истории. Но потом узнали: на «Женерозе» утонул отец Лодякова. И после этого в его хмурых шутках нам всегда чудились грустные нотки.
И в тот, последний, поход я должен был идти с Лодяковым. Вдруг получаю семафор: «Подорожному срочно прибыть к шефу. Ленский». Шеф – добрейший Александр Васильевич Плеско – не часто разрешал себе роскошь вызывать с кораблей корреспондентов, зная, что добраться с части в редакцию иногда было так же сложно, как перейти линию фронта. Но в те годы воля редактора для нас, корреспондентов, была законом, даже в песенке пелось: «Жив ты или помер, но сегодня в номер сдать ты должен двести строк». Надо было выполнять приказание… А дело-то получилось совсем никудышное, кто-то сдал беспардонно перепутанный материал, а редакционная машинистка, глухая Мадлен, не разобрала подписи корреспондента, и меня высвистали по чужому материалу. Пока я прибыл в редакцию, ошибка, конечно, выяснилась. Но дело было уже сделано, и переделывать его было поздно, как говорят в Турции, когда отрубят голову не тому, кому следовало. Александр Васильевич пожевал кончик длинной бороды, усмехнулся и сказал мне:
«Бывает и хуже. Возвращайтесь, дорогой, на корабь и пришлите двухголового теленка на первую полосу».
Он всегда говорил корабь, а не корабль, а двухголовым теленком называл необычно интересную, гвоздевую, информацию. Когда я вернулся на пирс, Лодякова и «Катюши» там уже не было, они исчезли бесследно. Ты понимаешь: вышли на задание и не вернулись. Сколько уже лет прошло после войны, судьбы всех кораблей выяснены, почти все погибшие найдены, многие подняты, а о «Катюше» и Лодякове ничего не известно…
Иван Трофимович отпил глоток остывшего мая, быстрым движением поправил стрельчатые усики и продолжал:
– В том, что «Катюша» погибла, ничего удивительного нет – тогда многие корабли гибли загадочно, не успев даже дать сигнал бедствия. Удивительно, что «Катюшу» до сих пор не нашли. Это уже напоминает одну из необычайных морских историй, вроде легенды о «летучем голландце» или историй с кораблями-призраками. Конечно, в наше время, время межпланетных ракет и полета человека в космос, эти легенды ушли в прошлое. Но и сегодня синее безмолвие морской пучины хранит немало тайн, немало таких историй, которые все еще остаются неразгаданными…
Иван Трофимович рассказал, что в 1928 году, когда войной на море еще и не пахло, бесследно исчез датский учебный парусный корабль «Кобенхавн», вышедший из Монтевидео с пятьюдесятью матросами и кадетами на борту. А двадцать лет спустя, в феврале 1948 года, когда мировая война уже окончилась, английские радиостанции получили сигнал бедствия с голландского парохода «Уранг Медан», пересекавшего Молуккский пролив. К терпящему бедствие пароходу помчались на выручку суда с Малайи и Суматры. Спасательные партии увидели на борту «Уранг Медан» жуткое зрелище. Капитан лежал на мостике мертвым, на лице его застыло выражение ужаса. Трупы моряков валялись на палубе, в рулевой и штурманской рубках, в кают-компании. Тело радиста свисало со стула в радиорубке. Его рука все еще сжимала ключ, недавно отправивший в эфир отчаянный призыв о помощи. На судне не было ни одного живого существа, но на трупах не было видно ран или каких-нибудь повреждений. Моряки спасательных судов не успели опомниться, как на голландце разразился страшный пожар, потом раздался оглушительный взрыв, и объятый пламенем «Уранг Медан» на виду у потрясенных зрелищем спасателей исчез в розоватых от зарева волнах Молуккского залива.
– А вот еще одна тайна моря. – Иван Трофимович пододвинул Прохору отпечатанную латинским шрифтом газету и ткнул пальцем в заметку, обведенную красным карандашом. – Это «Таймс геральд» за одиннадцатое февраля пятьдесят третьего года. Читай! Не читаешь по-английски? Тогда я переведу… В Коломбо, пишется здесь, на буксире приведен слегка поврежденный теплоход «Холчу», на котором имелись большие запасы продовольствия, воды и топлива. Все пять человек его команды загадочно исчезли в море. На камбузе была приготовлена пища. Несмотря на сломанную мачту, «Холчу», имея груз риса, хорошо шел среди волн. Обычно это судно совершало регулярные рейсы между Андаманскими и Никобарскими островами. Что случилось с пятью членами команды – неизвестно. Судно было обнаружено три дня назад английским грузовым суднам в двухстах милях от Никобарских островов…
Необычайные морские истории, очевидно, случаются не только в мирные, но и в военные годы, – многозначительно сказал Иван Трофимович, закончив чтение заметки.
– Вы считаете, что «Катюша» стала жертвой такого случая?
– Кто вам это сказал?.. Я, может быть, считал бы, если бы… Если бы, как говорит один мой хороший знакомый, во-вторых, я абсолютно верил в то, что в трех выше приведенных случаях имели место только морские чудеса, а не происки каких-нибудь ловких пройдох, а во-первых, если бы некоторые совершенно реальные документы не заставляли мои извилины работать в другом направлении.
– Вот как!
– Да, дорогой Демич-младший, вот так!
Он аккуратно сложил вчетверо вашингтонскую газету и положил ее в темно-синюю папку. Потом достал оттуда несколько листков с густым машинописным текстом и подал Прохору:
– Почитай-ка вот это. Бери смелее, это вольный пересказ показаний одного немецкого завоевателя, подстреленного партизанами недалеко от Балаклавы.
«Я его, стерво, перевязав чистым бинтом. Я его, подлюгу, накормыв с той пайки тушонки, которая нам до конца месяца осталась. Хотив с ним по-хорошему потолковать, а он, падло, мовчыть, прикидывается, будто нашего языка не понимает. А как же он не понимает, як я на свои вуха чув, колы он требовал у тетки яйки и млеко и грозился, если она не даст, доложить начальству о том, что тетка эта партизан переховует. Я его и так и сяк уговаривал, да фриц оказался совсем несознательным. Тогда я вынул пистолет и заявил, шо як он не перестанет серость свою показывать и в два счета не вспомнит российскую чы украинскую мову, то я должен буду тут на месте его прикончить, бо такие необразованные фрицы нам и в штабе не нужны, а возиться мне с ним николы. Цей фриц тоди меня дуже хороше зрозумив и мову хутко всю як є спомнив. Правда, вин довго ще заикався и поглядав на мой пистолет, но разговор пошел по-хорошему. Так от, он мне доложил, як на духу, что в конце мая, колы наши еще не оставляли Севастополя, в Форос прибыла итальянская автоколонна в составе одной легковой машины и мотоцикла, трех чы четырех автобусов и автоцистерн, трех чы четырех тракторов, десяти тягачей и стольких же автоприцепов, да еще десять кораблей на автотяге. Я був не поверил нащет кораблей и напомнил тому фрицови, що брехунив нам у штабе тоже не надо, и знову выйняв из кармана пистолет, но фриц побожился своими детьми, шо говорить чисту правду и сказав, шо як вин брешет, то его и в штабе расстрелять успеют, и мне, значить, торопиться никуды. Командует этой автоколонной якийсь капитан третьего ранга Ленци чи Ленце, а всего в колонне пять офицеров и почти полсотни унтеров и рядовых. Полоненный фриц служит в немецкой саперной роте, котрий було приказано построить деревянный помост с рельсами; по ним и были спущены те корабли на воду.
После того, як я пообещал сохранить дороге ему, як згадка про перебування в соняшному Крыму, жыття, сховав пистолет и налыв с нашего энзе пившклянки спирту, фриц совсем подобрел, развязал язык и оказался добрым таки звонарем. Он начал даже хвастаться, шо як я доведу его до штаба, то мне неодменно дадут орден за него, бо италийська колонна есть очень важная штука, потому как не успела она появиться в Форосе, а туда уже понаехало немецкое и италийское начальство из Ялты и Симферополя, был даже командующий немецкими военно-морскими силами в Черном море. А 31 мая сюда приехал командующий всеми фашистскими вооруженными силами в Крыму генерал фон Манштейн. Генерал кричав, як одесский биндюжник, на командира колонны и ще на якогось Форцу, лаяв италийцев безмозглыми стратегами и самотопами, казав, що он не променяе пары обмоток и черных ботинок на ногах немецкого егеря на весь италийский подводный флот и якшо русские перехватят грязную лоханку, то он, Манштейн, буде навить радый и при перший зустричи покаже адмиралу Деницу дулю.
Товарыщ капитан, – писал далее неведомый автор, – я ничого не разбыраюсь ни в италийский стратегии, ни в манштейновий дули, шо тут и до чого, то вы с фрицем сами побалакаете. Прошу прислать за ним, а то я не могу отлучиться от своего задания, послать его к вам не с кем, а один он не дойдет – сознания маловато, да и дороги не знает».
– Ну как? – спросил Иван Трофимович, когда Прохор окончил читать.
– Очень интересно. Только я никак не пойму, какое имеет отношение это письмо к «Катюше»?
– Оно имеет отношение к немецким и итальянским подводным силам. Ведь в Форосе в то время базировался один из отрядов итальянской флотилии штурмовых средств.
– Ну и что же?
– Как ты думаешь, о какой грязной лоханке говорил Манштейн?
– Очевидно, о какой-то подводной лодке…
– Связанной с итальянскими штурмовыми средствами, иначе генералу не пришлось бы упоминать рядом с Деницем, командовавшим фашистским флотом, Форцу – командира итальянской флотилии штурмовых средств, – подхватил Грач. – И эта лодка, я думаю, имела особое назначение, не стал бы командующий всеми фашистскими силами в Крыму так портить нервы из-за обычной подводной лодки. Понимаете?
– Ну, это еще как сказать…
Иван Трофимович в упор посмотрел на Прохора, нахмурил сросшиеся на переносице брови.
– Ты тоже, я вижу, не разбираешься ни в стратегии, ни в дуле.
Он положил на место необычное донесение партизана и вынул с той же папки еще несколько листков.
– Тогда почитай еще вот это.
Это был русский перевод страничек из дневника капитана первого ранга Мимбелли.
27 мая. Начиная с этой ночи, от подводной лодки «Кенгуру» должно было поступать сообщение о выполнении задания. На море стоит предсказанный метеорологической сводкой штиль и небольшой туман. Все позволяет надеяться на благополучный исход операции, если только «Кенгуру» посчастливилось доставить детеныша в точку использования.
28 мая. От «Кенгуру» никаких известий; думаю, что это запоздание можно объяснить тем, что в районе действий лодки имеются вражеские корабли и лодка молчит из опасения, что ее радиосообщение может быть перехвачено.
17 часов. Все еще никаких сведений о «Кенгуру». Отправляю подводной лодке радиограмму с просьбой сообщить о себе.
23 часа. От «Кенгуру» никакого ответа.
29 мая. «Кенгуру» молчит. Обращаюсь к немецкому командиру военно-воздушных сил Черного моря с просьбой произвести поиск тремя самолетами в полосе Одесса – Севастополь.
14 часов. Три самолета-разведчика, долетев до Севастополя, вернулись, ничего не обнаружив.
19 часов. Обращаюсь в соседний авиакорпус с просьбой еще раз разведать район Севастополя и до Новороссийска, в надежде узнать что-либо о судьбе подводной лодки.
30 мая. Попытки авиакорпуса оказались бесплодными. О «Кенгуру» все еще ничего неизвестно.
1 июня. 5 часов утра. На разведку уходит самолет «Ю-86».
10 часов утра. Сообщили, что самолету-разведчику удалось сфотографировать побережье у Севастополя, контролируемое русскими, а также прибрежную полосу от Новороссийска до Сухуми.
23 часа. Получаю и изучаю аэрофотоснимки. Делаю выводы, что ни по Севастополю, ни по Новороссийску «Кенгуру» оружие не применила. Где же сама «Кенгуру»?»
Пока Прохор читал, Иван Трофимович следил за ним глазами и, заметив, что тот дочитал страничку до конца, сказал:
– Прошу иметь в виду, что дневник совпадает по времени не только с пребыванием Манштейна в Форосе, но и с выходом и загадочной гибелью «Катюши».
– Вы считаете, что между гибелью «Катюши» и «Кенгуру» есть связь?
– Я считаю, что в Черном море одновременно или почти одновременно погибли две лодки воюющих сторон, имевшие задания исключительной важности. Этого достаточно для некоторых выводов…
Иван Трофимович резко захлопнул папку и с такой поспешностью схватил целую груду материалов, чтобы швырнуть их куда-нибудь на полку, что они разъехались в его руках и беспорядочно посыпались на пол. У одной из папок тесемки развязались, и многочисленные снимки разлетелись по всей комнате. Прохор бросился собирать пожелтевшие листки и фотографии.
– Там, под диваном, еще какой-то листок, достань, пожалуйста.
Прохор встал на колени и пошарил рукой под диваном. В руке, действительно, оказалась фотография величиной с почтовую открытку. На оборотной стороне ее, кроме даты, помеченной карандашом, не было никакой надписи, но когда Прохор перевернул снимок, то чуть не вскрикнул от неожиданности. Из-под низкого лба и густых, будто наклеенных, бровей на него сторожко смотрели два трусливых зверька, готовые тут же спрятаться в темных больших глазницах, плоское, будто сплюснутое спереди лицо и тонкие губы не выражали ничего, кроме пьяной жестокости.
– Что там такое? – спросил Грач, заметив волнение гостя.
– Я знаю этого человека, – показал Прохор на снимок.
Хозяин в несколько прыжков оказался возле Демича, взял фотографию и равнодушно сказал:
– Вряд ли.
– Я знаю этого человека, – снова повторил Прохор.
– Кто же он?
– Это водолаз с «Руслана».
– Сколько ему лет?
– Он старше меня лет на семь, значит, около тридцати.
– «Ну, мертвая! – крикнул малюточка басом», – говорил в таких случаях известный русский поэт Н. А. Некрасов, – насмешливо скривил губы Иван Трофимович, пряча фотографию в папку. – Эту фотографию я получил почти двадцать лет назад, когда вашему знакомому и десяти годков не было… А на снимке тридцатилетний малый, сердце которого к тому времени уже успело зарасти шерстью, а руки потрескаться от чужой крови.
– И все-таки это он! – продолжал настаивать Прохор.
– Молодой человек, из вас Шерлока Холмса не получится. Этим снимком несколько лет занимался розыск, и я не завидую вашему знакомому, если бы он оказался в близком родстве со старостой и палачом села Бабанки.
Демич попросил Грача еще раз показать ему снимок. Нет, ни плоское, как у камбалы, лицо, ни похожие на искусственные брови, ни низкий обезьяний лоб, ни, тем более, юркие, диковатые глаза в глубоких темных глазницах его не обманывали. Да, он этого человека видел, он его знал… Но странное дело, чем больше Прохор старался представить себе этого человека, тем больше находил незнакомых черт и тем больше убеждался, что Иван Трофимович прав – нет, это не Арсен Качур! Так откуда же он знает этого человека?
– Ты спрашивал о Леньке? – неожиданно спросил Иван Трофимович. – Так он же, по-моему, живет в одном доме с Масютой, и мы сейчас узнаем адрес.
– С Масютой?
– Да, с тем самым, что готов был до смерти пришибить Леньку за крючок.
– Слушайте, Грач! Да ведь на снимке и есть Масюта! Честное слово, он! Правда, голова, усы и даже брови у Масюты бритые, лицо изморщинено и пепелястый цвет приобрело, так это же что? Это же внешние изменения. Он тогда, сами говорите, моложе лет на двадцать был. А глаза? По глазам, Иван Трофимович, человека всегда узнать можно. Это он, Масюта.
Только высказав все это и взглянув на Ивана Трофимовича, Прохор понял, как тонко тот его разыграл: и о Масюте он напомнил в то время, когда Прохор снимок рассматривал, не случайно, и ждал, оказывается, от него этих горячих, не совсем продуманных слов, а теперь, когда ожидания оправдались, он рассматривал Прохора, как подопытного кролика, с полным сознанием превосходства исследователя над препарированной лягушкой. Говорят, журналисты и учителя лучше всех умеют наблюдать за поведением людей. Подорожный сейчас наблюдал за Прохором! Он упивался этим наблюдением, он ликовал. Лучше не вспоминать, но Прохор готов был поклясться, что вот такими же глазами смотрел на него его бывший соученик Андрей Донец, когда Прохор, приехав на побывку в родное село, вдруг узнал, что Олянка вышла замуж за Андрея.
– Вот так, вот так! – приговаривал Иван Трофимович, и в черных, как уголь, глазах засверкали молнии. – Вот так и я клеветал на этого человека.
– А я не клевещу!
– Вот как!
Это Прохора разозлило.
– Я говорю, что на снимке Масюта, а был ли он фашистским прихвостнем, я не знаю. Может быть, и не был.
– Вон как! – еще больше удивился Иван Трофимович.
– Да, так.
– Ну так знайте же, товарищ Демич, что тот, кто заснят на фото, выдавал коммунистов, лично расстреливал партизан и живыми закапывал в землю наших раненых бойцов. Понял? Но Спиридон Масюта здесь ни при чем. У него своя страшная биография – он грабил банки, был непревзойденным мастером по вскрытию сейфов, пять раз бежал из тюрьмы, он не просто уголовник, а го-су-дар-ствен-ный преступник… Правда, ко всем этим эпитетам сейчас следует прибавлять слово бывший: бывший уголовник, бывший мастер, бывший преступник! Вот уже около шести лет как раскаявшийся Масюта считает на костяшках портовые сальдо-бульдо и ежемесячно платит профсоюзные членские взносы.








