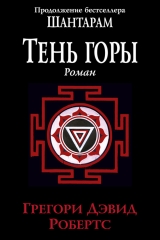
Текст книги "Тень горы"
Автор книги: Грегори Робертс
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
– Я вижу это в тебе, – сказал он. – Ты все еще ее любишь.
– Ты напрашиваешься на хорошую оплеуху, Ранджит? Если да, ты уже почти напросился.
– Нет, конечно же нет. Однако я уверен в том, что ты все еще ее любишь. – Он казался очень серьезным и откровенным. – Потому что, будь я на твоем месте, я продолжал бы любить ее, невзирая на то что она бросила меня ради другого мужчины. На этом свете есть только одна Карла. И для любого мужчины есть только один безумный способ любить ее. Мы оба это знаем.
Самое лучшее в солидном деловом костюме – это обилие всего, за что можно ухватиться, если у вас возникнет такое желание. Я одним захватом сгреб лацканы его пиджака, рубашку и галстук.
– Хватит о Карле! – сказал я. – Заткнись, или мне придется тебя заткнуть.
Он открыл рот – видимо, с намерением позвать на помощь, – но вовремя опомнился. Он был публичной фигурой, набирающей политический вес, и не мог себе позволить скандальную сцену.
– Прошу тебя, успокойся, я не хотел тебя расстраивать, – взмолился он. – Я хочу, чтобы ты помог Карле. Если со мной что-нибудь случится, пообещай…
Я разжал пальцы, и он откинулся на спинку своего кресла, оправляя костюм.
– На что ты намекаешь?
– Неделю назад на меня покушались, – сказал он мрачно.
– Ты сам покушаешься на свою жизнь всякий раз, когда разеваешь рот, Ранджит.
– В мою машину подложили бомбу.
– Вот как? Об этом давай поподробнее.
– Мой шофер отошел всего на несколько минут, чтобы купить порцию бетеля. А когда вернулся, заметил кончик антенны под днищем и затем обнаружил бомбу. Мы позвонили в полицию, и они прислали саперов. Оказалось, что это муляж, но в приложенной записке было сказано, что следующая бомба будет настоящей. Мне удалось скрыть этот случай от прессы. У меня есть кое-какое влияние в нужных кругах, как ты знаешь.
– Смени шофера.
Он слабо хмыкнул.
– Смени шофера, – повторил я.
– Моего шофера?
– Он и есть твое слабое звено. Скорее всего, он нашел бомбу потому, что сам же ее подложил. Ему за это заплатили. Тебя хотят запугать.
– Я… ты шутишь, конечно. Он служит у меня уже три года…
– То есть он заслужил приличное выходное пособие. Избавься от него по-хорошему, без скандала.
– Но он такой преданный человек…
– Карла знает об этом случае?
– Нет. Я не хочу, чтобы она волновалась.
Настала моя очередь смеяться.
– Карла уже большая девочка. И голова ее варит что надо. Тебе не стоит скрывать от нее такие вещи.
– И все же…
– Отказываясь от ее советов, ты не используешь лучший ресурс, какой у тебя есть. Она гораздо умнее тебя. Она умнее любого из нас.
– Но…
– Расскажи ей все.
– Возможно, ты прав. Но я хочу самостоятельно справиться с этой проблемой, понимаешь? У меня хорошая служба безопасности. Но я тревожусь за нее. Главным образом за нее.
– Я уже сказал тебе: дай задний ход. Оставь политику хотя бы на время. Говорят, что рыба гниет с головы. А ты и до головы не добрался, но уже порядком провонял.
– Я не отступлю, Лин. Эти фанатики потому и берут верх. Они запугивают всех подряд, заставляя людей молчать…
– Теперь прочтешь мне лекцию о политическом моменте?
Он улыбнулся, и это была первая его улыбка, которая мне почти понравилась, – по крайней мере, в ней промелькнуло что-то настоящее помимо показного оптимизма.
– Я… я думаю, мы находимся на пороге больших перемен в самом образе наших мыслей, действий и даже мечтаний. Если лучшие умы возьмут верх, если Индия станет по-настоящему современной, светской демократией с равными правами и свободами для всех, то следующий век будет «индийским веком», и мы поведем за собой весь остальной мир.
Он по глазам увидел мою скептическую реакцию. Допустим, он был прав насчет будущего Индии – в те годы примерно так же думали почти все жители Бомбея, – однако то, что он сейчас произнес, наверняка было цитатой из речи, уже не раз произнесенной им перед публикой.
– Песенка не нова, – сказал я. – То же самое сейчас можно услышать от ораторов едва ли не всех партий.
Он хотел было возразить, но я остановил его, подняв руку:
– Я не занимаюсь политикой, но я знаю, что такое дремлющая ненависть: стоит только ее разбудить, и она вопьется тебе в глотку.
– Рад, что ты это понимаешь. – Он вздохнул, оседая в кресле.
– Но я не тот человек, кому необходимо это помнить.
Он снова выпрямил спину:
– Я их не боюсь, уверяю тебя.
– Тебе подкинули бомбу, Ранджит. Ясное дело, ты боишься. И я боюсь, сидя здесь в твоем обществе. Я предпочел бы находиться от тебя подальше.
– Если я буду знать, что рядом с ней находишься ты со своими… со своими друзьями, я смогу встретить опасность со спокойным сердцем.
Я взглянул на него исподлобья, пытаясь понять, видит ли он всю иронию, заключенную в его просьбе. На всякий случай я решил кое-что ему напомнить:
– Пару недель назад твоя вечерняя газета обрушилась с гневной статьей на бомбейскую мафию. Один из моих друзей, о которых ты только что говорил, был назван по имени. Статья призвала к его аресту или изгнанию из города. И это о человеке, которому официально не предъявлялось никаких обвинений. Что стало с презумпцией невиновности? Что стало с журналистикой?
– Помню эту историю.
– В той же газете прошла целая серия публикаций, требовавших смертной казни еще для одного из моих друзей.
– Да, но…
– И вот сейчас ты просишь…
– Прошу тех же самых людей о защите для Карлы, все верно. Я понимаю, это можно назвать лицемерием и беспринципностью. Однако мне больше не к кому обратиться. У этих фанатиков есть свои люди повсюду. Полиция, армия, учителя, профсоюзы, госслужащие – все ими охвачено. Единственная структура, в которую не проникла зараза…
– Это мафия.
– Именно так.
Это было по-своему даже забавно. Я поднялся, взяв чехол с саблей в левую руку. Он поднялся одновременно со мной.
– Расскажи Карле все, – посоветовал я. – Все, что ты скрывал от нее об этом деле. И пусть она сама решит, оставаться ей или на время исчезнуть.
– Я… да, конечно. Так мы с тобой договорились? Насчет Карлы?
– Нет никаких договоров. И никаких «мы с тобой». Есть ты, и есть я, помнишь?
Он улыбнулся и хотел еще что-то сказать, но вместо этого вдруг порывисто меня обнял.
– Я знал, что на тебя можно положиться. Ты все сделаешь правильно, – сказал он. – Что бы ни случилось.
При объятии я едва не уткнулся носом в его шею и сразу почувствовал запах духов – женских духов, – совсем недавно впитавшийся в его рубашку. Это были дешевые духи. Не духи Карлы.
Он был с какой-то шлюхой в номере отеля всего за несколько минут до того, как попросил меня позаботиться о его жене. О женщине, которую я все еще любил.
Только теперь мне открылась истина, повиснув на незримой, туго натянутой струне наших встречных взглядов в ту минуту, когда я прервал объятия и оттолкнул от себя Ранджита. Да, я продолжал любить Карлу. Понадобился запах чужой женщины на его коже, чтобы я наконец признал правду, два года кругами ходившую поблизости, как рыскает волк вокруг лесного костра.
Я в упор смотрел на Ранджита, думая об убийстве и одновременно испытывая жгучий стыд перед Лизой: взрывоопасная смесь, скажем прямо. Он неловко переминался с ноги на ногу, пытаясь по взгляду угадать мои намерения.
– Что ж… о’кей, – сказал он и сделал шаг назад. – Пожалуй, я пойду…
Я проследил за тем, как он выходит из дверей отеля и забирается на заднее сиденье «мерседеса». Перед тем как захлопнуть дверцу, он тревожно огляделся – то был взгляд человека, слишком часто и слишком легко наживающего врагов.
Я посмотрел на Лизу, которая в этот самый момент здоровалась за руку с молодым человеком, подошедшим к их столику. Я знал, что Лизе он неприятен. Однажды она охарактеризовала его следующим образом: «Очень скользкий тип – еще более скользкий, чем кальмар, когда нащупаешь его в кармане прорезиненного плаща дождливой ночью». Будучи сыном крупного торговца алмазами, он покупал себе все большее влияние в киноиндустрии, мимоходом растаптывая карьеры и судьбы многих людей.
Он поцеловал руку Лизе. Она не позволила поцелую затянуться, но улыбка ее была прямо-таки лучезарной.
Как-то раз она сказала мне, что у каждой женщины есть четыре улыбки.
– Только четыре? – спросил я тогда.
– Первая улыбка, – сказала она, игнорируя мою иронию, – возникает неосознанно, когда, например, ты улыбаешься ребенку на улице или кому-то, кто улыбается тебе с экрана телевизора.
– Я не улыбаюсь телевизору.
– Все люди улыбаются телевизору. Потому мы им и пользуемся.
– Я никогда не улыбался телевизору!
– Вторая, – продолжила она, – это вежливая улыбка. С ней мы приветствуем друзей, когда они приходят к нам в гости или встречаются с нами где-нибудь в ресторане.
– Еда и выпивка за их счет? – уточнил я.
– Ты хочешь меня выслушать или нет?
– Если я скажу «нет», ты разве замолчишь?
– Третью улыбку мы используем против тех, кто нам не нравится.
– Это как понимать: отпугиваем людей улыбкой?
– Так и есть. И это здорово. У некоторых девушек самая лучшая из улыбок именно та, которой они держат других на расстоянии.
– Ладно, верю тебе на слово. Переходим к четвертой.
– Да! Четвертая – это улыбка, которую мы дарим только любимому человеку. Она показывает этому человеку, что ты считаешь его единственным и неповторимым. Никому другому эта улыбка не достается. Пусть тебе легко и хорошо с кем-то, пусть он тебе очень нравится, пусть ты испытываешь к нему самые теплые чувства, но твою четвертую улыбку получит лишь тот, кого ты по-настоящему любишь.
– А если любви приходит конец?
– Тогда исчезает и четвертая улыбка, – сказала она мне в тот день. – Четвертая улыбка уходит вместе с любовью. С той минуты для бывшего бойфренда у девушки остается лишь вторая улыбка, если только он не подлец. Отставные подлецы, какими бы симпатягами они ни были, могут рассчитывать разве что на третью улыбку.
Поглядев на то, как Лиза одаривает молодого продюсера-подлюгу безукоризненной «третьей улыбкой», я отправился в мужской туалет, дабы, помимо уличной пыли, смыть еще и грязь иного рода, осквернившую меня при контакте с Ранджитом.
Помещение туалета, отделанное черной и кремовой плиткой, было просторнее, светлее, элегантнее и комфортабельнее восьмидесяти процентов жилищ в этом городе. Я закатал рукава рубашки, сполоснул водой свои короткие волосы, вымыл лицо и руки до локтей.
Служитель подал мне свежее полотенце, улыбнулся и приветственно закивал.
Одна из величайших загадок Индии – и одна из ее величайших отрад – это искреннее дружелюбие людей из самых низов. Этот служитель не рассчитывал на чаевые; да их и не принято давать в туалете. Он был просто добрым человеком, дежурившим в месте отправления насущных надобностей, и он улыбнулся мне от всей души, как незнакомому, но дорогому другу. Именно эта доброта, исходящая из самых глубин сердца простых индийцев, является истинным флагом этой нации; и она побуждает вас вновь и вновь возвращаться в Индию – или удерживает вас здесь навсегда.
Я полез в карман за деньгами, и вместе с ними рука выудила оттуда серебристый конверт с письмом Кадербхая. Дав чаевые служителю, я положил конверт на широкую стойку рядом с туалетной раковиной, а затем уперся ладонями в ее край и посмотрел в глаза своему зеркальному двойнику.
Я не хотел читать это письмо; я не хотел убирать валун от входа в пещеру, куда я упрятал бо́льшую часть своего прошлого. Но Тарик говорил, что в письме упоминается Шри-Ланка. Хотя бы поэтому я должен был его прочесть. Я заперся в одной из кабинок, поставил саблю в угол у двери, сел на крышку унитаза и начал читать письмо Кадербхая.
Сейчас я держу в руке синий стеклянный шарик вроде тех, что используются англичанами в детских играх, и думаю о Шри-Ланке, а также о людях, которые поедут туда от моего имени. Ты обещал сделать это для меня. Уже долгое время я смотрю на этот стеклянный шарик после того, как случайно его заметил и подобрал с земли. Посредством таких вот хрупких мелочей и едва уловимых намеков нам открывается смысл нашей жизни. Каждый из нас формирует свою коллекцию вещей, которые мы находим, изучаем, оцениваем и храним внутри себя, сознательно или неосознанно; эта коллекция и есть то, чем мы становимся в конечном счете.
Я добавил тебя к моей коллекции, Шантарам. Ты – один из узоров в рисунке моей жизни. Ты мой возлюбленный сын, один из моих возлюбленных сыновей.
Мои руки начали мелко дрожать – то ли от гнева, то ли от горя, я и сам не знал. До сих пор я не позволял себе оплакивать Кадербхая. Я не посещал его могилу на кладбище Марин-Лайнз. Я знал, что в той могиле нет его тела, потому что сам помогал его хоронить.
Лицо мое лихорадочно горело, а к затылку будто приложили лед. «Мой возлюбленный сын…»
Наверно, ты меня возненавидишь, узнав обо мне всю правду. Прости меня, если сможешь. Эта ночь кажется мне бесконечной. Думаю, если раскрыть абсолютно всю правду о любом человеке, всегда найдется что-нибудь, за что его можно возненавидеть. И со всей честностью, необходимой для такого послания, которое я пишу в ночь перед нашим с тобой отъездом на войну, я должен сказать, что ненависть некоторых людей ко мне вполне обоснованна. Но сейчас я посылаю к чертям всех моих ненавистников.
Я был рожден для того, чтобы оставить это наследство. И я должен был сделать это любой ценой. Использовал ли я людей? Конечно да. Манипулировал ли я людьми? Всякий раз, когда считал это нужным. Убивал ли я людей? Я убивал всех, кто становился препятствием на моем пути. И я пока еще не пал в этой борьбе; я терплю и становлюсь сильнее, когда все вокруг меня рушится, потому что я следую своему предназначению. В моем сердце я не сделал ничего дурного, и мои молитвы искренни. Надеюсь, ты сможешь меня понять.
Я всегда любил тебя, с первой же нашей встречи. Помнишь ту ночь, когда мы вместе слушали Слепых певцов? Это такая же правда, как и все плохое, что ты обо мне когда-нибудь узнаешь. Я совершал дурные поступки, и я открыто это признаю. Но и все хорошее – тоже правда, включая и то, что мы не можем увидеть в реальности, но чувствуем сердцем и храним в памяти. Я избрал тебя, потому что я тебя полюбил; и я люблю тебя потому, что ты мною избран. В этом и есть вся правда, сын мой.
Если Аллах призовет меня к себе и ты прочтешь эти строки уже после моего ухода, это не повод для печали. Мой дух пребудет с тобой и с твоими братьями. Ты не должен бояться. Я всегда буду рядом с тобой. Если ты попадешь в беду, лишишься всего и останешься один против множества врагов, ты ощутишь мою отцовскую руку на своем плече и поймешь, что мое сердце бьется рядом с твоим в этом сражении. То же касается всех моих сыновей.
Пожалуйста, сделай так, чтобы моя душа могла соединиться с твоей в молитве, пусть даже ты далек от религии. Постарайся каждый день находить момент хотя бы для самой краткой молитвы, и в такие моменты я смогу тебя навещать.
И запомни мой последний совет. Люби правду, которую ты найдешь в сердцах других. Всегда слушайся голоса любви в своем сердце.
Я сложил письмо и засунул его в бумажник. Над кармашком выступал край письма со словами «синий стеклянный шарик»; и сердце мое заколотилось, как при беге в крутой подъем.
Я увидел его смуглую руку в лучах вечернего солнца. Я увидел сопровождавшую его речь игру длинных тонких пальцев, похожую на плавные движения диковинных морских существ. Я увидел его улыбку. Я увидел свет его мыслей, струящийся из янтарных глаз и преломляющийся в прозрачной синеве стеклянного шарика. И я наконец-то смог его оплакать.
На какой-то миг я увидел нас обоих, названого отца и покинутого сына, где-то за пределами этого грешного мира: в месте прощения и искупления.
Попытка избавиться от любви есть грех против самой жизни, тогда как скорбь по усопшим – это один из способов выразить любовь. Когда я это почувствовал, я наконец-то дал волю своей скорби. Я вспоминал магнетическую силу его взгляда; вспоминал гордость, которую я испытывал, заслужив его похвалу; вспоминал любовь, звучавшую в его смехе. И я оплакивал свою утрату.
Я услышал глухой бой барабана, как будто наполненного кровью. Внезапно меня бросило в жар, дыхание стало тяжелым и хриплым. Я судорожно схватился за саблю. Надо было уходить отсюда. Срочно подниматься и уходить.
Но я опоздал: вся горечь, которая накапливалась во мне годами, сдерживаемая только плотиной гнева, прорвалась наружу потоком слез. Помимо всего прочего, это было весьма шумно.
– Сэр? – через минуту-другую после начала моих рыданий позвал с той стороны дверцы служитель. – Вам подать новый рулон туалетной бумаги?
И тут я рассмеялся. Бомбей спас меня, как много раз до того спасала меня Она.
– Все в порядке, – откликнулся я. – Спасибо за заботу.
Я покинул кабинку, пристроил саблю на вешалке для полотенец и умылся холодной водой. Взглянул на себя в зеркало: жалкое зрелище, но мне случалось выглядеть и похуже. Дав добрейшему служителю добавочные чаевые, я вышел в холл и направился к Лизе.
Она была уже в одиночестве, стоя перед застекленным фасадом и глядя сквозь него на море, покрытое серебряной штриховкой волн. А со стекла глядело ее отражение, пользуясь возможностью полюбоваться на свой оригинал. В стекле она и заметила мое приближение.
День у меня выдался не из легких: велокиллеры, совет мафии, Ранджит с Карлой и вдобавок назревающая поездка в Шри-Ланку. Тот еще денек, что и говорить.
Она обернулась и тотчас все поняла по моему лицу: там были и скорбь, и не изжитая до сих пор любовь.
Я уже начал что-то объяснять, но она приложила палец к моим губам, а затем поцеловала меня. И вновь все вернулось на круги своя, до поры до времени. Нашу связь никак нельзя было назвать гармоничной: Лиза не была влюблена в меня, а я не мог любить ее. Но по ночам нам было хорошо друг с другом, как зачастую и при свете солнца; и никто из нас не чувствовал себя используемым или нежеланным.
Мы молча смотрели на океанские волны, катившиеся от берега. На поверхности оконного стекла отражались сновавшие туда-сюда официанты с подносами, и возникало впечатление, будто они бегут по волнам. Темное небо вдали сливалось с морем, растворяя линию горизонта.
Когда приходит твой час и тебе некого умолять или винить, ты понимаешь, что к финалу своей жизни все мы приходим, имея лишь малую толику сверх того, с чем мы появились на свет. И эта малая толика, добавленная к нашей изначальной сущности, и есть наша личная история, принадлежащая только нам самим, а не рассказанная кем-то еще.
Кадербхай добавил меня к своей коллекции, как говорилось в его письме. Но теперь коллекционер был мертв, а я так и остался одним из экспонатов в криминальном паноптикуме, который он сотворил и оставил в наследство этому миру. Санджай походя использовал меня как пробный шар для проверки нового канала поставок оружия, и вот тогда-то я наконец понял: пора покинуть коллекцию и вновь обрести свободу, причем как можно скорее.
Лиза взяла меня за руку. Так мы с ней и стояли перед стеклянной стеной: два призрачных отражения, наложенные на бескрайний морской простор.
Часть 2
Глава 9
Истории физических и душевных ран, полученных в семи войнах и репрессивных кампаниях, заполняли страницы биографических справок на моем столе в паспортной мастерской.
Иранский профессор, специалист по текстам доисламской эпохи, бежал от преследований Стражей Исламской революции и теперь нуждался в полном наборе подделок, включая свидетельство о рождении, международные водительские права, банковские документы и паспорт с визовыми печатями, подтверждающими его перемещения по миру в течение последних двух лет.
Качество наших изделий должно было обеспечить клиенту беспрепятственное прохождение паспортного контроля перед посадкой в самолет. В дальнейшем, по прибытии в нужный заграничный аэропорт, он планировал избавиться от фальшивых документов и попросить политическое убежище под своим настоящим именем.
Следы перенесенных пыток были очень заметны, но приходилось идти на риск с поддельным паспортом, поскольку никакие власти не выдали бы ему подлинный – кроме властей той страны, где по нему плакала тюрьма.
Следующим по порядку был нигериец, один из лидеров движения огони[35]35
Огони – народ, проживающий на юго-востоке Нигерии и многие десятилетия ведущий борьбу против центральных властей и транснациональных корпораций, деятельность которых привела к экологической катастрофе на этой территории.
[Закрыть], выступающих против хищнической эксплуатации их земель правительством в сговоре с нефтяными корпорациями. Его пытались ликвидировать, однако он выжил после покушения и в трюме грузового судна добрался до Бомбея – без документов, зато с приличной суммой, собранной его соратниками. Так что он смог откупиться от портовой полиции, которая и направила его к нам. Для безопасности ему нужно было сменить имя и гражданство, оформив соответствующий паспорт.
Далее: тибетский националист, сбежавший из китайского трудового лагеря и через покрытые снегом горы пешком добравшийся до Индии. В Бомбее община тибетских эмигрантов снабдила его деньгами и связала с нужными людьми в Компании Санджая для получения новых документов.
На очереди были также афганец, иракец, курдский активист, сомалиец и два гражданина Шри-Ланки – все они спасались от кровавого безумия, которое было развязано не ими и в котором они не желали принимать участие.
Впрочем, войны очень даже хороши для всякого нехорошего бизнеса, а наша клиентура состояла отнюдь не только из хороших людей. Компания Санджая бралась за любое дело, сулившее прибыль. Среди прочих мы обслуживали дельцов-махинаторов, скрывавших теневые доходы; подонков всех мастей, желавших «обнулить» свою дурную репутацию ради создания не менее дурной уже с чистого листа; военных преступников вплоть до самых высоких рангов; псевдомертвецов, по разным причинам инсценировавших свою смерть, и т. п. – в нашей фирме любой имеющий средства мог купить себе новую личность.
Один документ лежал на столе особняком от прочих. Это был канадский паспорт с моей фотографией и проставленной ланкийской визой. К паспорту прилагалось журналистское удостоверение агентства Рейтер.
Помогая разным людям спастись от войн и кровавых режимов, я в то же время готовил документы для собственной поездки в самую гущу конфликта, уже унесшего десятки тысяч жизней.
– Вы действительно читаете все эти записи? – спросил мой новый помощник, беря со стола биографическую справку нигерийца.
– Да.
– Все до единой?
– Да.
– В самом деле? Я к тому… ведь это очень тягостное чтиво.
– Так и есть, Фарзад, – согласился я, не глядя на него.
– Такие вещи угнетают даже больше, чем чтение газет.
– То же самое можно прочесть и в газетах, если смотреть не только биржевые сводки и спортивные новости, – сказал я, все еще не отрывая глаз от текста.
– Конечно, я все понимаю. Повсюду полно жуткого депрессивного дерьма, йаар.
– Да уж…
– Я хотел сказать, что ежедневным чтением таких сводок человек может вогнать себя в глубокую депрессию, и ему порой просто необходимо сделать паузу и переключиться на что-нибудь позитивное. Будьте уверены.
– О’кей, – сказал я, откладывая недочитанную справку. – И в чем проблема?
– Проблема?
– Если в конце твоего потока сознания есть какой-нибудь океан, впадай в него поскорее. Хватит переливать из пустого в порожнее.
– Океан? – переспросил он озадаченно.
– Я о сути вопроса, Фарзад. Переходи к сути.
– А, – улыбнулся он, – суть вопроса. Ну да. У меня и вправду есть что-то вроде вопроса, даже можно сказать – просьбы. Будьте уверены.
Несколько секунд он смотрел на меня, а затем отвел глаза и начал пальцем рисовать круги на полированной столешнице.
– Собственно… – продолжил он наконец, все еще избегая моего взгляда, – я все пытаюсь найти способ пригласить вас… пригласить к себе домой… познакомить с моими родителями.
– Это и есть твой океан сути?
– Ага.
– Но почему ты не спросил меня прямо, без околичностей?
– Видите ли… – сказал он, меж тем как круги на столешнице становились все меньше и меньше, закручиваясь спиралью, – говорят, что к вам непросто подступиться.
– Непросто? Почему?
– Ну, типа вы угрюмый ворчун, йаар.
– Что?! – рявкнул я. – Это я-то угрюмый ворчун?
– Ох, так и есть.
Мы уставились друг на друга. В цехе за перегородкой с подвывом включился большой печатный станок и забормотал на своем языке, в котором металлические щелчки перемежались шуршанием валиков, то отходящих, то прижимающихся к барабану.
– Кто-нибудь когда-нибудь уже говорил, что хреново ты умеешь приглашать в гости?
– Вообще-то, – рассмеялся он, – это первый случай за многие годы, когда я приглашаю кого-либо в дом родителей. Наша семья живет довольно-таки… уединенно, если вы меня понимаете.
– Я отлично понимаю, что значит уединение, – сказал я со вздохом. – Это именно то, чем я здесь наслаждался, пока не прислали тебя на мою голову.
– Но… вы к нам придете? Мои предки очень хотят с вами познакомиться. Мой дядя Кеки много о вас рассказывал. Он говорил, что…
– …что я угрюмый ворчун. Знаю.
– Да, и это тоже. Еще он говорил, что вы сильны по части философии. Говорил, что Кадербхай предпочитал вас всем другим собеседникам, когда ему хотелось поговорить и поспорить на философские темы. А у моего отца это любимый конек. Как и у мамы – у нее даже в большей степени. И вся наша семья часто устраивает философские дискуссии. Иногда набирается до трех десятков спорщиков.
– Вас там что, целых три десятка?
– У нас… вроде как… большая семья. Это сложно описать. Вы должны увидеть ее своими глазами. То есть увидеть нас. Скучно не будет, это я вам гарантирую. Ни в коей мере. Будьте уверены.
– А если я соглашусь навестить твое неописуемое семейство, ты оставишь меня в покое и позволишь сейчас заняться делами?
– Это означает согласие?
– Да, в один из ближайших дней.
– Правда? Вы к нам придете?
– Будь уверен. А теперь выметайся отсюда. Дай мне закончить с этими документами.
– Классно! – завопил он, исполнив пару танцевальных движений бедрами влево-вправо. – Я передам папе, и он назначит один из дней на этой неделе. Обед или ужин! Классно!
Еще раз просияв улыбкой, кивнул и исчез за дверью.
Я вновь придвинул к себе папку с биографией нигерийца и занялся сотворением новой документированной личности. В моем блокноте постепенно вырисовывалась куда более спокойная и благополучная, но полностью вымышленная жизнь.
В процессе работы я выдвинул ящик стола с фотографиями заказчиков – счастливцев, которые не были застрелены, утоплены или брошены в тюрьму при попытке добраться до лучшей жизни. Мой взгляд задержался на этих лицах, после всех войн и пыток приведенных в относительно благообразный и вымученно-спокойный вид ради снимка в фотостудии при нашей паспортной мастерской. Когда-то давным-давно люди свободно бродили по миру, пользуясь изображениями богов или земных властителей для гарантии безопасного перемещения. А нынешний мир, как сыпью, усеян пропускными пунктами, и мы таскаем повсюду изображения самих себя, притом что безопасность никому не гарантирована.
По большому счету Компанию Санджая интересовало только одно: черный нал. Не секрет, что любой черный рынок в мире является продуктом тирании, войн или драконовских законов. В месяц мы выпускали от тридцати до сорока паспортов, лучшие из которых продавались по двадцать пять тысяч долларов за штуку. «Воспринимай войну как бизнес, – однажды сказал мне Санджай, и глаза его алчно сверкнули, будто пара свежеотчеканенных монет, – а бизнес воспринимай как войну».
Закончив составление фальшивых биографий для клиентов, я собрал бумаги и снимки, чтобы отнести их в цех, а свой новый паспорт, приготовленный для поездки в Шри-Ланку, забросил в средний ящик стола. Я знал, что рано или поздно придется передать его для доработки моим лучшим фальсификаторам, Кришне и Виллу, которые, по иронии судьбы, как раз являлись беженцами из Шри-Ланки. Но пока что я не был готов к такому путешествию.
Я нашел Кришну и Виллу спящими на кушетках в самом тихом углу цеха, подальше от печатных станков. Самозабвенно колдуя над новыми паспортами, они часто забывали о времени и проводили за работой сутки напролет, так что я распорядился установить для них эти кушетки.
Я постоял над ними, прислушиваясь к храпу, который то сливался в рокочущий унисон, то вновь распадался на свистящие вздохи и хрипы. Их руки были вытянуты вдоль туловища открытыми ладонями вверх, получая благословение сна.
Два других работника цеха были ранее отправлены мной с поручениями, и все оборудование в мастерской было выключено. Я еще какое-то время постоял в этом мирно храпящем углу, невольно завидуя Кришне и Виллу.
Они прибыли в Бомбей как беженцы и поначалу ютились со своими семьями под навесом на улице. Но сейчас их работа на Компанию хорошо оплачивалась, и это позволило им с родней перебраться в благоустроенную квартиру неподалеку от мастерской. Они располагали безупречными документами, которые сами же изготовили, но по-прежнему жили в страхе перед депортацией на родину.
Там остались их близкие и любимые люди, которых им, вероятно, не суждено было увидеть или услышать вновь. Тем не менее эти двое после всех перенесенных ими лишений и ужасов спали безмятежным сном, как младенцы.
Я никогда не спал так спокойно. Кошмары терзали меня слишком часто и слишком жестоко. Каждое мое пробуждение сопровождалось судорожными рывками, как будто я пытался избавиться от пут. Лиза давно усвоила, что самый безопасный для нее способ спать в одной постели со мной – это обнять меня покрепче и оказаться внутри того круга сновидений, который стремилось разорвать мое спящее сознание.
Я оставил стопку документов на столе Кришны и тихо поднялся по деревянной лестнице. Покидая мастерскую, я запер дверь снаружи, зная, что у них есть свои ключи.
Накануне мы с Лизой договорились посетить клинику в трущобах, а потом пообедать вместе. Она подружилась с аптекарем в нашем районе и раздобыла у него несколько коробок с дефицитными медикаментами. Коробки уже находились в кофрах моего байка, и теперь оставалось заехать за Лизой, попросившей меня свозить ее в трущобы.
Я двигался вместе с неторопливым полуденным потоком машин, никого не обгоняя, – иногда езда без спешки в ясную погоду есть само по себе удовольствие.
В зеркале заднего вида возник полисмен на таком же мотоцикле, что и мой. Вскоре он со мной поравнялся. Судя по фуражке и револьверу в кожаной кобуре на боку, это был старший офицер, а не простой патрульный. Он поднял левую руку и двумя вытянутыми пальцами указал мне в сторону обочины.
Я съехал с дороги и остановился позади полицейского мотоцикла. Коп поставил свой байк на боковую подножку, перекинул ногу через сиденье и повернулся ко мне. Держа правую руку на кобуре, он чиркнул левой ладонью по своему горлу: приказ глушить мотор. Я так и сделал, но с мотоцикла не слез.
Я был спокоен. Полицейские останавливали меня время от времени, и обычно это сводилось к недолгим объяснениям или взятке. На такой случай я всегда держал в кармане рубашки скрученную в трубочку купюру в пятьдесят рупий. Это было в порядке вещей. И я мог понять копов: получая слишком мало денег за свою рискованную работу, они взимали с населения то, что им недоплачивало государство.








