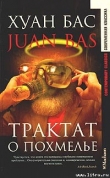Текст книги "Похмелье"
Автор книги: Грант Матевосян
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)
– Геворг ты, земляк? – сказал мне этот парень. – Я стукнул тебя?
– Ничего, – сказал я, – ничего, так вышло, бывает.
– Ну да.
Мы выпили, опорожнили эти грубые стаканы. И со стаканами в руках подождали чего-то, что ещё должно было случиться. Какой-то знакомый-незнакомый привкус прилип к губам, я хотел его стереть языком – не получилось. И это было неприятно.
– Пойду, – сказал он. – Прошу извинить меня.
И, когда я ставил стакан на стол, я заметил, что рука моя обёрнута платком. Мой стакан разбился и изрезал мне руку. Край другого стакана, того, что был в моей руке, был запачкан, но не в вине и не в крови, это была губная краска, помада. Это был стакан так называемой Нади, и помада была её. Когда меня толкнули, я ударился спиной о её огромные груди или живот. Её влажная мягкая рука была неприятна.
Мы вышли все из комнаты Виктора Игнатьева. В коридоре, из нескольких точек сразу, раздавался стук пишущих машинок. Было слышно, как поэты переходят к новой строчке – тахк! Из комнаты вышла, прикрыла за собой дверь, выпрямилась и пошла, стала спускаться по лестнице, не дожидаясь лифта и игнорируя нас, высокая и здоровая приятельница Джона Окубы. Измочаленный, как сухая резина, негр сейчас валяется на постели и не может собрать себя. Мы все на секунду сделались жалкими и застеснялись друг друга. Я поёжился.
– Мой чернявенький, – сказал мне в лифте Максуд, – простудишься, мой южанин, иди домой, мы сейчас вернёмся.
Было четыре часа ночи. У вахтёрши забирала свой паспорт высокая, очень здоровая девушка, её замшевая куртка… она положила паспорт в сумку, продела руки в перчатках в рукава шубы и подождала, чтобы мы распахнули перед ней дверь. Это был молчаливый приказ. С секунду никто из нас не двигался, потом мы все вместе схватились за дверь. Она вышла. Я резко отдёрнул руку и засунул глубоко в карман. Воспоминание о Еве Озеровой кольнуло моё сердце, и было предательством – расстилаться так по-рабски перед какой-то удовлетворённой женщиной… мы вышли, холодный пар мгновенно окутал меня с ног до головы, как будто я был голый, и показалось даже, что этот холод, только он и удерживает на мне одежду, со всех сторон подпирая её.
– Интересно, Игнатьев в пальто ушёл или так? – Они шли впереди меня, я не понял, кто это сказал.
Я вернулся, вошёл в здание. По короткому взгляду дежурной вахтёрши я понял, что она думает о нас, – она думает о нас с точностью и краткостью газетных сводок, она думает, что напрасно государство переводит на нас хлеб и что зарплата её и сидение тут – тоже вещи непонятные. В эту минуту эта женщина совершенно твёрдо уже знала, что в юношестве Александр Сергеевич Пушкин был испорченным молодым человеком, и стихи его, наверное, – полнейшая глупость, и в школе их всех обманывали. Столик для писем был пуст. Лифт был заперт. Я по привычке оглянулся на дежурную, а она только этого и ждала, чтобы нагрубить. Но она сказала совсем не то, что хотела, она сказала:
– Четыре часа ночи, дайте бедному лифту отдохнуть.
Я поднялся на свой этаж, унося с собой слово, которое она не произнесла, – дармоед. По всему коридору стоял перестук машинок. Поэты нанизывали строчку, нанизывали другую, вот так:
Нанизывали строчку – тахк!
Нанизывали другую строчку – тахк!
Нанизывали следующую строчку – тахк!
Ещё строчку – тахк!
И – ещё, последнюю…
Моя дверь была заперта. Ключа с собой у меня не было. Это была моя комната, 167-я. Ключа моего у меня с собой не было. В комнате Виктора Игнатьева, на столе – на письменном столе – в шкафу – на подоконнике – на постели – на стуле – на полу – нигде ключа не было. Под кроватью было грязно, я не хотел бы, чтобы мой ключ был там. Я вернулся, встал против своей 167-й комнаты. В моих карманах… в карманах ключа не было… в моих карманах… в кармане пальто было только письмо Асмик, в этом письме – расплывчатая улыбка моего сына, его хныканье, якобы узнавание матери и сестры будто бы – тоже, «боже мой, до чего хороша эта собачка». Я толкнул дверь. Она была закрыта. Я потряс её. 167. Закрыта. Надо заставить себя и пошарить под кроватью Виктора Игнатьева, среди мусора. Надо попросить у бодрствующих поэтов из 160-й, 161-й, 162-й, 163-й, 164-й, 165-й, 166-й, 168-й, надо взять у них ключи и попробовать открыть.
Нанизывали строчку стихотворения – тахк!
Нанизывали вторую – тахк!
Нанизывали третью строчку – тахк!
Ни к чёрту негодны:
Шекспир, Толстой – тахк-тахк!
Один только я…
Тысяча – тысяча строк – тахк, тахк, тахк…
Я стукнул ногой по своей двери.
– Кто там? – сказали изнутри.
В замочную скважину ничего не было видно – внутри было темно и тихо, из тёмной тёплой комнаты через замочную скважину вытекал какой-то очень родной запах: яблоки, присланные отцом, гранаты касахского азербайджанца, грубые пальцы моей матери.
– Ч-чёрт! Открой дверь!..
– Кто это? – спросил женский голос.
– Здесь я, а там – кто?
– Ты кто?
– Я – это я! Откройте дверь сию минуту!
– Ты – кто?
– А ты, интересно, кто? – наверное, она там с мужчиной, заговаривает мне зубы, тянет, чтобы выгадать время, чтобы успеть одеться. Я стукнул ногой по этой 167-й двери. Ключ вошёл с той стороны в замок, повернулся, но дверь не открылась, ключ ещё раз повернулся в замке – дверь не открылась.
– Не открывается.
– Не моё дело, открывайте как хотите.
Я надавил на дверь плечом, и дверь подалась, в полутьме я налетел на чьё-то большое и мягкое тело, и нос мой уткнулся в женское лицо. Я зажёг свет – это была смуглая женщина, она снова запирала изнутри дверь. И было стыдно.
– Хоть бы свет зажгла, – сказал я.
– Что он сейчас делает?
– Откуда я знаю? Про кого ты?
– Ну, Саша.
– Саша – твой муж?
– Был.
– Саша ушёл.
– Совсем ушёл?
– Не знаю. Ушёл.
– Ты видел, как он уходил?
– Видел.
– Очень он был грустный?
– А тебе что?
– Бедняга он, бедный парень.
– Да, – сказал я, – столько бил, что руки у этого бедняги заболели. – Я посмотрел – она опиралась на стол с яблоками и глядела в землю, вдавив подбородок в пальцы и что-то шепча, наверное, «бедный парень». Высокие сапожки плотно обхватывали её пузатые икры.
– Если пойдёшь, догонишь, в такой час машин не бывает, ждёт, наверное, на улице.
От того, что она опиралась на стул, платье её задралось, обнажило толстую ляжку. Одна толстая ляжка примыкала к другой толстой ляжке, и вместе эти две ляжки составляли площадь необыкновенно широкую. И вдруг совершенно иной смысл обрели просьбы этого Саши, уговаривающего её вернуться домой. Глядя на эти ляжки, стала понятна и его жажда избиения. Я пошёл закрыть форточку. Было неприятно видеть на её ногах застёжки от пояса. Я закрыл форточку, прислонился к окну и проворчал:
– Сейчас машины не найти. Ты не сможешь сейчас уехать.
За моей спиной было молчание, облокотившись на стол, она тихо сказала, я её расслышал:
– Как пахнет хорошо, чем это пахнет так?
Уткнувшись в оконное стекло.
– Яблоки, – прошептал я, – отец прислал из дому.
– Съешь яблоко, – сказал я ей.
– Сколько у тебя детей? – задумчиво спросила она.
– Двое, – машинально ответил я, – двое, – повторил я машинально, – мальчик и девочка.
Она грустила, зажав подбородок между пальцами, а эта ширина ляжек как будто не ей принадлежала. Она вздохнула. Было стыдно смотреть ей в глаза, и был понятен её вздох и вся эта дневная и ночная грязь… Она вздохнула и откинулась от стола:
– Пойду, – гора яблок развалилась и рассыпалась по полу.
– Ты… что это? – но в следующее мгновение я уже ползал по полу и моей ярости как не бывало. – Ничего, сейчас всё соберу, – я ползал на коленях, подбирая яблоки. Она наклонилась и тоже подбирала с земли по яблоку, колени её были широкие и блестели, я всё собирал яблоки, ползал так на коленях, я подобрал наконец все яблоки, дополз до ножки стола, яблоки еле помещались у меня в охапке, она, наклонившись, подобрала ещё одно последнее яблоко, она смотрела на пол, на яблоки, на яблоки у меня в руках, к то, что она не глядела на меня, а я видел только её щеку, её косу, её плечо, её спину, её колено, и мне не было стыдно – всё это делало возможным и даже вроде бы естественным вот сейчас прямо взять и напасть на неё. И это нападение было бы не на человека, а на тело.
Буркнув какую-то глупость, что-то вроде «на тебе в подарок», Геворг Акопович Мнацаканян все присланные своим отцом Акопом яблоки, те яблоки, чей аромат, свисая с веток, опускается на грядки укропа и лоби, и живут в этом аромате под солнцем – укроп, лоби и два дубка, а возле дверей, окутанный этим ароматом, стоит мой отец и отделывает рубанком дерево – Геворг Мнацаканян высыпал эти яблоки этой женщине в подол и снова рассыпал их по полу – на, мол, тебе в подарок, и, опустив голову, чтобы не видеть глаз этой женщины, он обнял это тело, прижал это тело к себе и повалился с ним вместе на пол.
– Ты что это делаешь?! – и потому что голос этой женщины был встревоженный, он уткнулся лицом в её тело, чтобы не видеть её глаз.
Женщина оттолкнула его голову, он льстиво взмолился:
– Дорогая!
– Отпусти меня! – А он в это время обещал подарить ей Ереван, Тегеран, Арабстан и бог знает что ещё. Женщина прислушалась к себе, встрепенулась и сказала жалобно: – Отпусти же меня! – А он тут же с каким-то непонятным восторгом наврал, что давно влюблён в неё и драку затеял из-за неё, потому что влюблён и, раздирая на ней платье, наврал ещё чего-то с три короба.
– Дай хоть разденусь, – сказала в сердцах женщина.
– Ничего, ничего, – зашептал он.
Затрещала ножка стола, с шумом посыпались яблоки, и женщина, безучастная, подчинилась. Лицо её скорчилось в гримасе, она молча плакала. И было оскорбительно, что женщина остаётся безучастной. За дверью послышались чьи-то голоса. Да, послышались голоса, и в дверь постучали, и даже толкнули её. И они на полу замерли неподвижно.
В дверь стучали.
– Что такое?
– Извините, – голос был женский, – гостей нету? Светает уже, пора гостям домой.
– Гости есть, тысяча голых женщин, дайте время, чтобы оделись.
– Извините. Надя, Надежда Мансурова пришла в 175-ю, а в 175-й никого нет.
– А я при чём, мне что докладываете, дайте спать.
– Извините, у вас горел свет…
Было тихо, лицо этой Нади исказилось, а виски сделались горячими от слёз, чужие шаги удалились. Было такое чувство, будто удаляются пустые ботинки. Дежурная была немолодая женщина, она боялась коменданта. Комендант в общежитии был начальник тюрьмы в прошлом.
Этот грязный пол. Эти рассыпавшиеся по полу яблоки. И треснувший гранат на полу, и эти резинки от пояса на чулках. И грубость пуговиц. И металлические застёжки на мягком человеческом теле, и высокие сапоги на ногах. И покосившаяся ножка стола. И то, что ударила по голове костяшками пальцев, отталкивая, это изнасилование одежды. Озерова Ева, в бильярдной, стояла, прислонившись к стене. И то, как они с отцом зарезали козу для шашлыка, содрали шкуру, разделали всю и отдирали сердце и почки – в потрохах что-то зашевелилось, и это был козлёночек в чреве. И жуткое, безобразное предупреждающее блеяние козы под занесённым ножом. А хулиганьё налетало на беженок, налетало, раздевало, сопровождающий старый солдат отворачивался, а хулиганьё заставляло голых женщин нагнуться и своими грязными ногтями хулиганьё доставало, случалось, обручальное кольцо или золотую монету. И то, что про это поставлены в известность чиновники и таможенные служащие. И работники таможни смотрят на красавиц с грязной ухмылкой.
Он привалился к письменному столу, уронил голову на стол. И прошептал:
– Чего ты ещё ждёшь, встань и убирайся отсюда, – и он не понял, кому он это говорит, себе или женщине.
Позже он понял, что говорил все это по-армянски. Он прошептал снова «чего ты ждёшь»… и увидел, что говорит по-армянски. А перед его глазами очень близко, до невидного близко, на белой бумаге появлялись и исчезали, снова появлялись и снова исчезали какие-то непонятные словосочетания: «К голому склону Синей Горы прилепился можжевеловый куст и зовёт за собой лес, что в балке…» Он поднял голову и посмотрел на окно, на листки бумаги, на гвоздь в стене, на потолок, на пальто, на дверь. Его взгляд коснулся и обошёл женские сапожки. За крышами в холодной мгле поднималась с воем и мёртвой твёрдостью телевизионная башня. Женщина сидела на его постели, уронив руки на колени, она шевелила пальцами рук и смотрела на эти пальцы. Общая крыша города уходила, уходила вдаль до светлеющей дальней мглы. Несколько окон в ближних зданиях излучали красноватый влажный свет. Значит, окна запотевшие были. Миллион мужчин и женщин, мужей и жён, стариков и старух, провинциальных гостей и местных красавиц, этаж на этаже, третий этаж, четвёртый этаж, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый этажи, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, коробка на коробке и древесная вошка, извечная борьба древесной вошки с масляной краской. На столе в раздевалке сидела девушка, красивые длинные ноги этой девушки… а она надела свою шубку в это время и поднимала воротник этой шубки, а я надевал своё твёрдое пальто, она обратила ко мне взгляд, и взгляд этот был как нож, но она в одно мгновенье совладала с собой и улыбнулась через силу, потому что не дала себе права так смотреть на меня. И вот эта теперь, на моей постели, может быть, они подруги, может быть, знакомые, как я скажу ей, господи боже мой, как я смогу сказать ей: «Здравствуй, Ева…».
Я сказал что-то и услышал сказанное мной много времени спустя и повторил:
– А башня всё растёт.
Отвернувшись к стене, она ответила что-то и замолчала. И сказала – и я увидел по профилю, что она улыбается:
– А яблоки всё же надо собрать.
– А башня всё растёт.
Я начал подбирать яблоки. И было трудно наклоняться каждый раз за каждым яблоком. Но это было хоть какое-никакое занятие и предлог смотреть всё время на пол, на стол, на яблоки. Она толкнула ко мне ногой яблоко, и я смог поднять голову и посмотреть на неё. Она смотрела на меня, скрестив руки под грудью и улыбаясь. Она зевнула, поёжилась и прошептала отчуждённо:
– Холодно.
И в эту минуту я сумел сказать:
– Прости меня. Прости меня, пожалуйста, Надя.
Она отвела взгляд и зевнула или сделала вид, что зевает.
– Я сейчас выйду, а ты раздевайся, ложись в моей постели.
– А ты?
– Я днём спал.
Она посмотрела на меня и подождала, и я понял, что она ждёт, чтобы я вышел из комнаты, я пошёл к двери и сказал:
– Бельё чистое, вчера менял.
– Ничего, – сказала она, – я посплю немного, да? – Но были деланными и улыбка её, и то, как она просила.
Стрелка электрических часов при моём взгляде прыгнула и задрожала. Вода в душе, наверное, уже горячая. Коридор пуст из конца в конец. Какая-то одна машинка в одной комнате стучала с большими перерывами – или тот, кто стучал на ней, был усталый, или же писал прямо на машинку. Что-то хорошее, во всяком случае, я сделал. Дал возможность этой девушке спокойно раздеться и забраться в постель. Сейчас она ляжет, устроится поудобнее, я возьму полотенце и твёрдый обмылок, спущусь в душ и долго буду мыться, с паром и веником. Завтра, ничего, завтра снова поменяю бельё. Неприятна не влажная её ладонь, не чёрная от краски слеза и даже не насилие, которое произошло, а отсутствие любви. Будь любовь – красивыми были бы и то, и другое, и третье. И даже это насилие над одеждой. Любви в тебе мало, вот оно что. Ты себя не обманывай – бельё меняли вчера и поменяют снова через восемь дней только. Целую неделю, содрогаясь, корежась от отвращения, ты будешь спать в этой постели. Ничего, ляжешь одетый, натянешь на себя пальто. А сейчас ступай в душ и вымойся как следует. В душевой сейчас холодно, цементный пол холоден и кафельные стены холодно поблёскивают, ничего, потом ты пойдёшь, ляжешь в своей постели и подумаешь… Но твоя постель занята, ты пойдёшь, ляжешь в постель Виктора Игнатьева. Под кроватью – грязь, на постели осколки, комната вся пропахла вином. Возьми мыло и жёсткое полотенце…
И даже под одеялом было видно, какие у неё крутые бедра, талия прямо проваливалась, – задержав дыхание, я стоял и раздумывал, где может быть моё жёсткое полотенце. Её одежда лежала на стуле, может быть, моё полотенце осталось под этим платьем? Она, закутавшись по горло в одеяло, удивлённо моргала.
– Что ты делаешь? – глухо спросила она.
– Я? Полотенце потерялось, иду мыться.
– Полотенце у тебя в руках. – Ничего не выражающими глазами она с минуту смотрела на меня, потом зевнула и вытянулась под одеялом.
Полотенце и в самом деле было в моих руках.
– Извиняюсь, – сказал я.
– Ты не потушишь свет?
– С удовольствием.
Я пошёл, чтобы потушить свет, а потом, может быть, так же машинально выйти, чтобы, может быть, спуститься и, может быть, помыться. Она ничего не говорила.
– Запереть тебя? – спросил я.
В темноте она молчала и моргала, я ждал её ответа. И тут в дверь тихонечко постучались, почти что поцарапались. И потому что по всем признакам я был невинен, я свою постель предоставил избитой женщине, а сам с полотенцем в руках иду принять свой утренний душ, а может быть, чтобы обелить себя в собственных глазах, я сказал с весёлой бодростью:
– Кто здесь, входите, пожалуйста. – И с полотенцем в руках сам распахнул дверь.
Это был не тот, кого звали Саша. Это был Эльдар Гурамишвили. Он держал в руках листок бумаги.
– Ты не спал, идёшь мыться. Сейчас вместе пойдём, смотри, что я для тебя нарисовал. – Он вошёл в комнату, зажёг свет и пошёл, сел у письменного стола. – Иди сюда, – коварно и радостно гогоча, он подзывал меня, как вдруг увидел то, что было в постели. Он посмотрел на меня, посмотрел на постель и спросил без слов – что это, или – кто это?
– Тише, – сказал я, – спит. Я пришёл, она спала. Пришёл, смотрю, спит в моей постели. – Он пожал плечами и сказал губами – чёрт знает что.
– Пришёл, смотрю, спит, не мог же я сказать – вставай, уходи.
– Ничего, – сказал он, – протяни как-нибудь до конца занятий. Камац-камац, – сказал он по-армянски и подозвал меня рукой. – Смотри. Для тебя нарисовал. Нравится тебе?
– Нравится.
– Смотри. Значит, так. Это река Риони. В Западной Грузии течёт, по-старому – Пасис. Это, значит, старый Пасис. А Грузия очень большая, знаешь, есть Западная Грузия и Восточная Грузия, Южная Грузия и Северная Грузия. Значит, это река Риони. Самая быстрая река во всём мире. Вот так идёт, вот так уходит. Её невозможно перейти ни на лодке, ни через мост, ни на самолёте, ни по канатной дороге. Такая она быстрая. Это вот туристы, по профсоюзной путёвке исходили всю страну и Армению тоже, а теперь пришли сюда и очень хотят перейти на тот берег, но это невозможно, ни на лодке, ни на парашюте. А я, значит, на том берегу, это мой дом, я сам его построил и место сам выбрал, про это место, Геворг, только я один знаю. В самом деле – такое место есть, как только появятся деньги… Дом я построил из булыжника, из реки достал вот так, видишь, камень к камню. В доме всего одна комната, одна дверь, три окна – на восток, на запад и на юг. Вот дверь, дверь открыта. Жарко. Я сижу у крыльца. Это мой забор. Я сам прибил все гвоздики. А это – кукуруза, я посадил кукурузу. Кукуруза выросла, уже желтеет. Куда ведёт эта тропинка между кукурузами? Ведёт к уборной, а это другая маленькая уборная, вот в этом углу, я сам построил её для детей. Детей сейчас нет дома, дети ушли купаться на речку. Жарко, жара так и стоит в воздухе, верно? А это – собачья конура. Собаку звать Пери, это Пери, смотрит на туристов круглыми глазами. Это – яблоня. Разве это дети, это не дети, это чёртовы отродья, не дают яблокам налиться, все ветки изломали, а яблоки съели зелёными, осталось одно только недозрелое яблочко, сморщенное. В погребе, значит, вино есть, тихо кипит в карасе…
Трёхи – постолы, обувь типа кожаных лаптей.
Похиндз – поджаренная и смолотая пшеница.