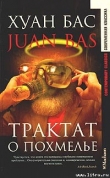Текст книги "Похмелье"
Автор книги: Грант Матевосян
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
– У меня целая бутылка.
– Ладно, разопьём её потихоньку до восьми. В восемь будет Бергман, Освальд пригласил нас.
– Какой ещё Освальд?
– Освальд, мой муж. Он работает в министерстве, он тебя знает, ему нравится твой сценарий,
– Это он похвалил сейчас твой Коран?
– Он. Он сам не пишет и не снимает – занимает в министерстве небольшую должность, но в смысле вкуса он идеален.
– Твой Освальд зарядку по утрам делает?
– Делает, а что?
– И ты тоже делаешь, я знаю.
– Делаю, а что?
– И я делаю, нам надо беречь наше драгоценное здоровье.
– Я познакомлю вас, может, он тебе пригодится в будущем.
– Скорее я ему пригожусь, так мне кажется.
– А что, – сказала она, – очень может быть.
– Не знаю, Ева, когда я что-нибудь делаю с чужой помощью, какое-то неприятное чувство тут же отравляет мне всё.
– Во всяком случае, ты в Ереване, он – в Москве, а твой сценарий ещё немало тебя помучает. Позвать Освальда?
– Нет, не зови Освальда. Не обижайся, Ева, я ничего не делаю с чужой помощью, во всяком случае, стараюсь жить так, чтобы не прибегать к чьей-либо помощи, не обижайся. Из Еревана привезу тебе в следующий раз пару трёхов, повесишь себе на шею вместе с Кораном.
– Трёхи есть. Освальд привёз. Дай сигарету. Освальд их из Грузии привёз. Ещё у нас есть маленький колокольчик из Суздаля и деревянная богоматерь, мы думаем, тринадцатый век. И ещё… – Официант принёс еду, и мы заулыбались все трое, – небольшой кувшин из Гошаванка.
– Какого Гошаванка?
– Вашего. Севан проезжаешь, потом глубокое ущелье… Мы искупались в холодном Севане, позагорали два дня под горячим солнцем, потом спустились в Дилижанское ущелье, пошли смотреть Гошаванк.
– Это у нас ты так загорела?
Она посмотрела на свои колени:
– Паланга.
– А в Армении когда были?
– Я сделала несколько дубляжей, Освальд написал диалог к одному фильму, когда сорвалась поездка в Японию, мы решили махнуть в Палангу. Но в Паланге было скучно, мы полетели в Ташкент, посмотрели землетрясение. Оттуда прилетели в Ереван.
Опёршись рукой о подбородок, с мирно тлеющей сигаретой возле лба – я размышлял. Мой лоб был красив, в моих глазах была работа мысли, мои пальцы были бледны, никотин из моей сигареты был удалён. Конусообразная белая салфетка спокойно возвышалась по левую сторону от моей тарелки, а где-то рядом, неподалёку от нас, сидел Освальд Озеров и в меру уважал меня… я к нему тоже не без уважения, мы оба воспитанны и любезны настолько, насколько чиста эта тарелка, эта салфетка и этот тупой нож из нержавеющей стали, – потирая висок, я усиленно размышлял… Родившиеся после войны ребята пришли и небрежно, но без вызова расположились за соседним столиком в четырёх кожаных креслах. Не раздумывая особо, они заказали четыре раза по сто граммов водки, две бутылки минеральной, четыре порции холодной закуски и четыре кофе глясе. И полились, потекли за соседним столиком сложные соединения простых слов:
– Война такое же естественное явление, как сам мир, как земля. Желание быть связанным с прошлым приводит к историческим исследованиям. Заманчиво, ещё бы, – закинуть мост в прошлое. А война суть следствие хорошо усвоенного урока истории. Или – уроков. Нескольких сразу. Я иду от моих предков, и сегодняшнее моё поведение продиктовано моими предками только так.
На чистой скатерти, холодное и спокойное, ожидало нас белое вино. Неторопливо поднимался плотный аромат от осетрины, и выдыхалась и убывала сила ржаного хлеба. С наивной ясностью предлагал себя белый хлеб, как дикая кошка, притаилась горчица, ни за что ни про что медленно сгорал, истреблялся трапезундский солнечный табак, и мгновение за мгновением ослабевала притягательность этой женщины, угасало и старилось её полное ликования тело – так отдаляется время, так устаёт кровь, так под моим разумным лбом плавали, перемещаясь с места на место, клетки, они приносили весть, уносили весть, искали пристанища, делали остановку, разрушали имеющиеся связи, умирали.
Мать моих детей не прислала мне письма с красивыми словами – она прислала мне посылку, не купила тёплую одежду для моего сына – купила вяленое мясо, шуршащие орехи и играющий на свету коньяк. Это мясо вобрало в себя всё мягкое солнце прошедшей осени, всю мягкую осень, пропитанную ароматом пшата; всю ярость, остервенелость красного перца Араратских долин, и вкус тысячелетней нахичеванской соли; эти орехи с орешины, что растёт на голых склонах, кишащих змеями, эти орехи насквозь прокалены сухим летним солнцем. Этот коньяк тридцать пять лет подряд втягивал в себя соки дубового бочонка, сделанного из дерева, видавшего другие молнии и другое солнце, с лета тысяча девятьсот тридцать второго года он медленно вытягивал из дубового дерева аромат тех молний и вкус того солнца – этот виноградарь был убит потом под Керчью, а этого коньячного мастера каждый месяц, каждую неделю, каждый день, каждое мгновенье уговаривают распилить дуб, измельчить в опилки, опилки засыпать в коньячное сырьё и в минуту обратить сырьё в коньяк, коньячный этот мастер устал тридцать пят лет подряд сопротивляться их разумности и отстаивать свою святую – от веры – неразумность. Если они ещё раз придут и скажут: неси бочку – он согласится, эта бутылка из последних его коньяков, солнце слабеет от лета к лету, молнии тех прошлых дней укротились, воплотившись в этот дуб и в этот коньяк, тех молний больше нет – моя сонная артерия несла сейчас в мой мозг концентрат самых отборных ароматов земли. Мягко, как тень, со склона соскользнул волк с волчатами, я поперхнулся и зажал рот нашему щенку. Они вышли из кустов, пришли, окружили нашего телёнка и, сгрудившись, как тени, в одно мгновение слопали-сожрали, кровь, крик, мычание, потроха, шкуру, мясо. Потом заметили меня, посмотрели лениво и разбрелись, унося с собой хвост и копыта. Мать отобрала у меня прут и по голеням, по голеням, по голеням, и тут я понял, что волки сожрали нашего телка, и я заплакал: «Вай, телок мой…» – потом она побила этого дуралея – щенка, который не залаял, когда надо было, и не напугал волков – вай, мой щенок…
– Это серьёзный вопрос, Ева, – сказал я, потирая кончиками пальцев свой висок, совсем как Аветик Исаакян на фотографии: – Для этого надо написать, по всей вероятности, целую серию статей. Берёт ли искусство жизнь и разрешает её проблемы, или это жизнь берёт и разрешает в искусстве – как хочет – свои проблемы, скульптор, берёт ли скульптор глину и разрешает задачу глины или же посредством глины разрешает свои собственные задачи. Если жизнь берёт верх и разрешает свои…
Где же в таком случае осталась личность творца в искусстве? А если… Где осталась собственная логика материала? И значит, ты обманул, обманул и…
..................................................
…цирковая тяжеловесность.
Мирно бунтовала, выдыхаясь, дикая сила чёрного хлеба, тихо светились настольная лампа на столе, шея Евы Озеровой, её милый взгляд и холодное белое вино. В этой тишине – я втайне радовался своим возможностям теоретика искусства. Но группа ребят, родившихся после войны, была умнее меня. Восседая в четырёх кожаных креслах за соседним столом, эта группа изрекла безапелляционно и неумолимо:
– Надо истребить всех нищих. Потому что мы возмущаемся, видя, как они побираются, и возмущаемся, когда они не побираются.
– Если я разрешу этот вопрос, если я разрешу его для себя, Ева…
Она взглядом спросила – какой вопрос?
– Искусство – самоцель или оно для жизни?
– Ну? – с вилкой в руке она подождала.
Но родившиеся после войны ребята продолжали изрекать свои блестящие мысли – без страсти, хладнокровно – и не в порядке спора – они изрекали мысль, секунду прислушивались к ней, потом словно бы отходили на шаг, смотрели на неё со стороны и, приблизившись снова, спокойно отсекали от неё часть, кромсали как хотели – как препарирует патологоанатом труп,
– Сфера общественно-политической жизни не стоит того, чтобы ею занимались великие умы, этот бардак всегда был и останется собственностью ничтожных людишек, и да взлетит на воздух эта машина, поскольку жизнь движется согласно своей логике, а государственная машина иногда только может – да и то ненамного – сбить с пути, но при этом она ошибочно полагает, что направляет жизнь – она, – и группа замолчала, решив сделать передышку и энергично уплетая свою порцию лобио и холодного мяса.
В эту минуту я увидел чистую поляну, нашу длинную свинью с оравой сосущих её поросят и трёх мальчишек, вырезающих на ясене: ГЕВОРГ, САМСОН, РАЗМИК, 1947 – так написали мы в тот пасмурный день. Буквы были красивые, цифры ещё красивее, только «О» нам никак не давалось, и нож соскакивал то и дело; а свинья поднялась и с двумя повисшими на ней поросятами ушла в лес. «Дай я напишу, дай я!..»
– Ты Ницше хорошо знаешь?
– Нет, я хорошо знаю только Туманяна.
– Я не шучу. Я знаю Ницше понаслышке, по цитатам, из других книг, а эти вот наизусть шпарят целые страницы, эти цитируют его на память страницами и критикуют. Ужасное поколение, и девушки и ребята.
– А мне кажется, никакое оно не ужасное, я был бы рад, если бы оно было ужасное. Но мне кажется – они обычные книжные черви, совсем как мы, Ева, обычные бумажные черви. Ты очень красиво пьёшь коньяк, ты умеешь пить коньяк, коньяк для тебя – не водка.
– Очень хороший коньяк, прекрасный. Но я больше люблю виски.
– А где вы его берёте?
Она мотнула головой, мол, спрашиваешь, и пообещала подарить мне литровую бутылку водки, из тех, которых не достать.
– Я очень тебя люблю, – сказал я.
– Хлеб почему был такой солёный?
– Что-что? – сел в постели отец.
– Ох, ослепнуть мне, ослепнуть мне, ослепнуть мне, – моя мать была тёплая со сна, они выкрутили фитиль в лампе, в комнате стало светло.
С тонкой шеей, огромная голова – чуть ли не в ногах, с голой задницей – на широкой деревянной кровати возник Грайр. С хныканием проснулась Нанарик, тоже села в постели, распахнула глаза:
– Лампу зажгли, – сказала, потом розовые щёчки поползли-поползли вверх-вверх, а глаза наполнились улыбкой и губы растянулись до ушей.
– Ослепнуть мне, ослепнуть мне, ослепнуть, верно, вышли все деньги, без денег остался, признайся…
В печке треснуло, печка чуть не подпрыгнула, обдав всех теплом, любовью, очагом.
– Айта, пришёл уже? – закачал большой головой Грайр. – Отгадай загадку, если отгадаешь, поеду вместо тебя в Кировакан. Что это, что это, нос горячий, а задница холодная.
– Ты что же задницами встречаешь-угощаешь брата, – надевая трёхи, сказал отец.
– А он меня чем угощает? Он для меня что-нибудь привёз разве?
– Голодный, холодный, без своего угла, ослепнуть твоей матери, ослепнуть мне.
Отец пошёл задать корма коровам, из хлева высыпали куры, коза ждала своей охапки сена, корова Нахшун, вытянув шею, глядела на меня и тоже чего-то ждала. Она раздалась, вся какая-то мягкая сделалась, скоро должна была родить. Отелиться должна была в конце мая.
– Самый трудный – этот год, если перебьёшься, в ноябре все деньги за Нахшун отдам тебе.
– Не возьму.
Он мягко улыбнулся, проходя рядом, прижал мою голову к груди. Я быстро вычистил хлев, собрал развалившееся сено и пальцами нашёл играющего во чреве телёнка.
– Твой дед Симон, – в хлев вошла моя мать, – понимал в коровах лучше всякого доктора, но ни разу сытым из-за стола не встал, не вздумай становиться ветеринаром, нечего тебе делать со скотиной.
Мы поели картошки, поджаренной на растительном масле, попили чаю с сушёной грушей. На обед была отварная картошка и соленье из капусты. Грайр вдруг показал на неизвестно откуда взявшегося на стене медведя и утащил из-под носа у Нанарик одну из её картофелин. Никакого такого медведя на стене не было, а одна из её картофелин, должно быть, закатилась под стол.
– Это всё медведь, он унёс твою картошку.
– Гево, у меня сколько было картофелин?
– Четыре.
– А это разве четыре?
Грайр пересчитал её картофелины:
– Одна, две, четыре.
– Раз, два, три, четыре.
– Раз, два, четыре, три.
– Гево, он правду говорит?
– Раз, два, четыре, три, пять, девять, тридцать. – Грайр заставил меня наладить капкан, взвалил его на спину и пошёл ловить лису и студить свои оттопыренные длинные уши, он видел след на снегу. А отца нашего всё ещё не было.
– Ослепнуть мне, ах, ослепнуть, очень там мёрзнешь, Геворг-джан?
– После занятий захожу к Асмик, сидим вместе у печки до прихода её домашних. Потом забираюсь в постель и читаю.
– А по утрам?
– Утром всё бегом бежим на занятия, а когда бегом – уже не холодно.
– Ну, в постели если читаешь, значит, это художественная литература, а уроки когда же учишь? Асмик кто такая?
– Один раз в театре был.
– Не стесняйся, захаживай иногда к дяде Седраку.
– На что они мне?
– Горячим обедом тебя накормят.
Отец, смущаясь, раскрыл дверь, муки он не достал, принёс пшеницу. Мельница наша замёрзла, не работала. В нижнем селе тоже замёрзла, ещё ниже, в Овите, – тоже.
– Ослепнуть мне! Если дзавару наделаем, сможешь, как настоящий мужчина, варить обед себе? И горяченькое будет каждый день, Геворг-джан, и на целый месяц хватит – не хлеб, чтобы испортиться.
– Сварю, что тут такого. Только дров нет. Училище когда дрова даёт – в два дня сжигаем все.
– А Асмик – кто она такая – пусть варит у себя и приносит тебе.
– Конечно, – сказал мой отец.
Это они так думали, на самом же деле это было невозможно – пустой дзавар, вода и соль – какой тут получится обед? Они извлекли на свет наши жернова, и, покачивая большой головой, Грайр сел крутить ручку. Половину зерна Нанарик жарила мне для похиндза1
[Закрыть].
Я рассказал им «Отелло» от начала до конца, Грайр слушал и пытался стянуть пригоршню жареной пшеницы, но Нанарик каждый раз хлопала его мешалкой по руке, а моя мать подогревала воду в сенях. Яго, значит, отнял платок, а Отелло чёрный-чёрный, чёрный-пречерный… Потом Кассио и ещё кто-то подрались на ножах, и пришёл Отелло – стал вопить, что было мочи. Чёрный-чёрный, глаза блестят. Потом, когда я шёл по улице Фурманова домой, я уже не боялся Отелло. Да, мы всю смолотую пшеницу просеяли, и получился дзавар и грубая мука, муку мы снова бросили в жернов и снова смололи. Потом смололи поджаренную Нанарик пшеницу, но, чтобы Грайр не позарился на вкусный похиндз, Нанар отогнала его и сама повисла на ручке жернова. И получился мелкий дзавар, получилась довольно приличная мука, и ещё остался похиндз – чтобы лакомиться иногда. Тесто для хлеба было почти как из настоящей муки, дзавар насыпали в один мешок, похиндз в другой, да-а-а… а бессовестный Грайр сумел-таки утянуть пригоршню похиндза – по вине мамы.
– Всё из-за тебя, – заплакала Нанар, – всё из-за тебя!
Молча усмехнувшись, матушка пожелала ей про себя светлых безоблачных дней и хорошего пария, славного муженька, а для Грайра – взмолилась, попросила у господа бога должность руководителя хора в тёплых просторных городских палатах, а меня представила у доски, в белой скромной рубашке, объясняющим урок ученикам, – и мир весь был таким чистым, и голоса такими ясными, и счастье так звенело, счастья было через край, счастья было так много, что мать самой себе отвела место на зелёном кладбище под молчаливыми камнями, и её сердце встрепенулось и зашлось от радости и печали.
– Грайру за уроки, Нанар в угол, Геворг в корыто, быстро!
– Какое корыто?
– Геворг купаться будет!
– Воду я буду лить!
– Ты девочка, Геворг мальчик, встань в углу и отвернись к стене!
– Я вчера мылся!
– А спину тебе кто тёр, голову кто намыливал, ноги кто скрёб? Ах, ослепнуть мне!
– Кто? Асмик, – прочёл в книжке Грайр.
Я направился к нему, он закрыл уши руками и стал читать, очень внимательно читать урок. Но я шёл к нему, чтобы досказать «Отелло». Он был венецианским полководцем, очень знаменитым, всех побеждал.
– И Суворова тоже?
– Провалиться вашему Суворову, провалиться ему сквозь землю, ты ещё не в корыте?! Ну-ка быстро!
– Если захочу, я тоже смогу пьесу написать.
– Что же не напишешь?
– В общежитии холодно.
– Летом, когда приедешь домой, напишешь. Напишешь?
– Вода остыла, быстро! – она запихала меня в корыто, и вдруг я увидел, что я голый и держусь за трусы, не даю их стянуть, она вниз их тянет, я – вверх. Она, смеясь, шлёпнула меня по руке, я обиделся, хотел заплакать, и вдруг горячая вода залепила мне рот, обожгла голову. Я закашлялся, и вдруг мыло ослепило меня и забилось в рот. Сквозь мыльную пену я разглядел, как хмыкал и таращился на меня довольный Грайр и стояла в углу, послушно отвернувшись, Нанарик. Я был голый, мои руки скрывали внизу нечто условное, но вода снова ошпарила мне голову, и руки взлетели вверх защитить голову, – горячо-о-о! Я захлебнулся водой, снова мыло залепило глаза, и холод неожиданно обжёг мне плечо.
– Холодно-о-о!.. – Я услышал шлепок мокрой руки и смех Грайра, потом тёплая – не горячая и не холодная – вода мягко обволокла меня сверху донизу, обласкала, погладила и утешила. Сильные пальцы ухватили мой нос:
– Сморкайся!.. Ещё раз!.. – и мохнатое полотенце крепко обняло меня, крепко обняло… и…
– Чтоб твоего Отелло черти унесли!
Сквозь дрёму я слышал: Нанар чем-то острым царапает мне плечо, чей-то небритый подбородок поцеловал меня в лоб, в пятке моей заиграла старая знакомая, а может, пятка просто зачесалась. Я спрыгнул с поезда и упал в мягкую вату. Это наш дом. Мы возьмём с Грайром санки, пойдём в лес, принесём рассыпающийся от сухости валежник, санки соскользнут с обледенелой тропинки. Холодными трёхами мы упрёмся, чтобы удержать санки и удержаться самим. Санки прыгнут, скатятся с камня. Продрогшие, поёживаясь от холода, мы зададим коровам сена и воды и побежим к печке. На печку нашлёпаем ломтики картошки, сверху посыплем их солью и сядем возле печки читать «Жана-Кристофа». Если заболеем, кто-то, сокрушённо охая, поцелует нам лоб – это из другого конца села пришла сестра отца, сквозь дрёму, сквозь бред вы различите её встревоженную улыбку и гостинец – одно-единственное яблоко, – и бред покажется вам яблочным ароматом.
– Не поеду в Кировакан!
– Маленький, такой ещё маленький, девяти не исполнилось.
– Холодно, у всех пальто есть, кроме меня! Не нужен мне ваш хлеб!
– Изобью сейчас, как собаку!
– Ничего не изобьёшь, а ваш хлеб ешьте сами! На здоровье!
– Ты знаешь, Саак должен твоему отцу, вернёт долг, купим тебе пальто.
– В мае?!
– Что же нам, пойти убить того человека?
– Мне что, убивайте.
– Ты мой умный сынок Геворг, ты моя отрада, моя надежда, моё будущее, ты помощник отцу, ты должен стать первым человеком в Кировакане.
– Не стану.
– Станешь и скажешь – моя мать была права.
– Кто тебя просил купать меня?!
Вечером мы съели отварной картошки и выпили чаю с лепёшками. Отец выучил Нанарик считать до шести – раз, два, три, четыре, пять, шесть. Грайр, несмотря на то что ходил в школу, ходил в школу, ходил в школу, каждый день ходил в школу, считать ещё не умел, а от картошки и сладкого чая нас всех немножко подташнивало. На подоконнике остывали, чтобы потом быть сложенными и связанными в мешке, десять свежих хлебов. А в городе я должен был получить четырнадцать рублей – стипендию. Четырнадцать рублей.
– «Отелло» ты уже видел, зачем тебе снова ехать в Кировакан?
– Не болтай глупостей.
– Да ведь, папа, такой холод, один, с тяжёлым мешком, столько хлеба…
Нанарик улыбалась, потом её вырвало. Я должен был получить четырнадцать рублей стипендии, проснуться в шесть утра, встать в очередь, купить десять штук белых хлебов и в субботу вечером принести их Нанарик. Отец пошёл поглядеть на коров.
– Когда я купала тебя, сестра твоя подлила в тесто воды, подсыпала щепотку муки и снова долго месила, твоя сестра, для тебя.
Сидя в постели, она улыбалась мне, плотно сжав губы, щёчки красные… Отец вернулся из хлева – что он принёс, что он принёс, что принёс? – этой глубокой зимой для Нанарик одно белое гладенькое яичко принёс. Кто его снёс, кто снёс, кто снёс?..
– Я!
– Глупый Грайр!
– Золотое пё-рышко…
– Кто его съест, кто съест, кто съест?..
– Намажем… намажем… намажем, – заикаясь, пролепетала Нанарик, – намажем на хлеб – получится гата… Геворгу…
Мать тайком утёрла слёзы.
– Не жить ей на свете, не жить, до того она хорошая, что не имеет права жить.
Потом семейство легло спать – Грайр пристроил задницу на подушке, голову – между ног, Нанарик упиралась коленом Геворгу в грудь и улыбалась во сне, запястье Геворга было под головой сестрёнки, другую руку он подложил под свою голову. Он дышал во всю мощь своих чистых розовых лёгких и за каждые десять минут вырастал, вытягивался на целых десять сантиметров, Грайр во сне обманул всех, будто он лисицу поймал, большую, с целого волка, а может, это волк? отец вышагивал по мягким зелёным полям; печка потрескивала, остывая в темноте; мама лежала с открытыми глазами и видела этот холодный Кировакан, облитый луной, видела пропитанное мёдом жёлтое лето, белую нарядную рубашку на Геворге, полное вымя козы и краснеющий помидор на грядке.
– Когда Саак вернёт долг – пошлите мне, для Грайра куплю ушанку, для Нанарик пальто.
– Нанар дома сидит всё время, Грайр после обеда в школу ходит, не нужны им ни ушанка, ни пальто.
– Летняя стипендия за три месяца сорок два рубля составляет, слышишь?
– Слышу, не отставай, а сколько стоит пальто на тебя?
– Один раз пошёл, чтобы посмотреть, магазин закрыт был.
– Ты как это ноги ставишь?
– Не пойму, то ли чешется нога, то ли болит,
– Ничего, не голова ведь – нога.
– В марте мне приехать на каникулы домой?
– Смотри сам, как тебе сподручней будет.
– А если все разъедутся? Что мне там одному делать?
– Ты – не все, ты – Геворг, ты должен запомнить это.
– Летом, когда приеду, наберём малины, отнесём в Дилижан продавать.
– Подыщи лучше какое-нибудь лёгкое дело себе в Кировакане, пристройся куда-нибудь сторожем.
– Летом?
– Отстаёшь очень. Болит, видно, нога.
– Не знаю, чешется или болит. Если в деньгах дело, летом на малине больше заработаем.
– Брось думать про село, оторвись от села, хватит.
– Но ведь летом…
Когда я оглянулся с Кизилового холма – он стоял на коленях перед часовней Сурб-Саркиса. Я оглянулся, дойдя до поворота, – он всё ещё стоял так перед часовней. Я остановился на холме Подснежников, будто бы чтобы поправить мешок за спиной, – я поглядел через плечо назад, – он стоял возле часовни посреди белых снегов и махал мне рукой: иди, мол, не останавливайся, иди, иди. В холодном безмолвии я словно слышал его тоненький, как песенка прялки, голос:
– Иди, иди, иди…
…В Айгетаке я сел передохнуть – в пятке стало покалывать, я подумал, что она занемела, разулся, потёр ногу снегом. И тогда все покалывания объединились, превратились в клубок иголок, но потом боль смягчилась и округлилась, словно варёное яблоко. Пятка была отморожена, боль раздулась и меленькими волнами ударилась в голень, об косточки, а потом поползла выше, выше – я взял пригоршню снега и столько тёр эту проклятую пятку, что боль наконец поприутихла. Я надел шерстяной носок, надел трёх, завязал ремешки на трёхе, и когда встал и поднял глаза – на снегу сидел какой-то приблудный пёс, глядел на меня неотрывно.
– Басар? – дружелюбно, с чрезмерным даже дружелюбием спросил я, но он не откликнулся, потому что был волк. Он отошёл немного, но это не было бегством, он отступил ровно настолько, чтобы я мог понять – мы с ним враги. – Что тебе от меня надо, стерва? – закричал я, но он весь раскорячился и не сводил с меня глаз. – Тебя ещё не хватало, мать твою…
Напружив спину, растопырив пальцы, этот ребёнок двинулся, – с каждым шагом делаясь сильным и взрослея, – этот ребёнок двинулся на волка. Волк забрал хвост между ног и ощерился – испугался? Нанар улыбалась во сне, на тахте, усталый, прикорнул отец, а японцы отняли у деда Симона его коленный сустав и вставили в колено своему генералу… зелёные глаза этого ребёнка встретились с бессмысленным волчьим взглядом, и этот ребёнок пошёл, чтобы задушить его. Этот ребёнок, с пересохшим горлом, шептал себе ободряющие слова. Волк отвёл от него глаза, опустил голову и ногами поднял снежную пыль кругом. Он наивно так захотел обмануть ребёнка – чтобы потом прыгнуть на него, но ребёнок приближался к нему, медленно и твёрдо, как деревяшка, – и волк забыл, что он волк, и, заскулив, отскочил, отпрянул от него. Ребёнок теперь стоял на истоптанном, изрытом снегу – там, где раньше волк стоял, ребёнок выпрямился и вырос разом – сейчас он был крестьянином, деревенским мужчиной двадцати – двадцати пяти лет.
– Ну-ну, подходи давай, подходи, – насмешливо сказал он.
И волк попятился и подпрыгнул, ещё попятился и ещё подпрыгнул, снова поднял снежную пыль хвостом и ногами и снова заскулил. И отскочил. Потом прыгнул вперёд. Покрутился на месте. Ещё немножко отодвинулся. И вдруг что-то похожее на продуманный план промелькнуло в его поведении, и ребёнку приоткрылся край неведомого ужаса. Это был волк, а может быть, это была гиена, а может, сама смерть. В ребёнке всё стало мертветь, потихоньку, поражённые ударом, онемели нервы. Ребёнок почувствовал, что он будет уничтожен прежде, чем волк нападёт на него.
– Отец-ц! – но он почувствовал, что голос его уже мёртв.
Приближаясь и удаляясь, волк всё ещё плясал так: отпрыгивал, кружился в прыжке, чуть-чуть придвигался и на манер преследуемого делал два прыжка – убегал вроде бы. И ребёнок увидел, что он встаёт – с лозой по снежному полю проходила мать. На белом снегу показался ещё кто-то, кто-то очень близкий, родной, из их семьи. Он приблизился к этому родному существу и увидел, что приблизился к своему мешку.
– Мешок-джан, – сказал он.
А волк всё ещё приплясывал, удаляясь-приближаясь, приближаясь-удаляясь.
Ребёнок рассказал, пожаловался мешку, что волк хотел обмануть его. Обмануть его, как обычно обманывают волки ослов.
– А после занятий ты всегда смываешься в это своё общежитие.
– Смываюсь, да. А что мне здесь делать?
– Господи… с людьми знакомиться, говорить, общаться.
– У меня работа срочная, я занят.
– Что сейчас пишешь?
– Один старик из нашей деревни после смерти жены пятнадцать дней ничего не ел и умер следом за ней.
– Ну и что?
– А то, что верность, что животная любовь друг к другу, что человек – бог старого села.
– Вот потому и говорю, что с людьми не общаешься. Сидишь взаперти и пишешь о всяких существующих и несуществующих стариках старого села.
– Что хочу, то и пишу. И потом, стипендии мало, на одну стипендию не проживёшь.
– Не так-то уж много нужно на чашку кофе.
– Здесь одни только слова, слова, слова, слова.
– И слова, и фильмы, и знакомства – и ничего в этом нет плохого.
– Не люблю.
– Смотри, законсервируешься так.
– Хотел бы, но не получится, не бойся.
– Удивительно, почему бы ты этого хотел, как можно вообще этого хотеть?
– А так. Хочу сохранить мою жалкенькую индивидуальность.
– Это похоже на высокомерие, тебе не кажется?
– Если я не желаю вмешиваться в чужие дела, выходит, я высокомерен?
– Но на обсуждении у Полонского ты больше всех петушился, или я ошибаюсь?
– Знаешь что, говори поменьше, слова, они, как мыши… – я забыл по-русски слово «грызть».
– Слова, как мыши – что?
– Я тебя люблю, а ты всё говоришь, говоришь.
– Не вижу, чтоб ты любил меня.
– Показать?
С рюмкой возле губ она покачала головой – нет.
– Вот и вся твоя смелость.
– Как ты можешь говорить про мою смелость, что ты знаешь про меня?
– Ты похожа на мою жену. Немножко.
– Правда?
– То ли фигурой… а может, разрез глаз? И у обеих ноги не длинные – коротковаты…
Она улыбнулась, но отхлебнула коньяк.
– Это твоё старое впечатление, – сказала она, – в этой одежде не видно, не понять. А Дом кино и вправду ужасен: и откуда они только берутся, эти длинноногие, свежие, высокоинтеллектуальные девушки… Послевоенное беспечное поколение. Куда нам с ними тягаться,
Я подумал, но не сумел найти в русском слова «молочно-белый».
– Не люблю их, – сказал я.
– Освальд тоже так говорит. А мне они нравятся.
– Кто такой Освальд?
– Мой муж.
– Почему он их не любит?
– Не знаю. Говорит – не люблю. А ты почему не любишь их?
– Не знаю, не люблю. Каждая в отдельности – куда ни шло, но вместе – ужасно.
– Лем говорит про это – сразу тысяча Моцартов.
– Кто такой Лем?
– Не читал его? «Тысяча Моцартов одновременно – ужасно», – говорит Лем, и сам становится тысяча первым. Ешь, пожалуйста, а то ты страшно отощал. Когда из Еревана приехал, красивым был, а сейчас смотреть страшно.
– Выпьем за Лема.
– Тебе уже нехорошо.
– Прошлой осенью поехали в Гошаванк с друзьями, не представляешь, сколько тутовой водки выпили.
– Тута это то дерево, которому Христос сказал «засохни»?
– Да.
Синий гранит Гарни среди ясного осеннего дня, шуршащие орехи и впереди – горы на горах; с поверженного телеграфного столба спрыгнула коза; исполненные достоинства орешины; разграбленные детьми и птицами виноградные лозы и две-три кисти чудом уцелевшего чёрного винограда на них; связка красного перца на двери – время жило в ладу с этой вечностью, согласно и тепло. Я медленно пригубил коньяк. Она тоже его пригубила, потом отхлебнула кофе.
– Значит, что ты мне обещала?
– Я тебе обещала… Я обещала тебе бутылку русской водки.
– На целине, за то, что я им должен был сложить печь, русские женщины обещали мне жареного гуся и водку, со всем прочим впридачу.
– Сложил печку?
– Сложил и вспоминаю то время с любовью и грустью.
Чья-то небритая мягкая щека коснулась моего уха.
– Здравствуй, Эльдар.
– Здравствуйте, мадам. Что вам нужно от моего несчастного брата, из-за вас он не спит, мысленно изменяет жене и пишет по ночам рассказы о верности. – Он обнял меня за плечо, – мой хороший, мой бесценный, – и тише, – мой телёнок, – он поднял меня с места, отвёл в угол зала и, насмешливо и любовно посмеиваясь, посчитал на пальцах: – Телёночка нашего окрутила – раз, муж молодой, крепкий парень, размахнётся – костей не соберёшь – два, английскую шкуру пожалеет снять с себя – три, ты потеряешь себя, потеряешь голову, а она будет говорить в это время «Ингмар Бергман, Ингмар Бергман», то есть она сноб – четыре, дай мне двадцать рублей – пять.
– Пьяный уже?
– Не пьяный.
– Где твоя стипендия?
– Долги раздал, осталось пятнадцать рублей.
– Пятнадцать рублей. На четыре дня.
– Шампанское пили, человек десять набралось.
– Полонский ведь должен был угощать.
– Полонский сидит на зарплате, а Грузия богатая страна, Грузия очень богатая страна.
– Чёрт с ними, у каждого по тысяче рублей в кармане, пусть сами пьют и сами расплачиваются.
– Мой милый Гоги, разве ты не знаешь, что тысяча – круглая сумма, тысячу нельзя разменивать.
– Опять будем бутылки сдавать, Эльдар.
– Может быть, в журнале напечатают шарж на Закариадзе.
Он полетел сломя голову к ребятам, я медленно пошёл обратно. Вот этот, некрасивый и бесполый, но на экране делается красавцем, и девушки по всему Союзу влюблены в него; а вот эта играет роли доярок, уж такая она там вся доярка – и душою, и повадками, и речью, но здесь она уже не доярка, увольте, здесь она жрица любви; а вот эти девчушки из соседнего учреждения – они пришли сюда и за свои обеденные два рубля обедают и находятся на Монмартре одновременно; у этой разрез глаз такой, словно она всё время ждёт какой-то вести, хорошей или дурной, а на экране мы видим прекрасные, полные тревоги глаза; не пойти ли мне поругаться с Арменом Варламовым и стукнуть его разочек за эту похабную бороду, отпущенную по случаю годовщины турецкой резни, – тебя ещё, сопляк, не хватало… этот давно уже стал символом русского воина, почти таким же символом, как памятник неизвестному солдату, а сейчас вот гудит басом, жирным, как киевская котлета: