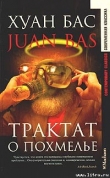Текст книги "Похмелье"
Автор книги: Грант Матевосян
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
– Ненавижу полукровок, всякую помесь, ненавижу, когда смешивают кровь… – но у него самого монгольский разрез глаз, а короткие толстые брови его – совсем татарские. Я вдруг понял, что стою возле их стола, но было уже поздно.
– Что смотришь, юноша, на меня, что, молодой человек, не нравлюсь я тебе у себя дома?
– В своём доме я бы вам такого вопроса не задавал.
– Ах, извините, в своём доме он такого вопроса не стал бы задавать! А где, с позволения сказать, твой дом, мышка-норушка?
– Мой дом затерялся среди биллиардов рублей, полученных за бездарные роли, ясно?
– Биль-ярдов. Всё ясно, молодой человек.
– А вы по-армянски и полсловечка не выговорите, это тоже вам ясно?
– Что случилось, что случилось? – меня отталкивал Эльдар.
– Вот герой выискался, из армян, говорит, сам. Один на биль-ярд.
– Брат мой, брат мой, ничего…
Виктор Игнатьев и Эльдар побыли с минуту возле нашего стола. Виктор сказал, грустно оглядывая меня и отходя:
– Что ты связываешься с калекой? С калекой связываться нельзя. А вы, свиньи, оказывается, пили самый лучший в мире коньяк.
Виктора привела и усадила за наш стол Ева.
– Потому что, – она вздохнула, – назревала драка. Его разбитую башку смазали бы йодом, а вас обоих исключили бы. И сорвалась бы Витина поездка в Японию, наверняка бы сорвалась.
– Ну и пусть.
– Как это пусть?
– А так, подумаешь, что в Японии такого?
– Ладно, не злись.
– Ему дровосеком надо было быть – он стал артистом, не хватит этого – сидит тут и разглагольствует. Скотина.
– Я согласна, я совершенно согласна с тобой.
– С чем ты согласна, не пойму?
– Человек был знаменитостью, потом…
– Какой ещё человек?
– Этот, черносотенец. Был знаменитым, потом пьедестал из-под него выдернули, а он без пьедестала уже не может – что делать, – он становится на пьедестал русского патриотизма. И вот – человек ненавидит полукровок. Ничего не скажешь – патриот, а патриотизм хорошая штука… Толстого я понимаю, толстовцев – нет. Человек ведь неповторим. Ты должен быть собой, только собой, а не толстовцем. Слушай, формулировка моя собственная: ничтожные людишки берут на вооружение великие идеи великих людей, чтобы приобщиться и хоть немножко возвеличиться. В их тени. Ну как? – подперев щеку рукой, спросила она.
– Тысячу раз слышал.
– Знаешь, – сказала она, – точные формулировки всегда кажутся знакомыми.
И вроде бы я это тоже где-то слышал, вроде бы даже помнил того, кто так говорил. Подперев щеку рукой, Ева смотрела на меня – да ведь это же Асмик сидит передо мной.
Она захотела взять сигарету, я прикрыл рукой коробку, и она мысленно дала мне это право – разрешать ей или не разрешать курить. Было тихо, мы молчали, мы чувствовали в себе коньяк, и коньяк нам нравился. С коньяком вместе нравилась мне и она. Аспирант-киновед Ева Озерова. И вроде бы я ей тоже нравился. За соседним столиком, внимательно выслушивая друг друга, энергично беседовали родившиеся после войны ребята. Я понял, что они смотрели недавно и обсуждают фильм «Нюрнбергский процесс». Очень может быть, что, не доверившись режиссёру-постановщику, они уже успели побывать в библиотеке и сами ознакомились с материалами процесса. Мне нравилось их лишённое предрассудков хладнокровие, с которым они ставили и разрешали вопросы. В своём последнем слове Кейтель сказал: «Мне стыдно, что я принадлежу к немецкой нации». Что-то похожее сказал Зайдель: «Это клеймо позора на нашем лбу, клеймо позора на лбу наших детей и наших внуков». А Рудольф Гесс сказал: «Я счастлив сознанием того, что выполнил свой долг члена национал-социалистической партии и что был верным последователем моего фюрера, я ни в чём не раскаиваюсь, если бы я начинал свою деятельность снова – я поступил бы точно так же. И даже если бы я знал, что конец мой – на костре, я всё равно вёл бы себя точно так же». Последние слова Кейтеля и Зайдёля содержат в себе надежду на прощение и не лишены элемента провинциального актёрничанья, а слова Рудольфа Гесса один из парней счёл нужным повторить, отредактировав перевод:
– Сознание того, что я выполнил свой долг члена национал-социалистической партии и был верным последователем моего фюрера, делает меня счастливым даже теперь, когда так называемый международный военный трибунал присудил меня к пожизненному заключению. Я не сожалею ни об одном из моих поступков. Если бы я начал свою деятельность заново, я бы сделал всё, что делал, будучи национал-социалистом и помощником фюрера, и если бы даже я наперёд знал, что дело моё обречено и что меня бросят в костёр, я всё равно поступил бы так же, как поступал, будучи помощником фюрера. Я закончил.
Родившиеся после войны ребята молчали, словно это они сами вершили Нюрнбергский процесс, словно сами слушали речи обвиняемых преступников, потом они похвалили Гесса с лёгкой улыбкой:
– Вот это мужик.
Ева потянулась за сигаретой:
– Позволь мне всё-таки.
– Кури, если хочешь, твоё дело.
– Да, – с какой-то грустью и снисхождением сказала Ева, – добрый старый наивный реализм с добрыми старыми наивными словами: «Поскольку память человеческая коротка, Нюрнбергский наш процесс явится предупреждением и беспристрастной летописью… а также и поисками истины… для будущих историков и политиков…» И сие называется кинематограф…
– Кто смотрит за твоим ребёнком, Ева?
– А что? Он на продлёнке, а вечером у моей мамы.
– Твоего ребёнка кто рожал?
– Ладно-ладно. «Мы хотим знать, есть у Антониони тёща или нет». Тебе не идёт быть эксцентричным, и, кстати, причиной твоего поражения в споре с Юнгвальдом была твоя ложная эксцентричность.
– Что лучше, Ева, экзистенциализм или ребёнок? Экзистенциализм не плачет, и грудь не просит, и не истребляет человеческую жизнь.
– Что ж ты бросил своих детей и приехал в Москву за этим самым экзистенциализмом? А?
Усевшись прямо против неё, я сказал ей:
– Я – мужчина.
Ева не ответила мне сразу. Ева подумала и из десяти ответов выбрала самый красивый:
– Бог знает, что ты там делаешь в этом жутком общежитии.
– Живу себе.
– Которая твоя комната?
– 167.
– Пошли уже.
– Больше не будем пить?
– Нет, уйдём отсюда.
– Я ещё могу пить. Есть какая-то черта, если до неё дотянуть, – дальше можно пить сколько угодно и не пьянеть.
Она улыбнулась совсем как Асмик.
– Да-да, ты герой у нас, ты не пьянеешь. – Она подкрашивала губы серовато-малиновой перламутровой помадой. Её рука была красива, красивы были её чуть раскосые глаза. И гладкий высокий лоб. И волосы цвета конопли. У армянок такого лба не может быть. Такой лоб может быть только у русской женщины. Но сейчас мне особенно нравилась её рука. Она обвела губы чёрным карандашом и понравилась себе в зеркальце. – Рисунок губ чуть-чуть подправим… вот так… теперь всё хорошо, – и сунула мне в карман трёшку, которую я оставлял официанту на чай. И то ли знакомая тревога, то ли радость на секунду сжала мне сердце. Асмик очень любит маслины: «маслины кончились, а в магазинах нету» – и как дурочка смотрит мне в лицо. Нет, скорее это была тревога. Нет, Асмик губы так не подкрашивает. Нет, «полукровка» убрался, «полукровки» в ресторане нет.
– У тебя деньги какие-нибудь остались?
– Сколько тебе нужно?
– Я для тебя спрашиваю.
– Если хочешь… Нет, сколько тебе нужно, скажи?
– Да для тебя же спрашиваю. Бог знает, как вы там в этом кошмарном общежитии живёте.
Она мне по плечо, нет, чуточку выше, наверное, до подбородка доходит. На ней плотная замшевая юбка, широкий кожаный пояс, замшевый пиджак, коричневые сапожки. И то, как бьются при ходьбе её волосы цвета конопли, мне знакомо, мне родное. Громоздких женщин невозможно любить, потому что… И мне захотелось в эту минуту, очень захотелось взять её за руку, только за руку, крепко, крепко сжать её руку…
– Знаешь что, Ева… – Я должен был многое сказать ей сейчас, сказать очень решительно, чтобы это было почти как к стенке прижать, но её лицо в эту минуту скорчилось в гримасе, во взгляде появилось что-то отталкивающее. – Я не хотел бы влюбиться ещё раз.
– В кого ты собираешься влюбиться?
– В тебя.
– Очень хорошо, только кто же тебе это позволит?
– Я сам себе позволю и тебя заставлю.
– Не ври, это скучно.
– Мне кажется, я не вру.
– Тогда скажи мне, вот сейчас ты влюблён?
– Извини, пожалуйста.
– Не обижайся, прошу тебя. Просто я знаю, что среди стольких фильмов, актрис, девушек, ресторана и кафе – находясь среди всего этого, невозможно говорить правду – что бы ты ни сказал сейчас, будет неправдой, не обижайся. А в другом смысле, я не готова к этому, и мне кажется, ты тоже не готов.
– Прошу прощения.
– Но ты не обижайся.
– Я не обижаюсь.
– Как-нибудь я приду в это ваше общежитие, посмотреть, как вы там живёте.
– Ага. И мужа с собой прихвати, не забудь.
– Но ведь ты напрасно обижаешься, Геворг. Ну, разрешаю тебе, поцелуй меня. Целуй, скорее только, чтоб никто не видел.
– Ни в коем случае.
– Придёшь в восемь на Бергмана?
Из лесу понатащили сюда берёзовых стволов и веток, приволокли несколько пней, и зал превратили в аллею, на электрическую лампу набросили красную тряпицу – получился очаг. Спрятанный в каком-то углу этого новоявленного леса магнитофон доносит до нас старые песни про родину и про врага. И это лучше, чем находиться в настоящем лесу, потому что здесь нет паутины и мошкары. А вот фото Манолиса Глезоса, и это тоже лучше, чем если бы перед нами стоял живой Манолис – потому что это и Манолис и в то же время отсутствие фашизма. А вот и я, и это тоже хорошо, потому что меня как будто нет. Двое влюблённых сейчас начнут целоваться в этом декоративном березняке – а вот это уже противно, потому что мужчина лыс, и не верится, чтобы он околдовал девушку… Надо быть полководцем, отдать свой талант родине, и пусть другие возьмут на себя маленькие заботы касательно чистоты твоих ботинок и твоей кухни…
– Привет, старина.
– Здравствуй, старик.
Эти ковры удобны, и мягкий снег за окном – тоже, удобны мраморные ступени, удобна эта сухая ласка обуви. Удобны Паустовский, скандинавская печаль и английская королева Елизавета.
На влюблённых в березняке смотреть невозможно, потому что у девушки толстые, как у школьницы, колени, а мужчина лыс, и тут не может быть речи о любви, и это уродливо. Поимей совесть, поимей совесть и признайся себе, что девушка очень недурна, но это уже другое поколение, и девушки этого поколения должны принадлежать юношам своего поколения, и это единственная правда, потому что все остальные случаи пахнут тайным воровством или отдают наглым грабежом.
– Как дела, Геворг?
– Спасибо.
– Я очень доволен твоим сценарием, чтоб ты знал. И не я один.
– Спасибо, очень приятно.
– Подробнее поговорим в понедельник. Будь здоров. А Вайсберг обязан придираться, это входит в его обязанности, и пусть это тебя не волнует.
– Спасибо.
– В понедельник в двенадцать я буду здесь. Посидим, поговорим, с Вайсбергом вместе. Ну, всё, я пошёл.
– До свидания.
Удобен этот мирный неоновый свет, этот телефон, который за мягкое пощёлкивание двухкопеечной переносит тебя на другой конец кучерявого города Москвы, в чистую и тёплую квартиру, такую же чистую и тёплую, как этот Дом кино. «Старик, ты не хочешь посмотреть Бергмана?» Этот туалет сверкает белизной, как постель в гостинице в самый первый день… И как начинающуюся влюблённость – почти так же приятно тебе сознавать крепкое здоровье собственных почек… удобна тёплая вода, пахучее мыло, бледные твои руки, неоновый свет, полотенце. Неоновый свет, полотенце, зеркало в стене и несколько морщинок на лбу, обозначающих возраст. И хорошо, что тебе не сорок лет и не двадцать пять, а ровно столько, сколько тебе есть – тридцать.
– Эй ты, – я подмигнул себе и щёлкнул себя в зеркале по носу. – Нет, ты хорош, ничего не скажешь…
– Пошли в бильярд сыграем, – улыбнулся себе я.
– С кем играем? – Мягкая полутьма зала спокойно приняла меня в свои объятия. За столиками вдоль стены, склонившись над шахматной доской, раздумывали очередной ход шахматисты, в тишине зала плавали не сходящиеся друг с другом ниточки их мыслей. На чистых, как футбольное поле, бильярдных столах мерцали пирамиды белых шаров, полосатый шар молча поджидал чуть поодаль, он должен был сейчас покатиться и удариться о пирамиду – учтиво, холодно, спокойно. Подперев кием подбородок, наполовину в тени, кто-то томился в ожидании партнёра. Армейский строй честных киев предлагал свои услуги деликатно, с тайной преданностью тебе и подразумеваемой любовью. Ни одна коса ни разу ещё не ждала косаря вот так – с готовностью, как крепкая нагая девушка. Так подставляется полное вымя козы – козлёнку, так предлагались пожилым сенаторам юные рабыни – в римских банях. Этот короткий. У этого кожа на конце отошла. В этом… в этом свинца на два грамма больше положенного. Этот слишком скользкий, будет елозить в руке. Отобрав себе кий из шеренги и обласкав сморщенную кожу мелом, он, то есть я, мельком посмотрел на шахматную доску: чёрные жертвовали коня, намечался мат или что-то вроде этого и т. д. Каждый из сенаторов был гениальным полководцем, изощрённым политиком и суровым законодателем, а тело каждого из этих сенаторов тёрли, мяли, били, обкатывали водой, гладили, массировали, взбадривали, умащивали благовониями сотни мойщиков-рабов, а сотни свеженьких рабынь дарили этому сенатору и его стареющему телу ликование своих упругих юных тел, и его тело поздно старело, а его ум политика оставался гибким, всегда гибким, как змея.
– Ну что, сразимся, старина, – сказал он, то есть я, с той дрожью восторга и той любовью к партнёру, которая у него появлялась только при виде бильярдного стола. – Играем до начала Бергмана, старина, проигравший, то есть вы, закрываете счёт. – И только теперь си взглянул партнёру в лицо и ему стало немножко не по себе, потому что партнёр был тот, «полукровка», с кем он сцепился недавно в ресторане.
– Научился бы держать кий, – усмехнулся «полукровка».
– Прекрасный совет. Благодарю. Уступить вам двадцать очков?
– Вот тебе 14-й. Молчи и бей.
– Бейте сами по своему 14-му.
– Нет, 14-й твой.
– Я не смог с вами пить, очевидно, не должен и играть.
– Бей по 14-му. Ты бьёшь по 8-му, чтобы разозлить меня, это нечестно.
– Я воспитан на ваших картинах, разве я могу кого-нибудь злить нарочно?
– Начинай игру и бери себе 14-го.
Моя пятка бешено зачесалась. И как можно так говорить – не люблю толстых женщин, не люблю стройных, девочек школьного возраста не люблю, как можно классифицировать женщин по размерам, жизнь сама по себе уже такое ликование. Крепко, до боли упёршись пяткой в пол, он с треском отправил 14-го в лузу – и отбросил шар обратно, – шар снова ударился об полосатого и – хочешь не хочешь – повис тяжестью в сетке. Подталкиваемый 3-м, оказался в сетке и 8-й, а сам 3-й медленно покатился к центру поля, а полосатый остановился, прижатый к краю. 8-й был забит блестяще, 14-й показался мне близким родственником.
Мой партнёр направил полосатого в общую кучу. Полосатый с 10-м вместе бок о бок встали в углу. 10-й можно было забить в два приёма. Его бледная рука, его семидесятишестикилограммовое ухоженное тело, 10-й вошёл в лузу единственно возможным образом, полосатый встал там, где ему полагалось. Возвышаясь во весь свой рост, одерживал победу во всех общественных бильярдных Владимир Маяковский, всех побивал и выходил из бильярдной, растерянный и перепачканный мелом. Скошенным ударом 6-й сейчас покатится в среднюю лузу. Скошенные удары предмет нашей гордости, но какая-то тревога, какая-то тревога набухала в Геворге Мнацаканяне, беспокоила. 6-й вошёл в лузу, «полукровка» похвалил Геворга, что теперь будем делать, а «полукровка», между нами говоря, неплохой человек. 13-й как будто бы самый удобный, но так и быть, пускай ему достанется. И почему это он полукровка… все мы в конце концов полукровки. Он отнёс 10-й и 6-й в склад. Там уже были 14-й и 8-й. 14-й. 14 рублей 20 копеек. «Полукровка» забил 13-й точно и грубовато, удар был короткий. От удара прыгнул в лузу 1-й, прыгнул, но тут же выскочил.
– Засчитывается.
– Не договаривались.
– Ничего, будем считать, что договаривались.
15-й был расположен лучше 1-го, но «полукровка» промахнулся. Бить сейчас по 15-му было полным абсурдом, но Геворг выбрал именно 15-й, и 15-й встал так, что стоило до него дотронуться только, и дело было в шляпе, но «полукровка» опять промахнулся. 15-й теперь встал неудобно, а полосатый откатился в центр. Геворг взял под прицел одну треть 15-го, очень тщательно примерился; браво, похвалил партнёр, но то, что Геворг забил шар, было чистой случайностью. Ему показалось, что ему хочется курить, зажигалки в карманах не было, сегодня он пришёл на занятия в связанном Асмик свитере, не в пиджаке, и, значит, он потерял подарок Грайра, но он держал зажигалку в руке – запах бензина портит вкус сигареты, надо пользоваться спичками. Небрежно и лихо разбежался по полю 3-й – вошёл в лузу. С тобой можно на спор играть, сказал партнёр, это была похвала, но что-то, смахивающее на собачий вой, нарастало в нём, и было тревожно от этого. За бильярдными столами проводили дни Наполеоны, а ты, я думаю, не Наполеон. Чтобы забить 12-й, надо… задом… упереться в стол… задом же прижать кий… вывернуть сколько можно шею и приспособить кий к левому… большому пальцу левой руки… Дым обжёг мне глаза. 12-й не был забит, а возле стенки стояла Лия Озерова.
От удара «полукровки» 12-й выскочил за борт, упал на пол, потом был водворён и установлен в центре, возле черты. Великолепно. Не Лия Озерова, а Ева Озерова.
– Значит, вы ненавидите «полукровок», – он нашёл удобное место. – Честь имею доложить, что я, – вот самое удобное место, – сам, – он выпрямился, – не «полукровка»… – шар слабо покатился, встал безвольно у края, подумал и капнул в сетку. – Я чистый армянин, есть такая нация на земле.
– Очень рад, что есть ещё такая нация, молодой человек.
– Я сообщу про вашу радость этой нации, она будет чрезвычайно польщена. У меня семьдесят, начнём сначала?
– Нет, потерпите немножко, наверху бог есть, с божьей помощью мы…
– Бог, конечно, есть, особенно когда нам приходится туго… – Он растерялся: Энвер или Талиат? Кто-то из них был полукровкой – да каким, – капли турецкой крови по жилам не текло, но чтобы очистить турецкую кровь и чтобы увеличить турецкую землю, он очистил страну – от армян. Человек ненавидит подобного себе, что ли. Если он ненавидит подобного… себе, свой вид…
«Полукровка» ударил с ювелирной точностью, и 5-й встал прямо над лузой, во всяком случае, мы несколько мгновений ждали – упадёт или нет? И «полукровка» посмотрел на меня враждебно.
– Я не стану бить, не волнуйтесь.
Если человек ненавидит себе подобного… зелёный стол, пирамида шаров, полосатый, готовый рассеять эту пирамиду, эта белизна шаров и эта зелень сукна напоминают овечий загон и тигра, который должен метнуться в прыжке и разогнать отару, а потом по одной уничтожить всех овец. Надуманно, сказал я себе. Старо, литература сравнений – ложная литература. Хорошо Шекспиру, хорошо Ованесу Туманяну, хорошо всем тем, кто уже что-то сделал и уже умер. Может, они и не много сделали, но хоть мертвы, хоть не мучаются сейчас. Хорошо Гоголю, Толстому, Аветику Исаакяну. Эх, был бы ты косарем, косил бы сено для других людей и для коров, не знал бы букв. Быть косарем и мечтать о бильярде.
– Вы в шахматы играете, молодой человек?
– Виноват.
Полосатый, не задев 7-го, прошёл рядом с 5-м, ударился о борт – штраф? – медленно вернулся ко 2-му. Не дошёл. Штраф. И я потерял пять очков. У меня осталось шестьдесят пять. Я увидел усмешку партнёра. Сейчас он забьёт 2-й, то есть 2-й забьётся сам собой, потом он немножко постарается и забьёт 5-й. Если человек ненавидит себе подобного, значит, патриотизм – поза. Значит, он и свой народ ненавидит, и брата своего, значит, ненавидит. Значит, ненавидит родителей. Значит, ненавидит самого себя. И, значит, есть ненависть к самому себе и существует самоненавистничество. И любовь к другому. Дальше? Ну, хорошо, а для чего люди рожают детей, для чего любят своих детей? В детях они видят самих себя. Любят своего брата, своих родителей, свой народ… Значит, существует самовлюблённость и ненависть к другим, не своим… Э, братец… Человек должен был быть косарем – вот тебе твоя коса, вот поле.
Я снова проштрафился на пять очков. «Полукровка» меня утешил:
– Ничего, бывает, всё бывает, молодой человек.
– Хочу и отдаю свои очки, – взорвался я, – а вам и отдавать нечего.
«Полукровка» приладился, прицелился, долго целился и та-ак промахнулся, и та-ак возненавидел меня – люто. Что ж, я завидую тебе, твоему пылу. Я забил шар в лузу, но «полукровка» решительно замотал головой: не считается. И вытащил шар, поставил его в центре поля, очень удобно для себя – и ловко забил его.
– Не считается, – сказал я, достал шар и тоже поставил в центр поля.
«Полукровка» не обратил на это никакого внимания, лёг всей тушей на стол и собирался забить 12-й.
– Сдаюсь, вы выиграли. – Я оставил кий на столе, дал рубль маркеру и пошёл к выходу – от стены отделилась и с печальной улыбкой приблизилась ко мне Ева Озерова.
– Давно ты тут?
– Когда ты забил четырнадцатый.
– Энвер был полукровкой, Ева, и яростным туркофобом, как понять это, Ева?
– Энвер?
– Энвер-паша, генералиссимус.
– Да?
– Перерезал два миллиона армян, а было армян – четыре миллиона всего.
– Кем он был, говоришь?
– Военным министром Турции.
– Турция разве воевала с нами?
– Это было в 1915 году. Великая резня армян началась в 1915 году…
– Да?
– Он уничтожил два миллиона армян, а армян всего было четыре миллиона. В Армении тогда осталось 700 тысяч армян.
– Это много или мало?
– Это много – мало.
– Как получилось у тебя, да? Много-мало.
– Не знаю, не умею с женщинами беседовать.
– Ну почему, меня вполне устраивает.
– Благодарю. Значит, уничтожил два миллиона армян, а сам был полукровкой, помесь арнаута и ещё чего-то.
– Кто?
– Говорят тебе, военный министр Турции. Энвер.
– Такое чувство, будто аспирантский минимум по истории сдала на пятёрку не я, а кто-то другой.
Волк хотел, чтобы я его, будто бы струсившего, преследовал, преследовал – до какого-нибудь оврага или леса, а я повернулся, чтобы поднять свой мешок с дзаваром-похиндзом-хлебом. Волк стоял и обдумывал ситуацию, но эта странная его добыча, не оставляя ему времени на размышление, удалялась. Волк безвольно поплёлся за ним, то есть за мною, надеясь по пути сообразить, как ему быть дальше. Он останавливался – с ним вместе останавливался волк, он ускорял шаги – волк начинал трусить быстрее. Он обернулся и сказал:
– Что тебе от меня нужно, падаль… – Волк встал и оглянулся по сторонам в замешательстве, не понимая, что ему говорят. Он поправил мешок и зашагал, уже не обращая внимания на волка, и волк пошёл за ним, скорее как попутчик, за компанию. Возле холмов он снова поправил мешок и сказал: – Давай, давай, как раз дсеховские собаки соскучились по тебе, – но увидел, что волк загляделся на подпрыгнувшую в снегу полевую мышь.
У поворота они оказались совсем близко друг к дружке, волк весь напрягся – вот-вот уже должен был прыгнуть, но в это время с шумом пронёсся реактивный самолёт и послышалось собачье тявканье – впереди помаргивало огнями село. Волк не повернул обратно, он подумал с секунду и зашагал рядом. Но впереди было село, утопающее в собачьем лае, мягко погруженное в него, как в густой тёплый войлок, впереди помаргивали огоньки – и этот мальчик с усмешкой пригласил его в село.
– Ну что же ты, идём…
И их тропинки стали медленно расходиться, его тропинка повела в село, а тропинка этого дурака будто бы захотела обогнуть собачий лай, но как только вошла в лес – этот дурак перестал скользить бесшумно, он перешёл на рысцу и помчался что было духу к Айгетаку, где, по его глупому мнению, всё ещё сидел в снегах и растирал отмороженную ногу мальчик.
До Дсеха волк, а после Дсеха воспоминание о нём не дали мне почувствовать боль в ноге. Станционный зал был залит светом и тепло натоплен. Группа военных отпускала шуточки в адрес степанаванской красавицы; положив голову мужу на колени, спала жена капитана, не жена – слон; кто-то отломил ножку от курицы и сунул её мне в руку, кто-то очень похожий на моего отца, двухлетний его сынишка посыпал соли на свой кусок мяса, бросил мясо на землю, потом посыпал соли на хлеб отца и, рассыпая соль, сполз со скамьи – очутился передо мной; тёплым, ласковым взглядом обвела меня чья-то мать, скрестив руки под большими грудями, она посмотрела на меня с грустью, и тут взорвалась боль – с мясом во рту я катался по скамье, я умирал… Но подошёл поезд.
– Сейчас уши тебе оторву, понял? Отрежу, – спокойно сказал проводник почтового вагона.
– Можешь отрезать, если они лишние, а если они не лишние – зачем их отрезать?
– Нет, я вижу, язык тебе надо отрезать, не уши, больно длинный у тебя язык.
– Да зачем резать-то?
– Ты знаешь, куда ты забрался?
– В почтовый вагон.
– Знаешь, что это запрещено?
– Специально забрался, чтобы украсть твою почту, сяду дома, буду читать, несколько мешков сразу.
– Нет, видно, придётся всё-таки отрезать тебе язык.
– Как же я буду на экзаменах отвечать?
– Учишься?
– В педагогическом.
– Учителем будешь, значит? Откуда сам?
– Из нашего села.
– Ловок ты на ответы, а что в мешке везёшь?
– Буйвола, хочешь, отдам тебе половину?
– Как остановлю сейчас поезд, как спущу тебя сейчас в поле.
– Останавливай, спускай.
Он то ли ударил, то ли погладил меня:
– Болтун ты, вот что… Что в мешке, говоришь, везёшь?
– Да на что тебе?
– Если бы в настоящий вагон сел – сколько бы проводнику дал?
– Нисколько.
– Что это, твоего отца телега?
– Вот именно, телега моего отца.
– Что в мешке?
– Хлеб. Хлеб, но для себя везу, не для тебя.
– А как спущу тебя с поезда?
– А как я тебя спущу?
– Давай-давай, прыгай, а не то я тебе помогу.
– Попробуй-ка сам прыгни.
Он извёл меня, пока мы доехали до Кировакана.
Хлеб снова был солёный и как песок. Нанарик, чтобы сделать лучше, подлила воды в тесто, подсыпала соли. Я хотел было разозлиться, но вспомнил с тоской её щёчки, когда она улыбалась с закрытым ртом. И даже когда мне подводило живот от голода, хлеб этот невозможно было есть. А может быть, мне не так уж и подводило живот от голода, потому что я то и дело отсыпал себе и жевал похиндз.
Ленинаканцы прикончили свой лаваш, растратили свои рубли и, склонившись над книжками, второй день уже бросали косые взгляды на мой мешок, но хлеб был солёный, и было стыдно его предлагать.
В дверях показалась красивая головка Асмик – она пришла спросить, где находится Апеннинский полуостров, и посмотреть на меня, полюбоваться. Но у меня не было времени, и я не знал, где находится этот чёртов полуостров, я внимательно созерцал записи лекций. Очень надо! Асмик обиделась и ушла, её уши стали красными от обиды, она изо всех сил хлопнула дверью, и от этого крепко перехваченная у самого основания белой лентой толстая коса закачалась и обкрутилась вокруг шеи, но хлеб был – ох, хлеб был невозможно солёный.
От холодной воды у меня заболело горло. Мать Асмик принесла мне горячего чаю, но мне не нужен был их чай… Я готовился к экзаменам, какого дьявола они лезли ко мне.
Преподаватель литературы Мамиконян, сказали, собирается навестить меня, я оделся, запер свой шкаф на замок и ушёл из этого дома. Башни санатория «Арев» качались на ветру под воронье карканье, в снегу показался и пропал то ли большой апельсин, то ли яблоко, собачий лай был далёк, как воспоминание, но возле меня действительно крутилась какая-то собака, я вошёл в дом. Хоромы дяди Седрака были чистые и просторные, в тёплой кухне поднимался аромат горячего обеда, но его невестка была всегда сердита, я не помню, чтобы она когда-нибудь улыбнулась мне. На какой улице наше общежитие – на Школьной или же на Строителей? Господи…
Ночью хозяева взяли меня к себе. Отец Асмик приложил мокрую тряпку к моему лбу, а мать суетилась, разогревала обед. Отец Асмик, когда учился в Ереване, вот точно так же заболел однажды, его вылечила хозяйская дочка, а я вот нагрубил Асмик, как нехорошо, Асмик не дала бы мне заболеть, Асмик почти что врач готовый.
– Значит, ел солёную рыбу, запивал холодной водой? Что же ты так, а? Ну ничего, ничего… – Она силой разомкнула мне рот и влила туда обед. – Ты мне как мой ребёнок, сейчас побью тебя, ешь! – Она заставила меня проглотить слёзы, горячий обед, гнойные пробки, обиду.
Утром она ушла на дежурство, а я встал и смотался в свою комнату, лёг в свою постель.
– Я тебе чаю принесла. С лимоном.
– Никто не просил у тебя лимона.
– Хочешь без лимона?
– И без лимона никто не просит.
– Подумаешь!
– Уходи отсюда!
– Не уйду!
– Говорят тебе, убирайся!
Отец Асмик вернулся с работы.
– Эй, зять, эй, больной зять, не с кем выпить, слышишь, иди выпьем с тобой по стаканчику. – И чтобы я не стеснялся, чтобы я со спокойным сердцем сел с ними обедать, он взял из моего шкафа один хлеб.
Боже мой, этот путь из нашей комнаты на их половину и этот мой хлеб на их столе, и этот… Он медленно, не торопясь выпил водку, протянул руку, отломил край хлеба, понюхал его и стал есть. И подмигнул мне.
– Выпей. Сейчас тебе одну историю расскажу. Пей же. Очень хорошая пшеница и хлеб – очень хороший. В блокаду в Ленинграде рою, рою, рою снег и на что натыкаюсь, как ты думаешь? На порошок горчицы. Я развёл его в воде и выпил. Смог бы ты так сделать?
Его жена попробовала моего хлеба и сказала:
– Ослепнуть твоей матери… Да если бы у меня был сын…
– Помолчи, – сказал ей муж. – Не твоего ума дело, очень хороший хлеб.
– Ты давно здесь?
– Когда ты забил четырнадцатый.
– Значит, так, она художница…
– Кто?
– Погоди, не перебивай.
– Пошли выпьем кофе?
– Сейчас пойдём… Она художница, может быть очень талантливая, кругом осень и запах масляной краски. Муж её хороший парень, предположим, инженер. Муж кормит её бутербродами с колбасой, варит для неё кофе, но он инженер, то есть человек другой профессии. А она крепкая такая девушка, может работать, как вол. Все друзья её художники, художники – хороший народ, Ева, они мне нравятся. Есть у тебя знакомые художники?
– Я окончила художественное училище.
– Прекрасно. Представь, что это ты сама. Ну вот. Она мажет, мажет, мажет – не нравится. Соскабливает всё. Немытая, нечёсаная, голодная – рисует снова. Муж считает, что картина и без того хороша. «А?» – задумчиво говорит муж. «Готовая картина», – говорит муж. И просит: «Пойдём, подышим воздухом, хочешь, в ресторан пойдём?» «Не мешай», – говорит она и мажет, мажет, мажет… Самое главное хорошо получилось – ну, предположим, лежащая женщина… покой… на стене должен быть прыгающий тигр, или же, скажем, дерево за окном, или же этюд «Распятие» на стене, или узор ковра – лань, птица, фрукты и смертельное желание покоя или даже смерти. И вот эта художница мажет, мажет… В это время приходит один из её друзей, художник: «Ты чем это тут занята, девка… А-а, хорошим делом занята… а ну-ка сними это чёрное пятно отсюда и окно, не лучше будет закрыть окно, закрой, посмотрим, что получится, а это что на стене?.. не знаю, тигр мне не нравится, а тебе? Христос? Не знаю…» Муж встаёт, уходит из дому, а эти два сумасшедших закрашивают, один цвет пробуют, другой, пачкаются в краске, делаются без сил. Муж возвращается – картина готова или почти готова, а эти двое лежат на тахте и не понимают растерянности и ярости мужа. Они смотрят на него из какого-то другого мира. Кто он, что ему нужно, что случилось, в чём дело…