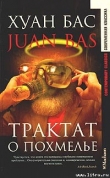Текст книги "Похмелье"
Автор книги: Грант Матевосян
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– А дальше?
– Всё. Конец. Они не понимают, почему он кричит, на кого кричит…
– Ты думаешь, это хорошо?..
– Мне нравится. Наверное, я плохо рассказал, что-то потерялось в пересказе.
– Не знаю, – сказала она. – Тебя это волнует?
– Мне нравилось, напрасно я тебе рассказал. Мне понравилось, что ты пришла в бильярдную, и я вспомнил и рассказал тебе.
– Но для чего ты это должен был написать, против чего, за что, какие задачи ты перед собой ставишь? Что ты предлагаешь? – она положила сумку на стол, откинулась в кресле, закинула ногу на ногу и подождала, пока я зажгу ей сигарету, закурила и, откинув голову, закрыла глаза. – Твоя задача?
И весь этот день показался мне вдруг таким пустым – и бильярд, и эти бесконечные разговоры, и эта осетрина и коньяк, и этот Антониони, и хладнокровная рассудочность тех ребят, и эти художники – таким мне всё это вдруг показалось пустым, безжизненным и ненужным, и сам я так себе вдруг сделался противен. С косой в руке я косил, за гектар мне платили четырнадцать рублей, лёгкие мои разрывались, немой Мехак наступал на пятки – сейчас срежет мне пятку, – потом останавливался и смеялся своим булькающим смехом, что припугнул горожанина. Но когда они видели, что я уже подыхаю, что ещё немножко, и я просто протяну ноги, они отправляли меня за гору, чтобы я принёс воды из родника, – это был мой отдых. А отдых всех был – когда садились обедать. Солнце мягко припекало, а верзила Спандар под булькающий смех немого Мехака чертил в воздухе крутые бёдра, груди, и это означало, что мы, наевшись, забыли встать и наточить косы, чтобы косить, косить, косить, косить, без конца косить траву.
– Ты этих своих художницу, художника и её мужа, ты любишь их? – спросила она, и гладкая её шея была кругла, гладкое колено заголено.
– Никого я не люблю. Что я такое, чтобы любить или ненавидеть, я буквоед, бумагоед, ты остаёшься здесь?
– А ты уходишь? Знаешь что – ты можешь любить их или не любить, это всё равно, в конце концов настоящие художники не обнаруживают своей любви или ненависти, но наличие задачи необходимо, я уже не говорю о сверхзадаче. Ну, что ты хочешь сказать – художнице не нужно иметь мужа-инженера, художник должен вовремя прийти на помощь своему коллеге, художнику не нужна семья, семья не должна мешать творчеству – это, что ли? Даже неудобно. Ну, осень, допустим даже, ереванская осень, ну и что? Борясь с материалом во имя искусства, художник и художница уподобляются друг другу? Ну и пусть уподобляются, что тут такого?.. Какая же это задача…
– И всё-таки я напишу это, Ева, и это будет хороший рассказ.
– Пиши, твоё дело, но так ты писателем не станешь. То есть, может быть, писателем ты и станешь, но не современным, не наших дней. Пиши.
В раздевалке мы застали Вайсберга. Закутываясь в тулуп, натягивая меховую шапку-ушанку, он милостиво улыбнулся мне:
– Подумал над моими словами, Мнацаканян?
– Подумал, Леонид Михайлович. И вот что придумал.
– Ну-ка.
– Хорошее название для вашего следующего фильма.
– Ну-ка, ну-ка.
– «Стрельба раздавалась из эсеровского сейфа».
Он засмеялся самым искренним смехом.
– Хорошо, – похвалил он и опять засмеялся. – А что? Может, и в самом деле сделать такой фильм? Негодяй, ах негодяй! Хорошее название, правда, Ева? Грех не воспользоваться им. Стрельба из эсеровского сейфа, ни-и-ичего-о. А армянин с прошлых курсов пил лучше. Геворг, не работай по ночам, это плохо действует на здоровье. – Он кончил застёгиваться. – А я вот тоже кое-что нашёл для тебя – обмен идеями, так сказать: только что закончившая медицинский институт свеженькая, пухленькая Анаит отправилась в горы к пастухам. Работать. Армяне ведь любят таких, сдобненьких? Любовь или любовный эпизод, что больше устраивает твоё национальное самолюбие, любовь или любовный эпизод между Анаит и одним из пастухов.
– Откуда взялась эта Анаит?
– Она дочь одного из пастухов или, ещё лучше, – горожаночка, городская красотка с повышенным чувством национального самосознания. И мы с тобой таким образом избежим всяких придирок. Против любви никто ничего не скажет. Плюс – горожанка сама вызвалась работать в селе. Это нам даже зачтётся, в хорошем смысле. Значит, так: училась в медицинском институте, появляется в самом начале фильма, работает среди пастухов. Любовь, ревность, обнажённое женское тело, нож мелькает в воздухе, примирение. Так и для села будет хорошо и для зрителя, остальное – как в твоём сценарии, без твоей заострённости конфликта, разумеется. Писем из дому давно не было? Как детишки, материальные затруднения имеются?
– Спасибо, Леонид Михайлович, дома всё в порядке, дети здоровы. Дайте мне время подумать, не хочу сразу соглашаться.
– Пожалуйста. Ты мой последний революционно-народный. Воспитай его как следует, Ева. Отдаю на твоё материнское попечение.
Мне не понравились эти его намёки.
– Да, – сказал я, – я сельский бунтарь, и только сельский бунтарь, я не бумажный червь, я крестьянин, какое счастье.
– А со второго часа Полонского ты, сельский бунтарь, сбежал, это тоже безусловно счастье. Но у нас не институт, у нас предприятие, за отлучку в рабочее время полагается штраф. Рубль штрафа, тебе это известно.
– Я не сбежал, Леонид Михайлович, я уединился и раздумывал над вашими словами.
– Мы с тобой такие хитрые, Мнацаканян, хитрее всех. Ева, поработай над его языком, – он подмигнул мне, давая понять, что прекрасно знает, как женщины работают над языком кавказцев. И сказал нам обоим вместе: – Ева умная девочка, подумайте вместе, что можно сделать. Я имею в виду сценарий, конечно, только сценарий. – Он снова подмигнул мне и удалился.
Боже, боже! Когда после свадьбы их заталкивали в комнату, когда за ними закрывали дверь и прислушивались к шорохам за этой дверью, эта скотина – зять, как он мог приблизиться к этой овце-невесте, как мог он потом выйти из этой комнаты – когда все смотрели, глаз не сводили с двери? И какое им было дело до того, была невеста девственницей или нет и зять настоящий мужчина или же слабак, а зять, почему он не брал топор в руки, почему не гнал всех в шею, размахивая этим топором, и невесту тоже?
– Рассказать тебе ещё один рассказ?
– Расскажи.
Как неожиданная близость, как волна опьянения, как улыбка, подаренная мальчишке из детдома, – в моих руках на секунду занежилась её шубка, шубка вобрала её в себя, как постель, я почувствовал вкус крови жертвенного ягнёнка и тело этой женщины, лёгкое и крепкое и вылепленное… вылепленное… но мне до безумия понравился образ жертвенного ягнёнка… гранитный храм, южная осечь, виноград давят, смуглые юноши, лёгкие, вытянутые в струнку кони и твёрдое лезвие ножа. В следующее мгновение шубка снова была тулупом из овчины, а эта женщина аспиранткой Озеровой, я надевал своё грубое пальто и лелеял в памяти сочетание слов «тёплый вкус крови жертвенного ягнёнка».
– Привет, старина!
– Здорово.
– На Андроникова билет есть?
– А про что он будет говорить?
– «Кто был всё же князь Звездич из «Маскарада»?»
– Нету билета.
– Достать тебе?
– Князь Звездич – я, благодарю. У древних армян, Ева, был языческий храм богини Анаит, там девушки отдавались юношам в храме, представляешь?
– Что-то такое я читала.
– В книге Энгельса про это написано. Осеннее солнце, виноград, нож, лошадь стоит, смуглые парни…
– Задача, – сказала она.
– Задача? Сейчас. – Она была хороша и была рядом. Мы оба были умники-разумники, я поднял воротник пальто, сейчас я должен был решить для себя сверхзадачу, и надо не забыть и послать Асмик телеграмму, да здравствует цивилизация, снявшая с меня трёхи и обувшая… всё это так, но куда совершеннее, куда ухоженней и талантливей вот этот вот Юнгвальд-Зусев, художник и поэт, актёр, прозаик, уверенный в завтрашнем дне постановщик, под чьим красивым лбом мысли отталкивают друг дружку, и такие гениальные мысли толкутся под его красивым лбом, что он не выдержал их напора и устроился с пишущей машинкой прямо здесь, в раздевалке, и вулкан его мыслей так неожидан, а мысли радостно стали извергаться с такой неожиданностью и поспешностью, что у него, у бедняги, не хватило даже времени раздеться, сдать пальто вахтёрше, он даже не зажёг сигарету, чтобы успеть передать бумаге хотя бы ничтожную часть этой лавины – с пальто на плечах, с незажжённой сигаретой во рту – рядом сидит девушка, пальто не падает с плеч, сигарета не дымит, и девушка не раскачивает длинной ногой – чтобы не мешать ему. Я остановился, но только потом, когда мы были на улице, под снегом я сообразил, что в раздевалке, остановившись, я выругался: – Сука! Сука и сукин сын! – Я остановился, выругался и прошёл, отчеканивая с каждым шагом: – Такой красивый… такой мыслящий… такой талантливый… пальто такое хорошее… такой Юнгвальд, почти что Ингмар… почти что Достоевский… Эй, Зусев, из тебя всё равно ничего не получится… не обижайся, но из тебя ничего не получится. – С сигаретой на губе, он снова склонился над машинкой. В зеркале мы шли навстречу себе, в глубине раздевалки оставался, делался прошлым эпизод с Зусевым и начинался новый час истребления свежей энергии.
– Который час? – спросила она.
– Пять.
– Три часа ещё есть.
– До чего?
– До Бергмана.
– Пойдёшь?
– Непременно.
– Может случиться, что не пойдёшь?
– Нет, пойду точно. А ты что будешь делать сейчас?
– Ничего, надо в Ереван телеграмму отправить.
Уютная тёплая зима была, снег этой зимой создан был для того, чтобы опускаться на наши ресницы, лёд – для того, чтобы мы взяли друг друга под руку, чистильщики, дворники – для того, чтобы расчистить для нас дорожки в снегу, а наши рты – чтобы говорить, говорить, говорить, без конца говорить. Вот упал, поскользнувшись на льду, пожилой человек, старик. Бутылка с молоком его разбилась, апельсин покатился под машину. Старик с трудом поднялся: сухое колено и твёрдый лёд столкнулись неудачно. Столько машин прошло, а апельсин оставался целым. Я сумел пробежать под носом у исторгающего дым и пар самосвала, я толкнул носком этот апельсин, поднял его и подал старику. А молочная бутылка разбилась. И было утешительно думать, что мы не старые, что бутылка молока для нас не имеет цены, что зелёные огоньки такси отдаются нам с быстротой и почти безотказно, что перед входом в метро продаются свежие пирожки, среди этой зимы. Можно сказать себе, что мы уже проголодались, кроме того, в пирожках есть что-то народное, когда ешь пирожок на улице, какая-то народная лёгкость спускается на тебя, пирожок смотрит на тебя и поглощается с какой-то простодушной сердечностью. Мы зашли на почту, чтобы отправить телеграмму, а потом выйти и съесть пирожок с беззаботностью свободного, ничем не занятого человека.
– Телеграмма – кому?
Перед тем как ответить, я посмотрел в её глаза: жене, моей жене, – я захотел уловить в её глазах ревность или печаль, мне очень захотелось, чтобы здесь влюблена была в меня она, а там в Ереване – Асмик… Я взял бланк, достал ручку и обдумал текст телеграммы: «У меня всё в порядке пришли сто рублей целую».
– Сколько надо сделать ошибок, чтобы ты мне отлично поставила?
– Дай, я напишу.
И я продиктовал:
– Асмик Мнацаканян. У меня всё в порядке…
Она жевала жвачку. Со жвачкой во рту она переспросила:
– Асмик?.. – и подождала. И её рот был красив.
Я взял её за руку и написал её рукой: Асмик.
Я продиктовал:
– Мнацаканян. У меня всё в порядке. Пришли сто рублей. – Когда я держал её за руку и в следующее мгновение тоже, мне казалось, что она отдаётся мне, и это было до отвратительности приятно.
– «Асмик Мнацаканян. У меня все в порядке, пришли сто рублей. Целую. Геворг».
Телеграмма мне не понравилась. Уродливая была телеграмма.
– Всё?
– Не слишком ли сухо?
– «Асмик Мнацаканян. У меня всё в порядке, пришли сто рублей. Целую. Геворг». Телеграмма как телеграмма.
– Конечно. И всё же давай что-нибудь прибавим. Дай напишу. Или сама напиши.
– Что написать?
– Рассказ идёт хорошо, через пятнадцать дней пришлю, прочтёшь, поцелуй детей.
– Что ещё за рассказ? – со жвачкой во рту спросила она.
Мы сдали телеграмму:
– Асмик Мнацаканян рассказ идёт хорошо через две недели пришлю тебе у меня всё порядке пришли сто рублей целую тебя поцелуй детей Геворг Мнацаканян.
Мы заплатили за телеграмму, подняли воротники и вышли на улицу.
– Что ещё за рассказ такой?
Я рассказал ей в двух словах, и она жевала жвачку и смотрела на меня, и её глаза были красивы, и взгляд полон внимания. Я взял её под руку.
– Может быть, тебе понравится это, слушай. У одного старика умерла жена. Совершенно здоровый старик поклялся на кладбище при народе, поклялся жене, как самый настоящий верующий, поклялся, что не оставит её одну в этой холодной одинокой стране, что придёт к ней через несколько дней, и пусть она потерпит эти несколько дней, пусть потерпит и простит его за опоздание. И старик не стал есть хлеб, и людям отвечал, что «уж на что вол, когда его товарищ умирает, вол грустит, смотрит по сторонам и…».
Я не знал по-русски слова «мычать», и она не помогла мне, не подсказала, я вынужден был изобразить, как мычит вол. Её взгляд наполнился какой-то живой теплотой, бесшумно жующие её губы действовали возбуждающе…
– Что же, мы хуже вола какого-нибудь, выходит? Старик истощился за несколько дней, лёг и умер, слышишь – лёг и умер… У него был красивый сад, он кружил среди яблонь, подсолнухов, ульев и ничего не ел, будто бы был обижен на домашних, будто бы обижен – чтобы они не заставляли его есть… Чтобы не заставляли есть…
Моя рука приятно согревалась под её рукой, наши головы были очень близко, её волосы иногда касались моего подбородка, в её взгляде была любовь – и любовь, и какая-то насмешливая, смешанная с иронией теплота.
– Кто такая Асмик Мнацаканян? – спросила она.
– Кто же ещё, жена моя… Хорошая девушка… мать моих детей… не очень развитая, но очень хорошая мать. Рассказ про старика глупость, да, Ева?..
Переминаясь с ноги на ногу, мы ели пирожки с мясом, купленные тут же на улице. После коньяка, осетрины и ресторанных роскошеств мы ели эти пирожки с каким-то снисхождением, как бы прощая этим пирожкам то, что они – пирожки.
– Ты когда-нибудь играл в футбол?
– Немножко. А что?
– Вспомнила, как ты апельсин из-под колёс увёл. Да, что я хотела тебе сказать: твой художник, художница и её муж – хорошие люди, их можно любить. – Она вытерла уголки губ: – Но задача, найди задачу и разреши её посредством этих людей и ереванской осени.
Я задохнулся, потому что переел. Моё сердце остановилось. Я не ответил ей, у меня кружилась голова.
– Людям искусства стало труднее, положение их значительно затруднилось, – сказала она, – если бы на тему художница – муж – осень, если бы на эту тему написал рассказ Бунин, это был бы хороший рассказ. Современное искусство не может уже этим удовлетвориться. Содержание времён меняется – должно измениться и содержание искусства. У нас критикуют форму, но напрасно, поскольку, принимая новое содержание новых времён, невозможно отрицать форму, ведь форма, – оживлённо сказала она, – средство выражения содержания: новое содержание требует новой формы. Форма – это заявка на новое содержание. Те, кто отрицают форму, выставляют себя поборниками содержания, но по существу они противоречат себе, поскольку форма – оболочка содержания, но это не означает, – вздохнула она, – это не значит, что форма сама по себе не самостоятельное явление, пора уже заговорить о форме формы. Звучит как будто бы смешно, я понимаю, но можно говорить даже о форме формы, потому что форма независимо от содержания имеет своё содержание. Можно снять фильм по содержанию совершенно социалистический, но при этом взять такую форму, чтобы получился фильм антисоциалистический. Шолохов на сельскую тему…
..................................................
…но…
..................................................
…но ведь…
..................................................
…слушай, это к тебе относится, село это не тот перекрёсток, где сходятся линии двадцатого века. На сельскую тему невозможно делать литературу двадцатого века. Твой старик – это наивно. Ты Сэлинджера читал рассказы? Слушай, ты, наверное, проглядел это, иначе ты не стал бы писать о каком-то старике, который не ест хлеба. Рассказ называется «И эти зелёные глаза». …Молодая женщина проводит ночь у старика, её муж и старик разговаривают по телефону, весь рассказ состоит из этого разговора, молодой человек спрашивает у старика о своей жене, но он знает, что его жена у старика, а старик знает, что муж знает, что его жена у него, а муж знает, что старик знает, что он знает, что его жена у старика, и потому именно этот старик сердится и говорит этой женщине, что было бы хорошо, если бы она не ёрзала и спокойно сидела на месте. Женщина нагнулась, чтобы поднять с полу сигару старика. Вот тебе двадцатый век, утончённый, хитроумный и одновременно грубо откровенный. Телефонный разговор, казалось бы, только внешняя оболочка, но какое колоссальное содержание у этой оболочки: во-первых, рассказ весь из диалога – такова форма, и самостоятельное содержание этой формы, в свою очередь…
..................................................
…и получается форма в форме, то есть форма формы, так можно найти форму формы формы формы…
Навстречу нам шло такси:
– Пусть сгинет форма формы формы формы.
– Пусть. Идём пить кофе.
– Где твой дом?
– Мы дома кофе не пьём. Мне кажется, будет хорошо, если ты оставишь в покое этих художников и этого деда, хотя в истории о художниках есть что-то симпатичное.
– Я еду в общежитие.
– На Бергмана не пойдёшь?
– Ни в коем случае. Так где ты, значит, живёшь?
– Отвези меня лучше в Дом кино.
Я смог выдавить из себя ещё какие-то слова и сделать какие-то движения, но сделал это я, насилуя себя. Я положил руку на её колено и крепко сжал это колено. Безжизненность капронового чулка была неприятна, но я не отдёрнул руку, я ещё крепче сжал её колено.
– Слушай, – сказал я, – ещё одна история. Последняя. – Она стала слушать меня самым вежливым образом – с самым вежливым вниманием и с самым вежливым недоверием. И она не оттолкнула мою руку. – Значит, так. Следователь и обвиняемый. Следователь и обвиняемый – следователь женщина, надела военную форму, смотрит холодно и спокойно, женщины в ней нет. Красавица, а женщины нет в ней. Обвиняемый мужчина, в своей профессии гигант. Он потом перевёлся в Москву и стал академиком. Женщина-следователь подполковник. Она говорит ему, что он был связан с враждебными нам и так далее. Мужчина усмехается и садится к ней поближе. Женщина говорит, что он… а мужчина садится ещё ближе. Жарко, вентилятор нисколько не помогает. Следователь говорит… мужчина кладёт руку на её руку. Женщина говорит, что их группа имела задание взорвать… мужчина берёт её за волосы, достаёт из её рта папиросу и целует её, целует долгим и крепким поцелуем, не дав ей сказать слова. В комнате делается тихо, открывается дверь – люди заглядывают, чтобы посмотреть, что случилось, а случилось то, что давно уже должно было случиться с этой женщиной, то, что, ослабевая, угасало в ней, – эта женщина-следователь снова делается женщиной.
Водитель улыбнулся мне через плечо, а она отвела мою руку и сказала мне:
– Самая обычная вульгарная история. В ней нет глубины. Тебе кажется, что это сопрягается с экзистенциализмом, но это обычная вульгарная история.
– Вот потому ты и искусствовед, а я, пожалуй что, стану писателем. И вовсе это не вульгарная история, это трогательная история о засыхающем материнстве и просыпающемся материнстве, если хочешь – даже очень трогательная. Что касается двадцатого века, то плевал я на твой двадцатый век. Ни один писатель никогда не понимал, что такое век, – а все искусствоведы и теоретики потом по произведениям писателя судили о том, какой это был век и каким была литература этого века. Съела?
– Идём на Бергмана, что ты будешь один в общежитии делать?
– Лягу спать.
– Ах ты ленивый, – она посмотрела на меня с лаской.
– Не обижайся. Хочешь, поедем вместе в общежитие, будем пить турецкий кофе и беседовать о форме формы формы формы.
– Ах ты глупый, – засмеялась она одним только ртом: от смеха образуются морщинки, а она ещё не потеряла надежды сниматься в кино. – Одним словом, я вместе с Вайсбергом не принимаю твой сценарий. По совершенно другим соображениям, но не принимаю.
– До свидания. Меня это нисколько не огорчает.
– Дай поцелую тебя. Не грусти. До свидания.
Недолго, очень недолго я всё же смотрел ей вслед, и её шубка, её ноги, её походка – всё это было близкое, родное мне. Они с мужем еле сводят концы с концами, наверное, – аспирантская стипендия и зарплата молодого чиновника. Живут, наверное, в коммунальной квартире, в одной комнате – в коридоре стукаются о чужие вещи, на кухне булькают, варятся и раздражают чужие обеды. Одеваются, наверное, из последних сил. Если что-нибудь случится с шубой – натянет, наверное, лёгкое осеннее пальтецо. Когда у женщины всего-навсего одно парадное платье…
– Хорошая баба, – сказал таксист. Потом сказал: – Если деньги были потрачены, напрасно упустил, – и вздохнул: – да-а, жизнь. А история про следователя, – прокашлявшись, спросил он, – взаправдашняя или сами, так сказать, придумали?..
– Нет, было на самом деле.
– А сами вы грузин или…
– Я армянин.
– А, извините, этот обвиняемый не грузин был, а женщина не русская?
– Почему, армяне оба.
– А говорят, будто армянки строгие, близко не подпускают.
– Не подпускают, а откуда же тогда дети?..
– А ты что, собираешься написать этот рассказ?
– Не знаю, посмотрим.
– Если не написал ещё, не пиши, не стоит, по-моему, напрасная затея.
– Почему?
– Показательного ничего нет, чтобы пример взять, не напечатают. Я вот, послушай, тебе расскажу…
Лифта не было, я нажал кнопку и подождал. Мне было лень подниматься пешком – ах ты ленивый. С мягким поскрипыванием спускался лифт, я ждал, и где-то – то ли близко от меня, то ли во мне самом – разгорался невидимый огонёк. Совсем так, как когда я играю в жмурки со своей дочкой и она из своего очень тайного укрытия – из-за спины матери – смотрит на меня с открытым ртом, не дыша. Лифт спускался, вахтёрша читала газету, огромные часы на стене… столик с письмами. Из ста писем само собой отделилось письмо Асмик. «Наша собачка, господи, до чего хороша наша собачка, ведь ты даже не знаешь, до чего хороша эта наша собачка». Я распечатаю письмо в своей комнате, запрусь изнутри – и распечатаю. Лифт вё ещё спускался, исправно поскрипывая, а столик с письмами продолжал шептать мне, что у него что-то припрятано для меня. Я сказал себе, что это чувство навеяно мне письмом Асмик и телепатические сигналы стола сейчас прекратятся. Рубик на две недели поехал в Египет, Грайр писем не пишет, машинальные напоминания киностудии о том, что… телепатических свойств не имеют. Мирбабаев, Маклярский, Джон Окуба, Гурамишвили, Эльманович, Сака, – давно я не видел Сака, наверное, опять уехал к своей Леди, – Иванов, Иванов, Иванов, Васюков, Саакян, Герман, Бондаренко, Макаров, «Моему сыну Виктору Макарову»:
..................................................
«…вместе с твоей родной матерью мы тебе, Витя, желаем…» Алёша Алексеев, Строкопытов, Белокуров, Безручко Толя, Безручко Анатолий. Мнацаканян Г. А. Это я. А., то есть Акоп, то есть Акопович. Шаги неверные, он устал, устал до смерти, но спать ляжет, когда кончит дело, а дело конца не имеет, ну и что – от дела ещё никто не умирал. Никто не умирал. Всегда – неделю небритый, с короткой улыбкой, – и ты, покрываясь потом, понимаешь, что и это твоё обещание – одни только пустые слова. Мнацаканян Г. А. Ты себя узнал с трудом, потому что был спрятан за почерком работника почты. Почерк этот извещает о «посылке».
ГОРОД МОСКВА, И-345, УЛИЦА УСПЕНСКОГО, 150/11, КОМНАТА 167. МНАЦАКАНЯНУ ГЕВОРГУ АК.
АРМЯНСК. ССР, ГОРОД КИРОВАКАН, СЕЛО ЦМАКУТ, АКОП МНАЦАКАНЯН.
Он слюнявил химический карандаш и, подумав немного, снова слюнявил карандаш и писал. На языке у него ещё сохранились точки от химического карандаша. Я приподнял крышку – в лицо мне ударил яблочный аромат – я отпустил крышку. Адрес написал, взял ящик под мышку и неверными шагами направился в село Овит, на почту, не забыть бы ещё взять в Овитовской больнице справку, что в октябре месяце с 5-го по 27-е лежал в Овитовской больнице с радикулитом…
– Оу, ананас, – просиял в улыбке Джон Окуба. В Евиной одежде, с Евиными волосами, чуть повыше Евы – с нами в лифте поднималась девушка. Рука негра была на её плече. Девушка равнодушно покосилась на меня.
– Да, ананас, – сказал я.
– Запах! А-ро-мат. Хароши, – засмеялся негр.
– Хочешь?
– Хочу.
– Очень хочешь?
– Хочу.
– А я не дам.
– Ты очень любезен, – засмеялся он.
Один гектар покоса стоит четырнадцать рублей двадцать копеек. Если ночью не выпадала роса, мы скашивали по три тысячи триста метров в день. Если же роса выпадала – делали четыре тысячи метров. Обед нам подвозили, а потом его стоимость с нас вычитали. Оставалось два рубля семьдесят копеек в день. Два-три раза нам привезли мясо, мясо было вкусным, а про бульон я даже не говорю, бульон был неслыханно, сказочно вкусный, но потом за это мясо с нас содрали по городской цене. Лучше всего было косить натощак, хотя что ж тут хорошего. Никто у тебя мяса не просит, – сказали мы заведующему складом, – хлеб и сыр, – всё, что нам нужно. И тогда бы нам в день оставалось по три рубля пятьдесят копеек на душу, то есть сто пять рублей чистоганом за всю работу. И мы придумали хитрую штуку – косить по ночам, в самое росное время. А днём спать. Так больше получится. В безвременной сонной вечности мы косили, вон Млечный Путь, Большая Медведица, Весы. И, как в сказке, раздавались наши голоса, наш смех, и, как в сказке, благоухал наш хлеб, и как будто бы не ты – кто-то другой размахивал косой, потел и обсыхал. Голоса в ночи были глухие, и мой младший дядя Овик останавливался возле меня, смотрел выжидательно и укоризненно: Вуэй… поточи косу… дай я сам тебе сделаю, – и точил мне косу. Ама, ама, ама, – смеялся за моей спиной и протестовал немой Мехак, – дескать, мы тоже люди, мы тоже косари, наша коса тоже плохо режет, и вот уже его коса визжала, накрепко прижатая к точильному камню. Бедная тварь, – жалел его мой дядя. Ву-у-у, совсем как взаправдашний бык кричал верзила Спандар с другого конца покоса. Чо-о-о-рт, – оборачивался к нему я. Я косил внизу – вместе с медленным моим восхождением покачивались в небе огромная луна и вереница звёзд, удивительно невесомым было их покачивание в молочном лунном свете. С рассветом вместе наша любовь превращалась в сено – для скотины наших заказчиков, в четырнадцать рублей двадцать копеек, в резиновый хлеб и сухой сыр. Вуэй, – каждый раз удивлялся на рассвете мой младший дядя Овик, – ты всё ещё наш, Спандар? Потом прискакал на лошади председатель нашего села: Чтобы послезавтра были в наших горах, наша трава поспела. Мы получили наши сто рублей, сложили, спрятали их в карман, закинули на плечо косу и топор, взяли точильный брусок, подхватили наши стёганые ватники и пошли гуськом по нашим горным тропинкам, спускаясь и поднимаясь, спускаясь, поднимаясь…
Армянск. ССР, город Кировакан, село Цмакут, Акоп Мнацаканян.
Я отодрал крышку. Яблочный аромат медленно обволок мне лицо, поднялся, повис с потолка, потом заполнил все углы и щели, и моя комната на улице Успенского стала нашим деревенским домом. Я взял со стола стакан Миколы Тарана и захотел спрятать его где-нибудь, я хотел было вышвырнуть из окна, но засунул за батарею парового отопления. Я вытащил из крышки ящика четыре гвоздика и поставил на стол эту крышку, обтёсанную отцом, с написанным на ней адресом – я прислонил эту крышку к стене. Потом я не знал, достать из ящика все яблоки или же оставить их там. Под нашим солнечным карнизом так и носятся ласточки в октябре, и источает аромат яблоня. Яблоня выделяется из всего прочего растительного мира своим ароматом. Аромат её заполняет пространство между листьями, повисает с ветвей, спускается, мягко ложится на грядки с укропом, плутает в зарослях лоби. Собака открывает один глаз и трижды принюхивается, и снова закрывает глаз, и сладко храпит сквозь дрёму – мол, как хорошо, я сплю в тени яблони. Вон наш забор, вон заросли лоби, вон два дубка, вон цветёт картофель – и все они живут в аромате яблони. И вдруг – то ли от собачьего лая, то ли от короткого дуновения ветра аромат выпархивает из сада на рыжую дорогу. Умолкают ласточки. На рыжей дороге вдали останавливаются пастух и его волкодав. Пастух только что спустился с гор, прищурив глаза, он хочет прокричать через это солнце нам – волкодав его, задрав морду, принюхивается к этому солнцу, а только что спустившийся с гор пастух кричит, обратив лицо к нашему дому: Ако-о-оп… Акоп, скажи своей яблоне, пусть подберёт подол, а то ночь ведь на свете есть, пастухи есть, целый год не видавшие фруктов, воровство есть… Не ври, – говорит мой отец, – не ври, то есть запах яблони не доходит до нижней дороги, просто ты помнишь, что у меня хорошая яблоня есть, ты останавливаешься и выдумываешь, будто тебя аромат остановил. Клянусь тобой, – божится пастух, – хочешь, иди стань на моё место, сам увидишь. Бездельник… – смеётся мой отец, и слово его замирает на половине, потому что пастух далеко и не стоит кричать, надрывать глотку. Иди, иди к нам, – машет ему рукой мой отец и ворчит под нос: – Деревенщина…
Они говорят, что яблоня моя ровесница. Я этого не помню. Будто бы мне три года было, когда отец привил эту яблоню. Вечером пришёл с поля, сел в сумерках на землю возле яблоньки, достал из кармана мокрую тряпицу и кликнул меня глухим голосом: Гево… принеси пилу, иди сюда… – я принёс ему пилу, он поцеловал меня и посадил на колено. Мы вместе надрезали молоденькое дикое деревцо, он сказал мне – молодец, и я крепко поверил, что сам надрезал дерево, потом он вытащил из мокрой тряпицы саженцы для прививки. И он ловко так заткнул в надрезы на стволе четыре крошечных черенка.
Он говорит, яблоня стареет, корни, мол, уже не держат. Говорит, чтобы она не требовала питания от корней, он спилил лишние ветки… он пришёл, стал среди сумерков возле дерева и постаревшим голосом сказал, повернувшись к дому, где клокотал на печке чайник: Геворг… принеси пилу… – а потом в сумерках сам пошёл, достал пилу и неверными шагами вернулся, спилил половину ветвей. И поволок их к хворостяной изгороди.
Я убрал со стола кофеварку и кофейную чашку, и на столе остались яблоки и ящик из-под них. Аромат их заполнил все уголки комнаты. Говорят, птицы могут летать, потому что косточки в их крыльях пористые, наполняются лёгким воздухом, они наполняются лёгким воздухом, и птицы в восторге хотят лететь.