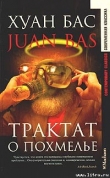Текст книги "Похмелье"
Автор книги: Грант Матевосян
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Гранаты?
Гранаты. Четыре штуки. В нашем селе гранаты не растут. В Сибири они есть, в Ленинграде есть, везде – есть: кавказский торгаш, подхватив ящики, едет в Магадан и говорит там: это гранат, сто рублей штука, с другого конца земли вёз. В стране, где растёт гранат, ещё живут два-три садовода, у которых гранат и Магадан никак не связываются в сознании. Я закрываю глаза и вижу: в Касахе, стране гранатов, старый азербайджанец подвёл к своему дому осла. Прямо к двери. И поставил его лицом к деревне армян, к Цмакуту. Потом приволок, взвалил на осла две бесхитростные корзины и сказал ослу – стой смирно, жди, и осёл, похлопав глазами, стал ждать. Азербайджанец из Касаха принёс и стал складывать в корзину из ивовых прутьев бесхитростные гранаты: две в эту корзину – две в ту, четыре в эту – четыре в ту, шесть в эту – шесть в ту, не мешай, сказал он ослу, не сбивай со счёта. Восемь в эту – восемь в ту, десять в эту – десять в ту. Жена его крикнула на внука: тише, дед считает, собьётся со счёта. Двенадцать штук с этой стороны – двенадцать с той. Сто штук с этой стороны – сто штук с той. 100 – 100. Тошшш, – сказал он ослу, – Цмакут помнишь где? – И пустился в путь под мягким осенним солнцем, когда желтеют, поспевают на крышах хлева тыквы, и собаки внимают солнцу, а самый красный на свете – гребень петуха, но связка перца тоже красная. И вот уже азербайджанец из Касаха кричит в селе Цмакут: кому гранат, сладкий гранат… меняю на картофель, гранат… – и все смотрят – за изгородью нет никого, потому что одного цвета и изгородь, и осёл, и корзина, и азербайджанец. Только одна очень красная точка горит-пламенеет – вон там, и если это не гребень петуха, значит, это гранат в руках азербайджанца.
Пара белых шерстяных носков.
Эта женщина не может поверить, что государство тоже может связать что-то такое, что будет греть так же тепло и будет таким же красивым. Государство, по её мнению, вяжет или тёплые грубые носки, или тонкие холодные. И не забота государства – уход за её ненаглядным сыном. Эта женщина не хочет никому перепоручать заботу о своём сыне. Геворг забудет укутать шею, горло у Геворга заболит в этой холодной стране. От работы с землёй, с дровами, с самогонным аппаратом пальцы её огрубели. Пальцы её сделались неловкими, не сгибаются хорошо, спицы то и дело выскальзывают из них. Она покупает в магазине носки и даёт их надевать отцу, а для меня вяжет сама. И за эти пятнадцать лет, полных самых разных забот, она не забыла размер моей ноги.
Головка сыру.
Мол – что? Головка овечьего сыру. Но зачем, для чего? Якобы живущий в Москве Анастас Микоян не забыл ещё вкуса похлёбки из авелука и якобы его родичи из деревни присылают ему мешок авелука.
«Слушай, муж, не стыдно, как думаешь, будет послать ребёнку головку сыру?» – «А что тут стыдного?» – «Не знаю, Москва всё-таки, товарищи, окружение, что скажут…» – «Что он, лучше Микояна, что ли, твой сын, неси сыр, не морочь голову».
«В твоём многолюдном городе Москве ты откроешь эту посылку – не обижайся, что она такая нескладная, потому что матери твоей нет здесь, и всё это я сложил кое-как сам и очень торопился, потому что Валод едет на машине в Овит, хочу послать с ним по той причине, что сам не могу оставить скотину без присмотра, а мать твоя поехала к своим, а также болеет немного, вот уже месяц в районной больнице лежит и вестей от неё нету, а я не могу оставить скотину и поехать к ней. За хозяйством и колхозной скотиной кое-как присматриваем с Гикором на пару, пока твоя мать вернётся. Эти носки мать связала в больнице и прислала для тебя. Не вздумай связываться со всякими пьяницами, стыдно, если ты в твоём возрасте ввяжешься в какую-нибудь драку или историю. Наши ни пенсия, ни зарплата ещё не пришли, хотел послать для тебя немного денег, деньги все отдавай на еду. Уже зовут, кончаю письмо, не застуди себя. Акоп. Когда пришлю деньги, купи мне шапку с ушами, уши у меня очень мёрзнут. Будь здоров. С руководством своим будь хорош».
Он идёт, спотыкаясь, неверными шагами, под мышкой у него охапка сена, если увидят – из-за охапки никто ругаться не станет, а вязанку тащить уже трудно, а лошадь осенью потерялась в горах, верней, украли её, кто-нибудь из Касаха или Иджевана увёл. Иджеванцы. Отец пообещал односельчанам решить вопрос пастбищ, Геворг пообещал помочь ему в этом – но ведь неудобно, чтобы Грайр и Геворг занимались такими делами, для их имени нехорошо.
– Спи, спи, – сказал я себе, – когда поедешь в село, купишь ему хорошие часы и ушанку купишь, – я закутался в одеяло и повернулся к стене. – Закрой глаза, дыши спокойно, ровно, ещё ровнее… всё очень хорошо, спи. Но письменный стол, белая бумага на нём и полная чернил авторучка звали меня, и стул приманивал своей холодностью.
– Спи, потом встанешь, напьёшься кофе и поработаешь на славу, как косарь… – «Если у пчёл есть язык и они могут говорить друг с другом и обсуждать свои дела… к голому склону Синей Горы прилепился можжевеловый куст и зовёт за собой…» – Пропади ты пропадом, не хочу тебя! – я отшвырнул одеяло, выпрыгнул из постели и сел к письменному столу. – Форма формы формы формы… коньяк восемь рублей + говяжья вырезка с грибами пять рублей + осетрина три рубля + ржаной хлеб 0,10 рубля + сигареты Вильсон три рубля + такси 1,50 рубля + …
В дверь постучались. В комнату заглянуло улыбающееся лицо Тимура Мирбабаева.
– Ну что, Хэм, работаешь, Хэм? Как пахнет у тебя.
– Работаю, Гасан Задэ Гаджи Мурад Тепак Ити-оглы.
– Американец Хэм работал в брюках, – он вошёл в комнату, ухоженный, приглаженный, причёсанный, – а ты, значит, предпочитаешь голышом. Смотрите-ка, армянский Хэм натюрморт себе поставил: яблоки и сыр, и дощечка с адресом, ты что не бросишь литературу, не займёшься живописью, Хэм, армянская литература здорово бы выиграла, не думаешь?
– Не трогай, прошу тебя.
– Неужели армянский народ всё ещё производит сыр, я думал, армянский народ производит одних только писателей.
– Возьми яблоко и уходи.
– Ты что же, не идёшь на Бергмана?
Я вытолкал его, запер за ним дверь и забрался в постель.
– А что, Ева Озерова ничего бабёнка? – сказал он уже из-за двери.
– Иди ты к такой-то матери вместе с Озеровой! Надоели! – И я сказал себе: – Жизнь состоит из полных и пустых дней, ты можешь разрешить себе несколько пустых дней, спи. Бай-бай, скотина, бай-бай…
Из колыбели выглянула беззубая, как мякина, улыбка моего сына, а моя дочь вышла на цыпочках из комнаты. «Чтобы братик заснул, братик вырастет, станет большим братиком, вместе будете в прятки играть», – от гладильного стола с улыбкой закрепила этот семейный союз Асмик, в жаркой кухне клокотал чайник, и я вспомнил, что от моего сына пахнет молоком.
Во всяком случае… во всяком случае, как получается хлеб? Собирают колосок к колоску, в каждом колоске двадцать зёрнышек – два грамма, колосок обмолачивают, зерно сушат на солнце, потом мелют его на мельнице, получается мука, из муки делают тесто, приносят дрова, чтобы разжечь печь. И всю жизнь ругаются, собачатся с лесником… Я проснулся в этой зелёной комнате, в общежитии, в Москве. Плечо у меня замёрзло, а ноги были словно в тёплой вате. «Что это, что это – нос горячий, задница холодная, если узнаешь – поеду вместо тебя в Кировакан». Я проснулся, потому что в дверь стучали.
– Войдите.
Дверь снаружи толкнули, она не открылась.
Он ворвался в комнату, злой, как собака, спросил у меня:
– Ты что, спал? – и пошёл и сел с размаху на стул возле письменного стола.
Я надел брюки и мягкие домашние шлёпанцы. Он взял ручку и зацарапал по бумаге. Потом спросил как бы между прочим:
– Куда ты эту потаскушку дел?
– Какую потаскушку?
– Потаскушку. Еву Озерову.
– Какая же она потаскушка? Женщина как женщина, живёт себе.
– Ты привёл её сюда?
– Нет, Эльдар, не приводил.
– Молодец, – сказал он.
Он весь сосредоточился на одном из листков, и, прежде чем засмеяться, поглядел на меня из-под рыжих бровей и спросил коварно:
– Ты что это натворил, слушай?
– Что я натворил?
Он засмеялся и вскочил с места. Потом хохот его сменился тихим похихикиванием – он внимательно изучал листок бумаги.
Коньяк – 8 рублей + говяжья вырезка с грибами 5 рублей + осетрина 3 рубля + ржаной хлеб 0,10 рубля + сигареты Вильсон 3 рубля + такси 1,50 рубля + пирожки 1 рубль + глупая телеграмма 3 рубля + горчица 0,001 рубля + белый хлеб 0,15 оубля + невиданно белая соль 0,003 рубля = 0000000000000000000000000000.
– Там же по-армянски написано, как ты догадался?
Он всё ещё смеялся.
– По коньяку. По цене, – сказал он. – И по ржаному хлебу. – Он поискал и нашёл: – А вот это лобио. Это такси. Американские сигареты. – С листком в руках он вышел, корчась от смеха, – 00000 копеек…
– Форма формы формы формы, – я пошёл по длинному коридору умываться. Было полтретьего ночи. Я молод и свеж. В Ереване сейчас полчетвёртого ночи, мой сын проснулся и плачет понарошку, он вырос ещё на пять часов и просит грудь – для новых пяти часов сна, за которые он вырастет ещё на пять часов… Они хохотали, сгрудившись в дверях туалета. Разглядывая мой список. Они мои друзья: я их люблю, их присутствие сплетает для меня некую тёплую атмосферу надёжности, приятно чувствовать их существование в Ереване, в Молдавии, в Тбилиси, в Москве, в Ленинграде. Виктор Игнатьев говорит – Петербург. Я брызнул на них водой. Они засмеялись – по-другому уже – и подождали, пока я вытру лицо. С ними вместе была девушка с мягким, немного отечным большим лицом. Она не была чьей-нибудь женой. Желтовато-смуглая, глаза подведены краской. Рука одного из ребят обнимала плечо этой девушки, прихватывая грудь. Виктора Игнатьева рука. Они вышли из умывальной комнаты раньше меня и заспешили по коридору – спины ребят, ноги девушки и за ними – я, и это наше шествие очень напоминало то, как бежит по ночному городу свора бродячих собак. Они ввалились в мою комнату.
– Как пахнет хорошо, – сказала девушка и села на мою постель.
Виктор Игнатьев к моему ряду нолей прибавил ещё один ряд – от себя и рассмеялся:
– Странная арифметика, суммируются блестящий Антониони, лучшее чешское пиво, русский хлеб и мясо, и получается ноль, – он ласково наклонился ко мне и добавил шёпотом: – и Ева Озерова.
– Нет, – сказал я.
– Понятно.
– Что понятно?
– Вы про что? – поинтересовался Максуд. – Про что? – спросил он меня бровями.
– Ничего, так просто.
Под нолями Игнатьева выстроился нервный ряд кособоких нолей Эльдара Гурамишвили.
– Это из Касаха гранаты?
– Кто же станет Геворгу из Казахстана гранаты посылать?
– Да, плохо сложился день у бедного Эльдара, – грустно сказала незнакомая женщина, сидя на моей постели. Эльдар посмотрел на неё и побледнел. Сейчас должка была произойти какая-нибудь неприятность.
– Касах – область в Азербайджане, кажется на востоке, – улыбнулся Максуд. – Геворг хочет отнять его у меня, но я не патриот, со мной по этому поводу спорить бесполезно. – И, взяв ручку со стола, Максуд зашептал мне на ухо: – Он избил Юнгвальда и его девушку, из-за хромоножки.
– Какой ещё хромоножки?
– Вот мои ноли, я ставлю их, потому что моя девушка сегодня была хромой. Надя, не говори ничего своей подруге, даже наоборот, потому что на самом деле я доволен. Я не понимаю, почему Геворг Мнацаканов поставил Еве Озеровой отметку – ноль. Я и свои нули ставлю только исключительно во имя дружбы, потому что пустых дней нету. Я своим днём доволен.
– Геворг поставил Еве Озеровой отметку ноль потому, наверное, что не привёл её в общежитие, верно, Геворг? – он, Виктор Макаров, был согласен, что день был пустой и равнялся нулю, он взял ручку, попросил сигарету, поставил свой ряд нулей и похвалил яблоки на столе. – Я так и не понял, каким образом Казахстан оказался в западном Азербайджане. Можно, я возьму себе один гранат? – он пожелал всем спокойной ночи, зевнул, потянулся и ушёл.
– Дай мне, пожалуйста, бумагу и ручку, – сказала мне с постели смуглая женщина.
– Вы ещё не знакомы, познакомься с Надей, Геворг.
– А почему вы Геворга не привели с собой?
Её влажная холодная ладонь не понравилась мне, её смуглая мягкость была отталкивающая и что ноги так открыты…
– Потому что Геворг верен своей жене в Ереване и Еве Озеровой – в Москве.
– Слушай, Геворг, – сказал Максуд, – Вайсберг нашёл тему для нас с тобой. «Боюсь, что сценарий Мнацаканяна идеологически неприемлем, гроша ломаного не стоит, а талант терять жалко. Вы вот что, возьмите вдвоём и напишите про армяно-азербайджанские распри, попытайтесь осмеять причину этих распрей и всей этой галиматьи, которая воспринимается, понимаешь, вами как дорогая сердцу история, – пусть зритель в зале умрёт, пусть он выйдет из зала заново родившимся, понимаешь ли». Что скажешь?
– А ты ему что сказал?
– Что поговорю с тобой.
– Я согласен, – сказал я, – рациям, аль вер, – сказал я по-азербайджански.
Он растерянно посмотрел на Эльдара, на Виктора, потом на меня.
– «Я согласен», а дальше…
– Он говорит – я согласен, вот тебе моя рука, – перевёл Эльдар с усмешкой.
– Да, я согласен.
– Слушай, – его смех был жалобный и очень красивый, – пишу по-русски, физиономия, не поймёшь, то ли грузинская, то ли еврейская, и нашу историю совсем не знаю, только то, что в апреле двадцатого года Красная Армия вошла в Баку: «сан турк сан? сан гявур сан».
– Кто вам дал право, дорогие господа, с лёгкой руки Вайсберга смеяться над болью народа?
– Если бы речь шла об армяно-грузинских войнах, ты разве не согласился бы со мной работать, Эльдар?
– Изумительно, просто великолепно, – сидеть в крошечном закавказском тондыре и играть в Италию-Францию.
Смуглокожая незнакомая женщина глубоко вздохнула. Она поставила свой ряд нулей, поставила второй ряд и оставила третий на половине. Она попросила спичку, размазала нечаянной слезой краску на ресницах и улыбнулась:
– Ну, как, проходят газы у твоего малыша?
– А вам откуда про это известно?
– Ребята рассказывали про письмо твоей жены.
– Ну, газы и газы.
– Мои все друзья в Баку – армяне.
– Ты в Эрманикенде родился?
– Почему?
– А я больше про тебя думала, что армянин, Эльдар.
– Я, господа, чистокровный грузин.
– Макаров сегодня гнусно себя повёл.
– На Полонском или ещё что-то потом случилось?
– Макаров своё дело знает. Вставайте, пойдём ко мне, у меня две бутылки вина есть, идём, Геворг.
– Ни в коем случае, я работать буду.
– Значит, сюда принесу, яблоки есть, сыр есть, гранаты есть. Я буду закусывать шерстяным носком. Мне что-то есть захотелось, у тебя хлеба с луком не найдётся, Геворг?
– Это не носки, это «гулпа», гулпа не для того, чтобы ими закусывать, уходите, я должен работать.
– Правда, Витя, принеси вино сюда, – сказала смуглая женщина.
– Лёгкое вино, пойдёмте выпьем, – поднялся Эльдар. И потянул меня за руку. – Мы сегодня с тобой ещё не пили.
– А башня всё поднимается, – обернулся от окна Виктор Игнатьев. – Вино… удивительное слово, вино…
– Идёмте, но я пить не буду.
– Слушай, Геворг, как будет вино по-армянски?
– Кажется – гини.
– Да, гини. Ги-ни, гини.
– Гини, ги-ни, – сказал он и прислушался, – красивое слово. Ги-ни. И ваши буквы тоже какие-то торжественные и праздничные. Вашими буквами можно изобразить: «Всадники истоптали зелёные поля», вашими буквами нельзя написать: «Объединённое командование требует безоговорочной капитуляции» или какую-нибудь подобную глупость. Не люблю русский шрифт. Какое имеет отношение Достоевский к русскому шрифту?..
Все двинулись к дверям. Незнакомая женщина спустила ногу с ноги и протянула мне руку. Её влажная, мягкая ладонь и широкое колено были до противного приятны. Я пошёл, чтобы закрыть форточку, и заставил себя сказать – тьфу! В дверях стоял Максуд и ждал меня.
– Кто эта женщина?
– А ты правда Еву не приводил?
– Вот тебе на-а-а…
– Что? – засмеялся он.
– Вот тебе на-а-а… а хоть и привёл, тебе что, ему что, какое всем вам до этого дело…
Он засмеялся и сказал, и это было его извинением:
– Да, это главный минус нервного двадцатого века.
– С каждым днём толстеешь, а говоришь о нервном двадцатом веке, вот тебе на-а-а…
– Толстею, потому что бросил бокс.
– Значит, не хочешь вместе сценарий писать?
– О любви – пожалуйста. О спорте.
– На пантурецкой карте на территории Армении написано АЗЕР.
– Откуда ты всё это знаешь?
– Про всё это я узнал с великой радостью, у меня прямо разрывается сердце от этой радости.
– Мои товарищи по боксу в Баку все были армяне и ни на минуту не дали мне почувствовать свою национальность – про разницу. Перчатка – перчатка, бой – бой, на что мне какая-то пантурецкая карта?
– Об этом поговорим после.
– Не нужно. Ни сейчас, ни после.
Смуглая женщина стояла, облокотившись о подоконник. У её ног сидел Виктор – так сидят обычно узбеки на ковре, но Виктор сидел на полу. У нас были две бутылки красного вина. На кончике сломанного стула примостился Эльдар. Максуд полуприсел на тумбочку. Со стаканом в руке я прислонился к двери. Это был мирный славный союз моих друзей. Вот этот вот этому помог избавиться от неприятной болезни, этот для того раздобыл бог знает какими правдами-неправдами тёплый шарф, в течение часа они собрали мне денег на билет, на апельсины, ананас и печенье и проводили меня в аэропорт, чтобы я слетал, повидал своих детей, этих двоих избили на футболе… Сейчас три часа ночи. Население земного шара 4.000.000.000 миллиардов. Столько боли и столько слабости, столько родин и столько желаний… Онасис подарил жене бриллиант в сорок каратов. Что такое карат? Грамм? Мой дядька Хорен спросил как-то: четыреста грамм – это сколько? Жена Онасиса нацепит этот бриллиант себе на пузо, и будет на свете, таким образом, одно пузо, один бриллиант и вой голодающих китайцев, не сводящих глаз с этого бриллианта и с этого пуза. И слава богу, благодарение господу, что сохранились ещё на свете день и ночь, солнце и дождь, зелёное и красное, мужчина и женщина, родная земля и ностальгия. Миллионные орды голодных китайцев потянутся к пузу Онасисовой жены опять-таки через Закавказье. И исчезнет, будет растоптана красивая память о родине.
– Выпьем, господа, и скажем себе, что завтра воскресенье.
Чтобы Халил-паша не услыхал дыхания Цмакута – старики и мальчики разрушили все дома – мол, одни развалины только – не село. Собакам завязали морды, чтобы не лаяли. Зерно всё закопали. Скотину всю – коров, овец, кур – спрятали в лесу, в самых глухих, глубоких балках. Для грудных младенцев подвязали к ветвям люльки. И выглянули из укрытия: небо было по-осеннему ясное и чистое, село – сплошь в развалинах, но посевы – на ближних склонах – зеленели вовсю. И они так и не придумали, как им быть с этими посевами, как спрятать их. Молодые мужчины Цмакута вышли из разрушенного села, прошли на один день пути и выстрелили из кустов по армии неприятеля, мол, вот мы где, а больше, мол, нигде людей нету. Войско Халила-паши свернуло с тропинки, ведущей в Цмакут, направили пушку на кусты, и пушка зашвырнула туда с десяток снарядов, потом один из всадников паши промчался и обезглавил раненых. Но было что-то подозрительное во всём этом – и они похлопали глазами и прислушались к голосам – зелень на склонах гор была оч-чень подозрительна. На рассвете взорвалось – ку-к-ка-ре-к-ку-у-у!.. доброе утро! – жизнерадостно прогорланил цмакутский петух – доброе утро всем! Мой дед Симон крадущимися шагами пошёл-пошёл и – я тебе сейчас такое кукареку покажу – ухватил за хвост и повалился на петуха. И затаив дыхание среди полной тишины – подождал. Он почувствовал, что грудь ему заливает какая-то тёплая грязь. Но встал, только когда турки удалились от разрушенного села. Когда рассвело, он поднялся и с отвращением оглядел себя: петух под ним раздавился. Старики в селе долго ещё потом, улыбаясь, говорили нам: ваш дед Симон целый месяц с растопыренными пальцами ходил и руки всё за спину отводил.
Резко прозвучали в коридоре чьи-то шаги, быстро приблизились – пустой коридор прямо загремел от них, – потом решительно прошли мимо. Смуглая женщина сползла с подоконника, и был некрасивым её прыжок с широко расставленными коленями. Покусывая губы, она прислушалась.
– Вряд ли это он, – сидя на полу по-турецки, поднял голову к ней Виктор Игнатьев. – Напрасно ты ему позвонила.
Женщина пожала плечами. Эльдар глотками пил вино, Максуд подмигнул мне. Эльдар, приблизив стакан к губам, то ли собирался засвистеть, то ли нет, он смотрел на вино в стакане, потом отвёл взгляд от стакана, как-то не видя, посмотрел на меня, на Максуда, на Виктора, на толстые колени нашей гостьи. Потом он встал.
Пронзительные шаги в коридоре снова ожили, стали приближаться.
– Ну, так как, твой ребёнок всё ещё страдает газами? – сказала эта женщина.
– Мой?
Она рассеянно кивнула – да.
– Ну, газы и газы.
«О моём чистейшем, светлейшем ребёнке эта дешёвка…»
Ударив меня по спине и по затылку, кто-то швырнул меня к стене: голова моя ударилась о стену, в глазах потемнело, где-то близко, словно в чужом теле – не моём, остро вспыхнула на мгновенье и погасла боль, очень грязный пол приблизился, возник почти у самого лица и пропал, сейчас по лицу ударят ботинком, я ухватился за перекладину кровати и понял, что держусь, не упаду, но тут какая-то тяжесть со всего размаху опустилась на мой лоб – железо, сейчас мой мозг вывалится на очень грязный пол, быть отцом детей и быть растоптанным под ногами, как последний щенок. Стакан, который я держал в руках, разбился. Кто-то ударил женщину по лицу и сказал – вставай. Не ножом ударил. Этот пиджак я где-то видел. Он пнул ногой Виктора и сказал – поднимайся. Стакан был разбит, я ударился лбом об дверь. Он снова ударил женщину, и женщина тихо попросила:
– Не надо, Саша, не надо, милый. – Он ударил её, и она не закрывала лицо, не отворачивалась.
– Эй, эй, эй, так нельзя. – Эльдар встал между ними и оттолкнул его.
Нет. Нет, это не был муж Евы. Я сжимал в руке осколки стакана. Лицо моё было залито вином и грудь тоже, на глаз мне скатилась капля вина, где-то близко поблёскивала, как улыбка, золотая оправа Максудовых очков. Он подмигнул мне, и было непонятно, чего это он, собственно, размигался тут. Влюбиться в Еву Озерову и чтоб тебя измордовали, как школьника.
Максуд обнял меня.
– Что ты смеёшься, отпусти. Отпусти, я ничего не сделаю, пусти меня.
Я медленно приближался к нему, и то, что Максуд, готовый схватить меня, следовал за мной по пятам, вызвало во мне внезапное и сильное желание ударить. Рука моя полоснула по воздуху, осколок стакана ударился обо что-то и посыпался где-то стеклянной пылью, я еле достал ногой до спины этого пришельца. Он обернулся ко мне и сказал:
– А ты тут ещё кто?
– Я – это я, ты лучше скажи – кто ты. Максуд, оставь меня.
– Я тебя не знаю.
– Максуд, пусти, пусти, я скажу ему, кто я такой.
– Саша, милый, не надо, Саша!..
Он меня как следует стукнул со словами:
– Ты подонок, вот ты кто. – Но, кажется, я тоже сумел так изловчиться и ударить его ногой, но тут снова затесался между нами Максуд, потом в моей руке оказался сломанный стул, мне хотелось плакать, ещё немножко, и я уже собирался опустить этот стул на них – на обоих сразу.
Эльдар отнял у меня стул. И зашептал на ухо:
– Брат мой, брат мой, – он успел поцеловать меня то ли в щеку, то ли в глаз и отобрал у меня стул. И вдруг стало очевидно, что на одну глупость нанизывалась вторая. Он усадил меня на этот стул и прошептал: – Спасибо.
– Ничего, – сказал я, – ничего. Всё хорошо.
Моя рука была вся в крови, стена была мокрая от вина, на постели валялись осколки от стакана, а смуглая женщина молча обливалась слёзами возле подоконника. Виктора Игнатьева в комнате не было, Виктора Игнатьева нигде не было. Максуд старался быть серьёзным, но улыбался, и меня это очень обижало. Я почти ненавидел его.
– Тот, что вот здесь сидел, был Виктор Игнатьев?
Эльдар медленно поднял голову:
– Ну и что?
– Ты спрятал его.
Эльдар стал разливать вино.
– Ваш друг Виктор Игнатьев сбежал.
– Да?
– Поэт!.. Пошёл писать поэму о храбрости!
Максуд улыбался, сидя на тумбочке, Эльдар весь побледнел и сказал этому парню, который всё ходил по комнате – руки в карманах, Эльдар сказал ему:
– Вина с нами не выпьешь?
– Куда смылся ваш товарищ?
– Сейчас скажу, пойди убей его.
Максуд вытащил из кармана платок, сказал мне:
– Перевяжи руку. – Потом, улыбаясь, подошёл, сам разжал мне ладонь. Ладонь была в крови, так что и порезов не видать было. Он счистил кровь и перевязал мне руку, но я был на него обижен. Я даже не смотрел на него.
– Идём домой, Надя.
С застывшим взглядом женщина уставилась в землю.
– Твоего писателя нет, сбежал твой писатель, Надя, идём домой.
Женщина повела плечом и не сдвинулась с места.
– Позовите. Убить не убью, поговорим просто, как мужчина с мужчиной.
– А вина не выпьешь?
– Вино я и сам могу купить, спасибо. Идём домой, Надя.
Женщина глядела в пол, она что-то прошептала, никто не расслышал, что.
Он встал против женщины и сказал:
– Идём домой, Наденька. Надюша, пошли домой.
– Саша… Я не пойду в твой дом.
– А что же ты позвонила мне?
Женщина пожала плечами.
– Твой поэт сбежал, Надя, одевайся, пойдём домой.
– Мы танцевали, у меня было хорошее настроение, и я позвонила.
– Что я тебе, ребёнок, что ли?
– Прости меня,, я не буду больше звонить.
– Значит, твои поэты получили стипендию, вы танцевали, тебе было хорошо, и ты вспомнила про меня?
– Да.
– И позвонила?
– Да.
– Чтобы сказать, что счастлива без меня?
Женщина подняла голову и растерянно посмотрела на него. Он нарочно так говорил, нарочно искажал смысл этого звонка, чтобы был повод снова ударить её.
– А? Что счастлива без меня?
Женщина, не мигая, смотрела на него, потом сказала:
– Да.
Он её ударил и беспечными шагами гуляющего по парку человека пошёл к двери. Он ударил её, как специалист, со знанием дела, наотмашь. Теперь лицо Максуда слегка исказилось. Эльдар поднёс стакан к глазам,разглядывал что-то там не существующее и беззвучно свистел. Проходя рядом со мной, этот парень сказал:
– Ты тоже пишешь поэмы? – он замедлил шаги возле меня и сказал: – Напиши, что лётчик Локтев стукнул меня по лбу.
– Я ударился об дверь, – сказал я, – это не ты ударил, ты меня не можешь стукнуть, ты можешь бить только женщин, – но он, не обращая внимания на меня, снова встал против своей жены и играл носком ботинка.
– А? – сказал он ей. – Что счастлива без меня?
Женщина посмотрела на него презирающе и сказала: да. И он снова ударил её:
– Даже по ночам? – Руки его были в карманах кожаного пиджака, и он всё время играл носком ноги.
Женщина, не мигая, смотрела на него. Я встал, чтобы уйти, возле двери я снова услышал звук пощёчины. Я оглянулся, он шагами гуляющего по парку человека направлялся к двери. Поравнявшись со мной, он как бы дружески подмигнул мне, так же дружески, коротко, ударил меня по локтю и с фальшивой улыбкой попросил:
– Ты, молодой человек, хороший парень, как мне кажется, пойди приведи сюда Виктора Игнатьева. Буду очень благодарен.
И я увидел, что не могу сердиться на него и совсем не хочу с ним драться.
– Сегодня не выйдет, – сказал я, – договоримся, может быть, придёшь завтра.
– Сейчас, – бросил он через плечо, направившись к жене.
– Фу! – Я вернулся, сел на сломанный стул и сказал: – Виктор Игнатьев – это я.
А он опустился на колени перед этой женщиной, он бросил мне через плечо с деланным удивлением – неужели? – и, стоя на коленях, взмолился:
– Надя, Надюша, Наденька, прошу тебя, идём домой.
Женщина шевельнула губами, сказала неслышно – не пойду.
– Надя, прошу тебя.
Женщина покачала головой и прошептала: нет.
– Ой, – будто бы отчаявшись, он уронил голову на грудь, побыл так немножко и поднялся-вскочил. И, встав перед женой, ударил наотмашь одной рукой, потом другой. Вроде бы начиналась озверелая, не на шутку потасовка. Я пошёл, встал перед ним. Максуд подошёл, встал между нами. Эльдар Гурамишвили весь сжался и разглядывал вино в стакане: Эльдар когда-то два месяца сидел в тюрьме или был отстранён от работы, не знаю точно – в его кавказской жизни есть какая-то тайна, случай, линия – кривая, как старая тифлисская улочка, – то ли радуясь, то ли усмехаясь, он говорит иногда, что как хорошо, что его друг – я, что мы такие друзья, пишем сценарии, пьём молоко, смотрим картины. Этот, в пиджаке, собирался снова ударить.
– Слушай, – хватая его за рукав, сказал я, – выметайся отсюда на улицу. Хватит.
– Значит, Виктор Игнатьев – ты, – сказал он мне и ударил жену.
Я оттащил его – он был крепкий, как футбольный мяч.
– Надя, идём домой, – и снова ударил. Не меня – её.
Женщина грустно усмехнулась и прошептала:
– До чего ты мерзок.
– Верно, Надюша, всё так, – он поднял глаза, и в глазах его стояли слёзы. И, всхлипнув, он снова ударил.
Я встал между ними. Он посмотрел на меня невидящими глазами, и в этих глазах были слёзы. Я хотел попросить его, чтобы он перестал, он оттолкнул меня, я упал спиной на очень мягкую грудь или живот этой женщины. Максуд выволакивал меня из этой свалки, я не давался, и вот тут-то он двинул меня как следует по подбородку. И ногой – по лодыжке.
Потом он рвался к двери, Эльдар удерживал его, а Максуд улыбался. Женщины не было. Эльдар запер дверь, спрятал ключ в карман и сказал ему:
– Выпьем по стаканчику.
– Открой дверь, прошу тебя.
– Не ломай казённую дверь, Саша.
– Отдай ключ, умоляю.
– Хочешь, приведу Виктора, выпьем все вместе?
Вдруг Максуд захохотал. Я посмотрел на него, он смеялся, уставившись на меня. Я разозлился:
– Что ты всё время смеёшься?
– Саша, – сказал он смеясь, – ты должен выпить с нашим Геворгом.
– Отдайте ключ, ребята. – Он плакал.
Максуд подвёл его к столу, дал ему в руки стакан и сказал:
– Конченое дело, Саша, напрасно ты глупости вытворяешь. Выпейте вот с Геворгом, я тоже выпью. – И он снова улыбался, этот Максуд.
– Ты над кем издеваешься, а? Подонок.
– Над тобой, но не издеваюсь, смеюсь.
– Над чем тут смеяться?
– Схлопотал целых три раза.
– А ты ему помогал. Дай я тебе скручу руки, а он пусть бьёт – посмотрим, что будет.
– Я не помогал ему. – И Максуд снова сказал этому, в пиджаке – Саше: – Выпей с Геворгом.
Тот молча плакал:
– Что вам надо?
– Ты избил Геворга, ты должен выпить с ним.
И этот, Саша, медленно повернул ко мне лицо, его маленькие синие глаза были мокры, закрыл их, крепко сжав губы, встряхнул головой и прошептал, открывая глаза:
– Ну ладно.
– Геворг – ты? Геворг, – улыбнулся мне Максуд.
Эльдара взорвало:
– Оставь в покое Геворга, слышишь! Или хочешь, чтобы он избил этого бедного молодого человека. Улыбается себе и улыбается, не его избили, не его жена сбежала с другим, сидит себе и радуется.
Максуд снова улыбнулся, ничего, мол, ничего, говори, свои люди.