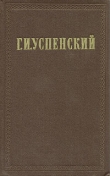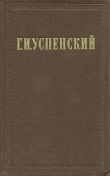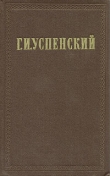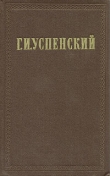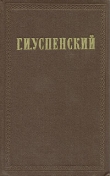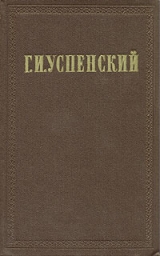
Текст книги "Том 6. Волей-неволей. Скучающая публика"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
Искренняя, непритворная боль и ненапускная досада, слышащаяся в воплях совершенно неосновательных и нерезонных, сбила меня с толку и спутала все мои соображения. Не помню и не могу сказать, вследствие каких логических или нелогических сцеплений мысли я к концу дня нашел почему-то необходимым опять пойти к моему знакомому «человечку», несмотря на то, что уже вчера дал себе слово ни в каком случае и никогда не посещать его. Сам не знаю почему, но мне показалось, что там, в реставрированном обиталище «человечка», я как будто бы чего-то не досмотрел.
Пошел и наткнулся на шумное сборище гостей; были святки, и у человечка происходило что-то вроде маскарадика. Пяти минут пребывания в этом веселом обществе было для меня достаточно, чтобы почувствовать на душе что-то донельзя нехорошее. Все были чрезвычайно веселы («давно мы так не веселились!» – сказала сама хозяйка), все стремились быть, если можно, еще веселей, еще развязней, шумней; все стремились как бы наверстать утраченные годы какой-то вынужденной опечаленности. Боже мой, с каким усердием и усилием сам мой знакомый человечек, его жена (когда-то вздыхавшая о невозможности пострадать) и все остальные гости, которых в старину я встречал у этого же моего приятеля, только под совершенно другими веяниями времени, – боже мой, с какими усилиями все они старались восстановить позабытое значение кадрили, бестенденциозной потехи, простого смеха! Как все это к ним не шло, как все это было неуклюже, жалко и скверно… Марья Андреевна Кукушкина, которая в былые годы, я помню, изнывала в тоске по собственной негодности, плакала о том, что у нее нет средств учиться и т. д., вдруг теперь, когда она стала в три раза старее, в три раза толще, когда уж ее собственные дочери ходят в гимназию, вдруг теперь явилась в тирольском костюме, в коротенькой юбочке, обнаруживавшей икры ног, и какие говорила слова!.. Нет! Описать усилия, которые делали виденные мною гости, чтобы разделаться даже с воспоминаниями о «вчерашнем» дне, – невозможно!.. Выражение лиц, на которых отпечатывалось удовольствие дурости, не может быть передано мною достаточно рельефно.
Нечто подобное, впрочем, приходилось видеть мне и прежде. Был у меня в Москве один знакомый молодой купчик, начавший торговлю на «рациональных началах» и стремившийся быть до мелочности честным и аккуратным. Вероятно, дела его пошли не так хорошо, как бы он желал, и я стал замечать в нем сначала тоску, потом какую-то удручающую мрачность; на мои расспросы он отвечал, что его «мучат» обязательства, «мучат» предложения разделаться с этими обязательствами, предложения, хотя и выгодные в практическом отношении, но нравственно непереваримые. По временам страдания его были так велики, что физически сокрушали его: он ходил удрученный, сгорбленный, подавленный и в самые горькие минуты мечтал даже о самоубийстве. Случилось, что я должен был неожиданно покинуть его и не видался с ним по крайней мере полгода. В течение этого времени, он, должно быть в минуту крайнего душевного расстройства, решился последовать чьему-то злому совету и вдруг совершенно преобразился. В эту-то минуту я увидел его опять и не узнал: вместо того чтобы застрелиться, он отказался платить, словом, «надул», прошел все подходы и подлоги и достиг того, что в это время и фигура, и выражение лица, и манера его сделались точь-в-точь такими же, как манеры и выражение лиц у гостей, собравшихся на вечере у «человечка». Купчик, решившийся поступать «без совести», также вдруг как бы расцвел, стал кутить, распутствовать, даже, по-видимому, без особенной надобности; без особенной надобности фордыбачил, скандальничал и вообще сделался необыкновенно смелым в свинстве, сам вызывал на упреки в нем и как будто радовался, что никакой упрек на него не действовал. Выражение лица его было наглое и придурковатое, точь-в-точь такое, как у многих на этом маскарадном вечере, где и все гости, казалось, решили не платить «долгов своей совести», хвастаться тем, что их не удивишь никакими упреками. До того было тяжело смотреть на реставрацию кадрили, что я не знал, куда мне деться, и в то же время не мог двинуться с места.
Насилу я ушел; на лестнице ясно слышался шум веселья, происходившего в квартире моего приятеля, стук разучившихся танцевать ног, звуки пьянино, пение, шум, громкий, бестолковый хохот и говор, в котором, не знаю почему, мне слышалось по временам: «Довольно! Довольно! Довольно! дайте и нам! И нам дайте!»
. . . . . . . . . . . . . . .
4
На улице, занесенной белым, чистым, пушистым снегом, на морозном чистом воздухе я очувствовался, и во мне вдруг разлилась какая-то горячая жалость ко всем и ко всему, что я видел, о чем думал и чем беспокоился в последнее время. Все, что до сих пор меня возмущало, поселяло и возбуждало во мне отвращение, вдруг все это потонуло во впечатлении какой-то огромной драмы, поистине раздирающей душу. Уж не наглое лицо человека, чувствующего, что хотя и помощью подлости ему удалось снять с души тяготу обязательства, вспоминалось мне теперь, а вспомнилась маленькая, молодая, чуть-чуть не ребенок, слабосильная, плохо кормленная клячонка, которая под градом ударов кнута выбивается из сил, стараясь стащить дровни с огромным грузом камней. Под дровнями нет капли снегу, и ей приходится тащить каменный воз по камням. Она рвется, каждую секунду делает новые усилия напрячь последние остатки сил и, наконец, как бы в каком-то истерическом состоянии, начинает рваться из этих пут, от этого кнута, от этого воза, от этого хомута… Она беснуется, рвется в хомуте до удушья, до удушья рвется из хомута, дрожит, «выбалтывает» голову; ей во что бы то ни стало надобно уйти, уйти от этой невозможной для ее сил работы, уйти, только уйти!
Нет, не мужик измучил, истомил и задушил нас полушубком; не мужик не дает нам проходу, не от него мы кричим: «дайте вздохнуть!» «довольно! довольно!» И вовсе не на него мы негодуем. Напротив, мы все, от верхнего края до нижнего, очень им довольны, и любим его, и даже просто-напросто дорожим. Мы очень рады, что он носит нам дрова, топит печи, чистит сапоги, возит, пашет, поит нас молоком, кормит мясом… Я по крайней мере не знаю примера, когда бы по этому случаю где-нибудь в литературе раздался негодующий голос. Ни один писатель еще не кричал, что мужик задушил его своей услужливостью по части всякой черной работы, измучил тем, что не дает возможности самому чистить выгребные ямы. Нет, «такому» мужику все чрезвычайно рады; от времени до времени мы даже «гордимся», что у нас есть такое славное всестороннее существо, такой надежный потомок таких же надежных предков…
Кричим мы вовсе не от мужика, а от той «язвы правды», которую мужик возбуждает в нашем сознании. И говорим и делаем еще многое, но, к нашему несчастью (или счастью!), мы не можемговорить и делать с легким сердцем, так как в нас уже сидит эта несносная, но неминучая, неизбежная, «язва правды», которая заставляетнас понимать, что именно мы делаем. Нам бы хотелось жить, ошибаясь, заблуждаясь, поднимаясь и падая, как жили «прочие», но опять-таки нам невозможно делать этого, не зная, что мы ошибаемся, заблуждаемся. Нет, мы знаем, знаем это!
Разумеется, я говорю о человеке, имеющем хотя какое-нибудь соприкосновение с книгой, о человеке развитого сознания. Что ж делает с нами книга? Выяснив нам все ошибки, уклонения, падения и т. д. (которых мы сами бы хотели отведать, чувствуя, что в этом «жизнь») – и тем самым лишив нас аппетита повторять то же самое, а главное, отравив нашу мысль тягостной необходимостью непременно думать правильно и правдиво,то есть умертвив в нас всякое своевольство, прихоть, фантазию – эта самая книга на последней странице преподносит нам целый воз, тяжело нагруженный камнями горя человеческого, и неопровержимо доказывает, что нам надобно сдвинуть с места этот непосильный, тяжелый груз. Я хотел бы погулять, потанцевать, поваляться на травке, пожить, поплутать и в тьме и в свете… «Ведь вот, у прочих народов, – думаю я, – сколько ошибок и сколько злодейства, но сколько же и жизни, сколько красоты и поэзии, всего! Оперу напишут из тогдашних ошибок и кровавых глупостей, так любо-дорого смотреть! Вот бы и нам… Что за беда ошибиться?.. Опера потом, с хорошей постановкой, сойдет… поэма…» Нет! «Последняя страница» не дает мне и помечтать; она насильно вытаскивает меня из привольной полутьмы прямо в океан света, запрягает меня, с собственного моего согласия, в тяжелейший воз, нагруженный целою горою обязанностей, и заставляет сознательно надрываться в этом хомуте! Вот отчего кричат: довольно, довольно! Мы кричим от тяготы нашего сознания, которое давит нас, потому что наша мысль не может не считать этого гнета действительною правдою.
Русский сознательный человек в своем духовном развитии волей-неволей должен брать из опыта общечеловеческого непременно последнее слово,точно так, как он должен брать игольчатое, а не кремневое ружье и т. д. И все последние слова говорили ему, что он как личность, как «сам по себе», как существо своей воли не может существовать. И мы приняли эти последние слова в самом подлинном виде, в неприкрашенном, в жестоком даже; в нас поэтому всего сильнее воспиталось отсутствие сознания личного права, личного разнообразия желаний, энергии, личного своевольства. Иной украдет миллион и даже прокутить не сумеет: начнет извозчикам давать на водку по сту рублей. Личная впечатлительность в нас ослаблена и ослабляется «последним словом» мысли человеческой ежеминутно – это во-первых; а во-вторых, будучи так ослаблены по части личного эгоизма, мы, благодаря тем же последним словам, воспитываемся в сознании нашей обязанности пред всем человечеством… Вот тот хомут, из которого мы, выражаясь мужицким языком, «выбалтываем» голову и кричим: «довольно, довольно!»
Воображаю, какие мучения должен был испытывать, например, наш славный предок, Алеша Попович, когда на него вдругнагрянуло христианство, восемьсот лет разрабатывавшееся за тридевять земель… Алеша Попович только было разгулялся, распьянствовался во стольном городе во Киеве, только было в нем заиграла кровь и сила богатырская, только было выучился он лить в себя турьи роги зелена вина и получил «скус» к тогдашнему дамскому полу – хвать, как снег на голову нагрянули на него и пост, и молитва, и воздержание, и покаяние и ад со всеми ужасами. Навезли схим, вериг, стали «для примера» зарываться по самую шею в ямы, проповедовать смирение, кротость, незлобие, нищету, «подставь ланиту», отдай имение… Что должен был перечувствовать и перенести нравственных мук бедный «добрый молодец». Ведь все это новое решительно ему не по вкусу, а ничего не поделаешь! В этом новом – правда, и Алеша запрягся в нее именно потому, что тут правда, что «совесть» его запрягла в этот хомут… И сколько раз вероятно, задыхаясь в этом хомуте, он вопиял: «довольно, довольно!» Вот и теперь тоже! Это драма, из которой два выхода: жизнь и смерть; смерть может быть всякая, по выбору, а жизнь для нас только в одном – в действительномопыте переработки собственной личности практическим, свободным делом во имя общего, массового счастия. Вот на этом пути мы можем и заблуждаться, и падать, и подниматься, словом, жить, развивать свои силы. Вот на этом-то пути мы и оперу «с постановкой» отыщем… Надобно подсыпать снежку под полозья тяжелого воза, помочь… А чтоб обращаться к восстановлению прав французской кадрили – нет, это не резон, и ничего из этого не выйдет, будьте уверены.
Так вот только после всех этих недоумений, размышлений и всех этих опытов выбраться из тьмы к свету, приведших меня к убеждению, что перед моими глазами происходит не реставрация французской кадрили, а самая настоящая драма, я и решился написать вверху белого листа бумаги давно знакомые мне слова «часть первая, глава первая…»
III. Возмутительный случай в моей жизни. – Опыт определения «подлинных» размеров и подлинных свойств «русского сердца»
1
Для начала моего беллетристического повествования прежде всего решаюсь рассказать самый возмутительный, самый бесстыдный и подлый факт, тяготеющий на моей совести. Факт этот принадлежит к числу тех «скелетов в доме», которые, увы! кажется, найдутся на совести всякого смертного и которые хотя раз в жизни до такой степени ужаснули человека перед самим собой и заставили его испугаться самого себя, что потом всю жизнь, по временам припоминаясь, заставляют его вздрогнуть всем телом, в ужасе закрывать глаза и стонать от нестерпимо мучительного воспоминания. Такие случаи не только никогда никто не решится рассказать самому близкому человеку, но, напротив, всякий старается таить их по возможности на недосягаемой глубине от внимательного, особенно же от дружеского взора, так как всякий «боится» вспоминать о них; боится вспомнить себя в тот возмутительный момент. Ни забыть их, ни вырвать с корнем, как бы того ни хотелось, невозможно; невозможно и доверить ни дальнему, ни близкому, их надо носить на совести, зная, что они не изнашиваются никогда.
Вот такой именно неисторгаемый из совести случай был и в моей жизни, и если я решаюсь сделать над собой невероятное усилие, чтоб рассказать о нем, если я решаюсь омрачить душу всякого, кому попадутся эти строки, омрачить сейчас же, омрачить глубоко, оскорбить и возмутить бесконечно, то пусть читатель знает, что я делаю это, во-первых, с невероятными усилиями, что я должен руку с пером удерживать другою рукою, чтобы она писала, не ушла от бумаги и чернильницы, и, во-вторых, делая это, терзаюсь и мучаюсь и хочу терзать и мучить читателя потому, что эта решимость даст мне со временем право говорить о насущнейших и величайших муках, переживаемых этим самым читателем…
Рассказываю этот возмутительный случай не для личного своего поругания и оплевания (это я делал и делаю с силою, все более возрастающею, по мере того как за моими плечами увеличивается пройденный путь жизни), а единственно только из уверенности, быть может и ошибочной, что факт этот имеет большое общественное значение, и не только не хочу смягчать его возмутительность, но даже долженне смягчать ее, должен показать этот факт во всей его потрясающей наготе. Для этого прежде всего надобно сказать несколько слов о самом себе.
Если вы спросите обо мне кого-нибудь из близких моих знакомых, пожелаете узнать, «каков таков Тяпушкин?», то я уверен, вы не услышите особенно дурных отзывов. Напротив, все вам скажут, что я человек хороший; найдутся даже такие, которые превознесут меня, у которых есть в руках факты моей несомненной доброты, внимательности к чужому горю. Не раз в разговорах обо мне мелькнет у того или другого расположенного ко мне человека даже и словечко о моем стремлении к «самопожертвованию», и фактов приведут достаточное количество, и на жизнь мою, действительно исполненную тяжких мучений, укажут не без основания в подтверждение того, что я не только болтаю об каком-то общем благе, но и на деле это доказываю и доказывал не раз. Конечно, я не велика птица, а человек черной, мелкой работы, но такая-то работа и трудна, а, как известно, верный в малом и во многом верен. Так вот такой-то «хороший», а для иных даже «превосходнейший» человек, Тяпушкин, который и в личной-то жизни похож на аскета – не пьет, не курит, не тратит на себя лишней копейки, довольствуется самым необходимым – вот этот-то самоотверженный человек, который не только болтает об общем благе, а и на деле и т. д… и т. д., такой-то человек однажды, много лет назад, сидя вечером около колыбели своего собственного четырехмесячного ребенка, мог думать такую черную думу: «Хорошо, если бы этот ребенок умер!» И дума эта была до того черная, что самоотверженный человек не спускал глаз с коробки спичек, даже руку к ней протянул. Прибавлю к этому, что никаких материальных забот, нищеты, безденежья – ничего этого не было. Напротив, средств было вполне достаточно, и все-таки самоотверженный человек думал не только черную, а прямо сказать – звериную думу… «Самоотверженный» человек, который пришел бы в ужас, в действительный, неподкрашенный ужас от газетного известия, что на такой-то фабрике мрет народ от червивой солонины, которою кормит рабочих подрядчик, мог, однако, позволить овладеть собою черной, звериной мысли о смерти собственного своего ребенка, мысли злобной, бесчеловечной, адской. А вот именно со мною, прекраснейшим (как говорит мой приятель Кукушкин) человеком, с самоотверженной натурой, именно со мной-то, с Тяпушкиным, и был такой возмутительный, подлый, достойный палача случай. А с вами, господа, не бывало ли чего-нибудь подобного, по крайней мере приблизительно?
Итак, вот он, этот возмутительный случай, рассказать который я мог только с огромнейшими усилиями, даже насилием над собой и над рукой, которая должна была все это написать. Все время, пока я писал это, я чувствовал, какую массу отвращения поселил я вдруг в душе читателя, как я оцарапал эту душу, как ни за что ни про что осрамил ее; я ясно видел, как передернуло у читателя лицо, покоробило весь его организм, я чувствовал, как отвратительно защемило у него в горле…
Теперь, когда я все это рассказал, у меня точно гора свалилась с плеч; какой-то жар ударил мне в голову, лоб мой мокр, точно меня облили водой, но мне несравненно легче, и я сам могу уж облегчить читателя. Прежде всего, конечно, необходимо успокоить читателя по части ребенка; я не только не привел в исполнение мою черную мысль, но до того ужаснулся ее, что волосы у меня встали дыбом, что я испугался себя и… убежал, убежал и от этого ребенка, и от жены, и от тепла и уюта. С этого момента в жизни моей начался совершенно новый период, о котором своевременно будет рассказано в этих записках самым подробнейшим образом. Новый период жизни начался и для моей жены и для моего ребенка. Чтобы уж окончательно успокоить читателя по этой части, скажу, что ребенок этот в настоящую минуту оканчивает курс в одном из видных учебных заведений, вполне обеспечивающих карьеру своих питомцев. Фамилия ему, разумеется, не Тяпушкин, а совсем другая. Не сегодня-завтра этот юнец займет хорошее и влиятельное место и… что греха таить? Иной раз я даже побаиваюсь: ну-ка судьба бросит меня ему в лапы? «Тяпушкиных» он уж и теперь ненавидит, а попадись я ему, ведь, пожалуй, упечет в места не столь и столь? Словом, по этой части читатель может вполне успокоиться: не пропал и не пропадет.
Гораздо труднее будет для меня успокоить читателя собственно относительно меня самого, моего гнусного и подлого поступка. Что ж, в самом деле, я-то, Тяпушкин, за фигура такая? Человек я или зверь? А сердце мое: точно ли оно самоотверженное или, напротив, каменное, железное, бесчувственное? «Всечеловеческое» оно или «всеволчье»? Эти вопросы давно терзали и мучили меня, не только по отношению к себе лично, а и вообще относительно русского человека. Ренан, в надгробной речи Тургеневу, характеризовал его сердце как всечеловеческое, лишенное «узости эгоизма». И я об этом думал не раз, но меня всегда смущал факт. «Положим, – думал я, – я человек „всечеловеческий“… ну, а как же это я своего собственного-то ребенка?..» Дело оказывалось, да и сейчас оказывается, как видите, весьма сложным; волей-неволей я должен вдаться в некоторые подробности моей, тяпушкинской, биографии.
2
Прежде всего необходимо ответить на вопрос, который, вероятно, предложит мне читатель, прочитав последние строки предыдущей главы: «на каком основании я, Тяпушкин, человек неопределенного положения, даю себе право соваться с разговорами о свойствах моего, тяпушкинского сердца в то время, когда речь идет о свойствах сердца такого человека, как Тургенев, и имею еще дерзость прицеплять это разночинное сердце даже к общерусскому сердцу, к сердцу общеславянскому, о котором говорил Ренан?» На этот вопрос я отвечу, во-первых, то, что именно только полное, как мне кажется, родство моего, тяпушкинского сердца с сердцем всероссийским (не скажу всеславянским – не знаю), а в том числе и тургеневским, и дало мне право, даже как бы обязало разговаривать о подноготной собственного моего сердца; и, во-вторых, то, что родство это полное и неразрывное – доказывается весьма просто тем, что все мы, от последнего сторожа до Тургенева и далее, живем и воспитываемся решительно одними и теми же условиями русской жизни. Все мы видим одну и ту же природу и если не одинаково воспринимаем, то воспринимаем одинаковые впечатления и природы, и людей, и семейных, и общественных отношений; кроме того, находясь в пределах России, все мы не можем миновать (за исключением небольшой группы высшей аристократии) обязательного для всех нас государственного воспитания и образования; тенденция сельского одноклассного училища и тенденция университета – одна и та же и т. д. Стало быть, разница может быть только в возможностях ослабить влияния воспитывающих впечатлений, или, напротив, в необходимости принимать их не иначе, как в самом голом, подлинном виде; степени восприятия их могут изменяться сообразно положению человека, но с сущностью впечатлений не может не быть знакома даже муха на всем пространстве России, не только человек. Сущность для всех одинакова.
В этом отношении, перебирая в своей памяти все те влияния, которые сделали мое, тяпушкинское сердце вопросительным знаком, я нахожу, что во всех этих влияниях не было ничего такого, чего бы не испытал и не пережил всякий россиянин; только мне, Тяпушкину, пришлось пережить эти влияния и принять их на свою шкуру и душу без послабления, без снисхождения, без каких бы то ни было мягких подстилок, искусственных средств, вроде возможности воспитать и вырастить себя вдали от жесткой действительности, в тиши уютного, теплого, обеспеченного дома, под руководством выписанных из-за границы учителей. Но и такой русский человек, который мог бы вырастить себя вне необходимости знать и принимать в расчет «подлинные» условия русской жизни, невольно должен знакомиться с этими подлинными условиями жизни, раз только он выйдет из своего обеспеченного уюта на улицу; воспитав себя, положим, на произведениях европейских мыслителей и проникнувшись уважением к собственному человеческому достоинству, привыкнув уважать в себе «человека», ценить свое «я», человек этот, однакож, никоим образом не может считать себя обеспеченным от подлиннейшего знакомства с постановкой вопроса о человеческом достоинстве у нас, на Руси, на улице, так как первый же визит в гражданскую палату, для заключения купчей крепости, первый же визит в почтамт, для отправки письма, легко и даже неминуемо натолкнет его на «нашу» постановку вопроса, докажет, что если он не даст двугривенного «Михалычу», который снимает шубу, так и человеческое достоинство будет попрано; Михалыч не укажет «настоящего человечка», и купчую не заключат, когда следует; а даст – так тотчас же и во всех отношениях окажутся изобильнейшие права. Заплатив таким образом за право проявления своего человеческого достоинства двадцать копеек серебром, человек, мнивший себя устраненным от этой грязи, должен знать, что не Дидероты и Вольтеры могут за него предстательствовать в обществе ему подобных, а лишь двадцать копеек серебром… А это большая разница!
Так вот эту-то «подлинность» условий, «подлинность» русской жизни я, Тяпушкин, принял даже без возможности внести двадцатикопеечное вознаграждение в видах снисхождения. Много бы можно было говорить об этой снисходительности ко мне жизни, но я не буду путаться в мелочах и запутывать мелочами главное, а прямо обращусь к главному, и главноеэто, по моему мнению, состоит именно в том, чтобы показать, насколько знакомые всякому русскому условия подлинной русской жизни, во всей своей совокупности, способствовали во мне, русском ребенке, потом юноше, потом взрослом человеке, развитию того самого человеческого достоинства, о котором только что говорено, и насколько сознание этого «достоинства» могло разработать, развить, культивировать мое, личномне принадлежащее «эгоистическое» сердце.
Отец мой, сельский священник, овдовел очень рано и, оставшись один с ребенком на руках (этот ребенок был я) отказался от службы в сельской церкви, перебрался в город и здесь получил тяжелое, почти подвижническое назначение: его определили священником при острожной церкви. Благодаря этому назначению я, постоянно находившийся при отце, с десяти – одиннадцати лет совершенно ясно мог видеть, что жизнь – это неволя, это безличное подчинение чему-то неведомому я непременно грубому, жестокому, и привыкал даже не сомневаться, если не в справедливости, то по крайней мере в неотвратимой неизбежности этого вывода. Чего стоил один вид из окон нашего пустынного, бессемейного трехоконного домика, назначенного от администрации под квартиру острожного священника, вид, на который я смотрел ежедневно целые годы… Домишко, как и острог, стояли за городом, близ кладбища, за городской заставой. Прямо перед одним из крайних окон нашего домика, окон, едва поднимавшихся от земли, – от той же земли поднималась кирпичная белая, рябая, нештукатуренная стена острога; она перерезывала наше окно снизу вверх, застила свет и уходила высоко вверх, налегая на весь наш домишко темным, никогда и никуда не скрывавшимся слоем черной и вечной тени. Даже из другого, не загражденного стеною окошка, виден был такой же рябой и такой же страшный своею плоскою невыразительностью фасад острога, страшный, как страшно рябое лицо человека, на котором оспа изгладила выражение. На этом рябом и страшном лице острога, большом и широком, глядели всего только три черных, как уголь, и маленьких оконца с железными решетками, а под ними черные, ржавые, скрипучие и лязгающие цепями острожные ворота, солдаты на часах, гауптвахта, на которой по временам трещит барабан, заставляя всех вздрагивать и пугаться, или кричит не своим голосом офицер. В то время иначе и не разговаривали с подчиненными, как не своим голосом. В дополнение к этому «виду» необходимо прибавить, что из тех же двух не загороженных стеною острога окошек виднелось прямо кладбище, вал, а за валом масса крестов, каменных памятников с плачущими фигурами, а направо от кладбища длинный желтый забор, которым был огорожен дремучий, темный сад сумасшедшего дома. С кладбища доносились плач и стоны; в «сумасшедшем саду», как выражались наши соседи, бродили какие-то тени людей; изредка их колпаки, надвинутые на бессмысленные лица, высовывались из-за желтого забора; нередко в глубине этого сада слышались бешеные крики, вопль и шум свалки, после которой между соседями шел такой разговор: «Кто-то, вишь, хотел убежать, вырвался… ударил ножом… погнались, догнали, повалили, избили, связали, поволокли»… Очень часто к этому рассказу прибавлялись и другие сведения, которые, однако, всегда были неприятны: «поволокли и – четыре ребра переломили… Поволокли – и голову проломили… скончался!» А в остроге? И в остроге часто бывало, что кто-то кого-то «пхнул ножом», и отца моего звали по этому случаю со святыми дарами. Но большею частью было мертвенно тихо: входили туда и выходили оттуда целые толпы арестантов, скованных по рукам и ногам, входили и уходили, молча гремя цепями, молча работали, молча молились в церкви, так что фигура безмолвного скованного человека, не будучи для меня понятной, стала, однако, обыкновенной, и вместе с этим обыкновенными, нормальными сделались и тоска, и безнадежность, и бессилие борьбы, которые неразлучно сопутствовали этой серой, с желтым лицом, в железо закованной фигуре. Иногда только тоска, уже обязательная для моего сердца, переходила в страх, холодный и ужасающий.
Спишь, бывало, и слышишь – стучит кто-то в окно: откроешь глаза, темная осенняя ночь, темная, как тюрьма. – Кто там? – немедленно спрашивает отец, вскакивая с своего дивана, который стоял в той же комнате, где спал и я.
– Ваше благословение, к «скрозь строю» пора!.. Приготовляются! – говорит с улицы сторож.
– Ах-ах-ах! да-да-да!.. Сейчас, сейчас! – отвечает отец, встревоженный, взволнованный, растерзанный, и начинает метаться по комнате, охая, восклицая: «Боже мой, боже мой!», читая молитвы, трясясь и трепещущими руками завертывая в епитрахиль святые дары, крест… «Боже мой! Боже мой!» Я не помню мгновений, когда бы отец мой не был в постоянной нервной тревоге: его ело собственное одиночество, этот острог, цепи, молитва, моя судьба, его судьба, неуют, бесхозяйственность дома. Его длинная сухая фигура в подряснике, с длинными женскими разметанными волосами, с лицом, как бы искаженным беспрерывной физической болью, до сих пор, припоминаясь, терзает меня; он постоянно вздыхал, тревожно входил и уходил, забывал то, что нужно, искал чего-то, что было уж у него в руках, целовал меня порывисто, плакал, ни слова; не сказав, и в промежутках пил водку, не закусывая и не пьянея. Никогда почти я не засыпал покойно; вздохи отца, восклицания его «боже мой! боже мой!» постоянно мучили меня, и даже заснув, я чувствовал в сердце непрерывную физическую боль. Отец мой почти не спал; всю ночь он ворочался, постоянно вставая, постоянно пил, становился на колени, ложился опять. Всякое появление сторожа из острога всегда заставало его на ногах.
– Поспешайте, ваше благословение!.. – прибавляет сторож с улицы.
– Сейчас, сейчас… сию минуту! Боже мой, боже мой!
И так же, как всегда, спеша, путаясь, роняя то, что брал в руки, надевая то, что не нужно, болезненно истерически тревожась и замирая сердцем, кое-как извлекает он из кухни старуху-кухарку, которая остается со мной и ложится на полу около моей кровати, а отец уходит… Я слышу, как он шлепает под окнами по грязи, как он вздыхает, слышу его: «боже мой!.. боже мой!» и лежу в ледяном ужасе… Тьма и тишина. Кухарка спит, но я не могу сомкнуть глаз – они широко раскрыты, а чуткость слуха достигла невероятных размеров. После нескольких минут мертвой тишины, по удалении отца, я слышу какой-то окрик – это опять «невероятным» голосом что-то командует офицер, и голос этот теперь спросонка и холода звучит особенно ужасно. Еще звук: это звякнули ружья… еще – заскрипели ржавые ворота… «Выводят!» – с ужасом думаю я… Если потребовали отца, стало быть, будет что-то ужасное… Еще звуки и шум, много голосов, много команды. Но вот на мгновение все затихло, и тотчас же в полу нашего домишки я замечаю что-то необыкновенное: какая-то неведомая сила, дух, начинает, как мне кажется, снизу, из-под полу стучать кулаком в половицы; стучит осторожно, мерно, но твердо… Я совсем замираю, задыхаюсь, но скоро начинаю соображать, в чем дело: нет, это не дух – это тронулся в путь отряд солдат, их человек пятьсот, они идут, в ногу, раз-два, раз-два, и вот эти-то шаги отдаются у нас в домишке, под полом. Удары становятся тише… солдаты уходят, наконец их совсем не слыхать… Настает действительно мертвая, невозмутимая тишина, но слух не мирится с нею, он наполняет ее ужасными звуками: они доносятся издалека, из-за кладбища… я слышу глухой, точно в глубине земли зарытый звук барабана, звук не прерывающийся… а рядом с ним тянется протяжный, непрерывный жалобный крик крошечного ребенка… Нет! это не ребенок кричит… это тот…Это огромный какой-то кричит детским голосом… Боже мой, где мой отец? А барабан стучит под землей долго-долго.