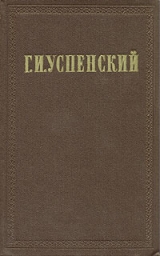
Текст книги "Том 6. Волей-неволей. Скучающая публика"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Но с 1861 года жалобная книга совершенно изменилась: точно хлынула со всех сторон полая вода жалоб, обид, оскорблений, требований: владельцы имений, мужья, жены, отцы и дети, – все принялось вопиять и жаловаться, все изливало свои беды.
«Вчерашнего числа, – пишет мировой посредник, – крестьяне (такие-то) вечером буйствовали, и когда караульщик их унимал, то они ему сопротивлялись и бесчинствовали, а потому предписываю тебе…» и т. д.
«20 сентября, – пишет посредник, – крестьяне (такие-то), а равно и повар, служащий у меня, Тверской губернии и уезда, Иван Андреев, уличены в краже у меня вечером курицы и петуха кохинхинских и цыпленка голландского, а равно – в жареньи их в моей кухне и ужине их вместе с водкою на моей же кухне, вследствие чего предписываю тебе…»
«Крестьяне селения Н., бывшие моя крепостные, отказались идти на работу и грубыми ругательствами обозвали моего управляющего, почему, доводя до сведения, прошу на основ… по всей строгости закона…»
«Крестьянин с. Ч. (имя рек) жалуется на крестьянина Алексеева о нанесении ему обиды ругательными словами, называя бессовестным, говоря: „ты дешевле меня стоишь…“ почему прошу взойти… об удовлетворении меня…»
«Крестьянин Н. жалуется о нанесении ему обиды крестьянскою девицею Анною Егоровою и разных неприличных слов с нанесением удара… почему взойдите в защиту…»
«Крестьянка д. Н. Наталья Яковлева жалуется на крестьянина той же деревни о нанесении ей побоев, причем Наталью от Никиты отнял даже Петр Михайлов, а почему взойдите…»
«Крестьянка Матрена Сидорова жалуется на мужа своего о нанесении ей увечий и побоев, на что ответчик показал, что он побоев ей не наносил, а как она непослушна, то соглашается, чтоб она отошла от него прочь, на что и Сидорова согласилась».
«Крестьянская девица Ольга Федорова просит на крестьянина Михаилу Иванова, что он обещал ее взять в замужество, чрез что она оказалась беременна, на чтоответчик показал, что на союз не склонял, а более потому, что она была в союзе с Дмитрием Михайловым, но миролюбно готов заплатить Ольге 60 руб. в три срока».
«Крестьянка Татьяна Терентьева просит на крестьянина Василья Яковлева о нарушении первого числа октября на Покров чести дочери ее Настасьи, которая в настоящее время находится беременною, и обещался взять в замужество, и на сию любовную связь имеется у нее письмо Василия, на что Василий показал, что за связь с Натальей им уплачено ей три рубля серебром, но в замужество он не обещался, а письма им писаны собственно в насмешку».
«Крестьянка д. Тушино просит поступить с мужем ее по закону о нанесении побоев, а также и о том, что ей не дают жить в людях, а потому и просит сделать распоряжение – ежели пожелает муж жить, то без свекрови, а ежели не пожелает, то она жить с ним не согласна».
«Жена крестьянина Марья принесла жалобу на мужа своего Андреяна в нанесении побоев и похваляется отомстить мне и пусть выдаст мне паспорт, на что муж ее показал, что побоев он не наносил, а что вышла жена его на улицу для свиданья и переговоров с крестьянином, служащим на железной дороге, с которым имеет грех, и когда я стал звать домой, то они скрылись, и на другой уж день она принесла жалобу о побоях, на что крестьянка Марья объяснила, что к мужу она не пойдет и чтобы дал паспорт».
«Крестьянин Семен просит на родного брата своего Никиту о недаче ему навозу, и чтобы Никита не делал ему побоев, на что Никита показал, что брата своего он не намерен бить, а нечаянно махнул возжами и попал Семену по губам, а Семен начал бить его палкою… Свидетели показали, что между ними идет обоюдная драка уж пятый раз, а четвертого июля они ходили друг на друга с вилами».
И так далее, до бесконечности: все зашаталось, все рвется из тисков, из нескладных условий, требует своего;все это, задохнувшееся в деспотизме свекрови, отца, мужа, жены, брата, рвется на свободу, не хочет покоряться и, вырвавшись, усиливает сумятицу то кабацким бесчинством, то кражей с голодухи, то кражей для смеха, то дерзостью для смеха и для собственного удовольствия, и надо всем этим столпотворением в ужасе стоят мочальные фигуры начальников, не ведающих никаких средствий, кроме палки, вопиющих о развращении нравов, вопиющих о том, что страха нет, страха, страха…
Нет! Страх давно уже не спасение в настоятельных общечеловеческих нуждах деревни, и старики,как специалисты по этой только части, как люди, не умеющие проповедывать ничего иного – будь это кстати и не кстати – кое-как еще терпятся новыми поколениями деревни, но уже не пользуются уважением. Хороший теперешний мужик, видевший школу, нередко куда лучше и разумнее любого старика даже в хозяйственных делах, и немудрено: он уже отведал «воли».
Теперь на волостном суде бывают иногда такие сцены:
– Господа судьи, – жалуется упрямый, нескладный и зараженный страхом и деспотизмом отец, человек несомненно уж прошлых времен, – прошу наказать моего Мишку. Способов мне нет, старику, жить с ним… Не слухает меня, мошенник, ни в едином слове… Пущай идет вон из моего дома и с жененкой своей…
– Что ж? – говорит сын. – Я уйду, да ведь ты помрешь с голоду… Кто тебя будет кормить-то? Ведь ты это зря ворчишь… Скучно тебе, потому что я тебе всякий покой дома делаю… Чего тебе надо? Я тебе отвел целую половину, а ты все ворчишь; печку тебе поставил, кофей пьешь, когда угодно. Чего тебе? Ну я уйду, ну что ты будешь делать?
– Не смей мне прекословить… Страху никакого нет, набалованы… непочетчики…
– Это вы, старики, точно что набалованы… Как была ямская гоньба, так вы никакого крестьянства не знали, только в трактире чай пили… А я, твой сын, сам с малолетства начал крестьянством заниматься, со слезми… Ты мне косы не дал, серпа в доме не было… Я – крестьянин и тружусь, работаю, и ты мне не указчик, потому – ты ничего не понимаешь; тебе бы только мудрить да пьянствовать, а смыслу в тебе нет нисколько…
– Вот извольте, господа судьи, слышать… Пущай идет из дому вон.
– Что с ним разговаривать, с глупым! Он и сам-тоне понимает, что у него язык болтает… Я даже сам могу его выгнать, только жалею… Ты живи-ка да бога благодари, а не мудруй!
– Ну вот что, Михайло, – говорит судья, – тытово… Оно точно, что старик обдурел… успокой ты его, уважь, за глупость за евонную… Глуп, это верно, только он тебе пуще надоест. Уважь его дурь древнюю – сядь хоть в темную-то на время, ну хоть на сутки…
– Будет что ль с тебя? – спрашивает сын отца, как спрашивал бы взрослый человек малого ребенка. – Потишеешь ли ты, ежели я день в темной просижу?
– Да хушь на день его, шельму, посадите, все ему наука.
– Наука! Тож о науке бормочет старый хрен! На двадцать копеек – иди чай пить… Нет ли, Иван Иванович, у вас какой газетки? Скучно ведь день целый сидеть…
– Газет нету! – отвечает писарь. – Книгу не хочешь ли?
– Какая книга?
– Пушкина сочинение: «История пугачевского бунта».
– Что ж? Давайте Пушкина. Сочинитель известный, я помню… давайте. Ну ты чего стоишь? Мало еще?
И вот старик идет в трактир – галдеть о непокорстве и пить чай и водку, а сын, не пьющий ни капли, сидит в темной с «Историей пугачевского бунта» в руках и находит, что Пушкин – хороший писатель… Темную даже и не запирали для него, зная, что из трактира придет отец посмотреть: «сидит ли?» И точно: приходил смотреть…
– Да сижу, сижу, не беспокойся! – отозвался сын из глубины отворенной тюрьмы, куда пришла к нему жена. – Иди, ложись спать, только уж потом смотри, не дури!.. Уж я, брат, тогда потребую от тебя послушания; не даром я сижу…
Недавно в нашей местности был такой случай: два брата крестьянина «посекли» родную мать.
– Как так?
– Да очень набалована…ничего не поделаешь!
С уничтожением ямщины и проведением Николаевской железной дороги масса крестьян, привыкших к легкой наживе, чаям, сахарам, наливочкам, подаркам проезжающих и т. д., принуждена была «сесть на землю», взяться за косу. Это пришлось сделать молодому поколению, ибо старое было уже набаловано.Таким образом, молодое поколение положило начало, почти по всему старому тракту, настоящему крестьянству, а старому осталось одно – допивать остатки и доживать свои годы. Вот из числа «допивающих» и была та набалованная мать, которую принуждены были учить родные дети. Пила она много и воровала у детей, у невесток разные вещи, которые и закладывала в кабаке…
Вот ее и поучили, для «ее же пользы». И как это ни жестоко, но и эта избалованная господами, проезжающими купцами мать и этот глупый старик, чувствующий успокоение расстроенной пьянством печени в заключении сына в «темную», в глубине души чувствуют превосходство детей их над собою во всех отношениях: они и умнее, и аккуратнее, и работящее. Допивая остатки, они чувствуют, что песня их спета и что дети лучше их. Не таков, однако, тот родитель, тот из оскорбленных временем и порядками отцов, с вдохновенными произведениями которого мне пришлось случайно познакомиться… Этот верит в правоту свою непоколебимо, не раскаивается и не прощает.
4
Вот что читал я в его рукописи, после того как он пошел осматривать все мое «заведение»: «Топор выпадает из его рук и адюльтер остается ненаказанным „что же мне делать теперь?“ восклицает муж, но в объятия его бросается маленькая дочь его Марта и занавес падает. Альбер Дельпи также порадовал парижан новинкой… Если бы ты долотом продолбил свою голову, то и в это время невозможно для тебя сообразить о моем уме, который может проникать повсеместно, единственно волею всемогущего творца. Безумец, говорю тебе: не хотяй смерти грешника! Успокой старость преклонного отца, который все средства содержания на тебя опровергнул, оставшись при конце дней в унынии и без помощи. Для того ли я жертвовал до последней капли на твое образование и просвещение? все решительно истощил как деньгами также и вещами, не упоминая о харчевом довольствии наставников твоих, между тем вижу в течение трех месяцев, не соблюдая постов и не почитая родителей, занимаешься недостойно просвещенного человека описанием всякой твари, кошки, собаки, какой-либо пень и тот дороже отца, почтенного от высшего начальства, и кровь свою источившего на твое образование, дабы под старость иметь опору. Отжени врага рода человеческого, призови бога всевышнего, омой слезами оскверненную душу и успокой родителя помощию от трудов твоих, ибо без меня не только образования, но и существования ты бы не имел…»
Месяцев через шесть после этого письма (под каждым письмом находился год и число) вдохновенный отец переписывает в свою тетрадь такое письмо:
«Его привеллебию отцу иерею Михаилу Остромыслову в селении Глушице священнослужителю всепокорнейшее прошение!
Сего числа известился я о сыне моем Симеоне, как будучи он по живописной части, снял подряд написания во храме селения Глушиц четырех образов суммою, сказывают, до ста рублей серебром – то как отец припадаю об удовлетворении меня в означенной сумме. Будучи преклонных лет и по слабости своего здоровья, которое все пожертвовал в ревности служения и почтен от высшего начальства – я из последнего моего соку, не жалея копейки, оставшей от трудов, и окончательно истощив всякие способы пропитания своего – все сие употребил для высшего просвещения сына моего Симеона, дабы под старость иметь утешение и денежное удовлетворение от его ко мне любви за мои труды и последние капли крови моей, коие я истощил на него, оставши нищим. Но зловредное учение социлизма, внедривши подобно какой болезни развратной, будучи он в Петербурге в учении – то не только чтить отца, но с гордостию считать стал дураком, а себя превыше всякого смысла как бы великолепного ума. Но как верую в творца вседержителя, то молясь денно и ночно и со слезами призывая бога в помощники с ангелы и архангелы, получил утешение в том, что согласился взяться он за церковную работу, а то все презирал. Ваше священное благоутробие! Отец иерей! внемли голосу престарелого старца! на краю пропасти могильной уже одною ногою близко нахожусь! Какие будут моему Симеону деньги, то я умоляю до последней копейки отнюдь не отдавать и все то неусыпно удержать до моего прибытия, так как я одного убытку для его просвещения понес все мое состояние и силы до последней капли крови. С умилением вопию к творцу и зиждителю и богу нашему, да не соблазнит тебя, священнослужитель, злоумышленная хитрость сына моего Симеона насчет выдачи ему под работу хотя бы трех рублей – не укрепится десница твоя в опровержении…»
Следующее письмо писано недели через две:
«Господину становому приставу первого стана... уезда Чихаловской волости Николаю Ивановичу Фиалетову.
Сокрушенное и всеподданнейшее со скорбию прошение:
плачущего отца, крестьянина Куприяна Муравушкина
противу сына его Симеона, забывшего бога и отца,
а потому и весь престол и отечество.
Как мы видим из ведомостей об учении зловредных сициилистов, которые хуже языческих кровопийцев, коине побоялись распять Христа, то как верный подданный и неподкупный земледелец и принявший присягу согласно священному писанию, то не дозволю себе впасть в малодушие, но иду к высшему начальству глаголя: „возьмите от меня его и распните!“ Отечество наше, которое имеет славное воинство и армии, и флоты и везде повсеместно прославлено – то ежели не будет повиновения, тогда держава должна прекратиться. Окончательно сказать даже иностранцы чувствуют сокрушение, видя повсеместное забвение бога: развращенный крестьянин, не имея страха, запрягает тощию лошадь, каковая только ковыряет пашню, но не пашет, чрез что появляется голод, недостаток средств для славы отечества, но становится против иностранцев на худом щету. И как сын предпочитает не повиноваться и уходит от отца жить отдельно, то ни скотины у него нет, и не пахота у него, а одно посрамление, чрез что не имеем весной дождей, а осенью заливает хлеба – от чего же все сие происходит? От неповиновения родителям, забвения бога, почему имею честь донести, что сын мой Симеон, на просвещение и образование которого я истощил последнюю мою кровь…»
Здесь следует почти то же самое, что и в письме к священнику. Рассказав о том, что после денно-ночной молитвы сын его, наконец, согласился взять церковную работу, старец продолжает:
«…Но не токма ста рублей серебром я не получил, но даже едва семьдесят пять рублей мог выпросить у него чрез священноиерея отца Михаила, причем отзывался об отце с ожесточением, называя тираном, каковой тиран истощивши на образование сына своего последние свои жилы и даже сок последний – едва к могиле может достигнуть, подобно младенцу невинному. И это все есть зло в неповиновении отцу, следовательно, сицилизм, через что происходит повреждение хозяйства, а также отечества, посрамление перед иностранцами и уничтожение державы. Ныне же известен я, что сын мой Симеон снял новый подряд в селении Колобове, поблизности становой квартиры вашего высокоблагородия уже в сумме до трех сот рублей серебром и с дерзостию возмечтал о вступлении в союз с девицею Феоклистою, живущею без отца при матере, каковая безнравственная девица не имея отца и надзора при матере потатчице – то сын мой Симеон может погибнуть и окончательно предать отца в забвение на голодную смерть. Почему, как верноподданный, не желая разврату державе, доношу вашему высокоблагородию обо всем чистосердечно с низкопоклонением, дабы повелено было строжайше арестовать онную сумму в триста рублей серебром, каковая сумма по закону должна быть предназначена отцу, издержавшему на образование сына все средства жизни, и привлечь к законной ответственности девицу Феоклисту за развратное ея поведение вместе с материю ея, что недозволеяо в законе. Слезами написаны эти строки мои, но как есть я раб престола и бога вседержителя, то хотя бы мне повелено было руку отсечь свою топором, то отсеку, не потерплю ниспровержения бога живаго и войду с прошением к господину министру, почему и прошу об удовлетворении меня в трех стах рублях».
После крошечного промежутка времени нацарапана копия с следующего прошения:
«В глушицкое волостное правление, в волостной суд, покорнейшее прошение.
Проживающий в с. Глушице родной сын мой Симеон, находясь якобы на хлебах у вдовы Аксиний Михайловой с дочерью ея Феоклистой предался непотребному поведению, намереваясь взять в замужество, то я как отец, не позволяю этого разврата и так как находящиеся у сына моего триста рублей сопсвенного моего капиталу захвачены им без позволения и оставляет меня без пропитания, то покорнейше прошу за неповиновение и развратное его поведение и наглые поступки подвергнуть телесному наказанию, арестовать сумму 300 р. в церковных деньгах впредь до разбирательства по жалобе моей в вышем месте и подвергнуть крестьянскую девку Феоклисту как за распутное поведение телесному наказанию, ибо по обоюдному ея с сыном моим распутному поведению меня постигает разорение и голодное состояние – почему и прошу на законном основании подвергнуть их строжайшему взысканию, о чем и доношу начальнику губернии и N-цкую духовную консисторию. Ежели мы будем послаблять, то не будет никакого повиновения, а это есть против бога и даже вся Россия может погибнуть… »
Далее следуют копии с бумаг: «Господину начальнику губернии…», «В святейший правительствующий синод…», «В третие отделение сопсвенной е. и. в. канцелярии…», «Г-ну жандармскому начальнику…»
Но я уж не буду приводить этих вдохновенных произведений. По тому, что уже было мною прочитано, можно было догадаться о содержании и других документов. Я не дочитал их и пошел возвратить рукопись автору.
Автор сидел в кухне и, очевидно, расспрашивал прислугу о моем поведении, и вид его был не смиренный и не благоговейный; но он тотчас же облекся в смирение и благолепие, как только в дверях появился я.
– Где ж теперь ваш сын? – спросил я.
– Помер-с, помер! А почему? потому, что в нонешние времена…
Затем между нами произошел непродолжительный разговор, вследствие которого, я уверен, вдохновенный автор тетрадки ушел от меня восвояси не в весьма хорошем расположении духа; я же расстался с ним с истинным удовольствием.
Хороший русский тип *
1
Все рождественские праздники мне пришлось провести не в деревне, а в Петербурге, и я уже решился было встречать в Петербурге и новый год, но какая-то необычайная тоска – результат всего виденного и слышанного в столице – до такой степени обуяла меня в утро тридцать первого декабря, до такой степени охватила все мое существо испугом и холодом, что я почувствовал непреодолимую потребность тотчас же уйти в свой деревенский уголок, к печке, к теплу, к одиночеству, тишине, книге и вообще к какой-нибудь,хотя бы также ужасной деревенской правде.
И вот, обуянный этим трудно формулируемым, но внезапным страхом и тоскою, я, не повидавшись даже с лучшими моими приятелями, мгновенно собрал свои пожитки и скоро, к величайшему удовольствию моему, был уже в вагоне третьего класса.
По случаю праздников народу было мало, в вагоне было просторно, то есть почти пусто, а стало быть, и хорошо. Спутниками моими по вагону были только двое: крестьянин – из числа «хозяйственных» народных типов – и пожилая дама.
Не могу припомнить, каким образом между нами завязался разговор; кажется, что причиною общей беседы был крестьянин, долгое время разговаривавший один, сам с собой, и невольно вызвавший на ответ сначала даму, а потом и меня. Но что замечательно, так это именно то, еще недавно невозможное обстоятельство, что мы, случайные дорожные знакомые, люди разного звания, положения, развития, как-то дружно повели разговор именно об этом нравственном испуге, испуге души, который мы все – и крестьянин, и дама, и я – увозили с собою из столицы.
В былое время шел бы между нами какой-нибудь пустяшный разговор; мужик говорил бы об урожае, об овсе и сене, о сыне, которого сдали в солдаты; может быть, и дама вспомнила бы что-нибудь из своей семейкой жизни, да, и мне пришлось бы разговаривать о чем-нибудь случайном, Отвечать на вопросы: «вы чьи будете? где служите, какая ваша должность, велико ли семейство?» – но теперь, и не только в этот раз (я езжу по железной дороге очень часто), а вообще в последнее время дорожный разговор, случайно встретившихся людей почти утратил характер, разговора о будничных делах и частностях жизни, а всего чаще прямо начинается с разговоров «вообще» или «вообче» и всегда имеет неопределенный, плохо оформленный вид несвязного бормотанья о чем-то, что чрезвычайно ужасно для всех нас, но что нельзя, невозможно определить, назвать точно одним, двумя словами.
Всем нам знакомо это ужасное, лежащее камнем на душе, тяжкое, многосложное, сбившее всех нас с кругу, с толку, теснящее и давящее грудь, пугающее ежеминутно и днем и ночью, и все мы, говоря об этом, родственном всем нам и не покидающем нас, людей разного звания, ощущении душевном, можем только перекидываться вздохами, иногда даже только обмениваться отчаянными жестами или фразами вроде: «Ужас что такое! То есть, знаете ли, просто не знаешь куда деваться!» и чувствуешь себя уже бессильным разменять эти жесты и фразы на текущие житейские недуги, ошибки, желания; все это сто тысяч раз было думано, передумано и все это сто тысяч раз должно было из передуманного сделаться переживаемым, и все пошло прахом, теперь возможны только жесты, выражающие присутствие в душе человека, измученного бесплодными размышлениями, чего-то умирающего, коченеющего, от чего только холод идет по всему существу человеческому…
И на этот раз разговор наш как-то сам собой сосредоточился на этом неразменном на реальные явления сегодняшнего дня душевном испуге, отчаянии перед чем-то «вообще». Что же такое в самом деле мы видели и слышали в столице? Все мы видели наших старых знакомых, людей нам близких, людей, с которыми мы прожили весь век, людей, которые пережили вместе с нами все то, что пережили и мы, но все – и мы от них, и они от нас – ушли и расстались с пугающею мыслью о нашем взаимном духовном упадке, нравственном унижении, падении, даже умирании духовной жизни и вообще в сознании близости для всех нас чего-то недоброго, тусклого, сурового и даже глубоко позорного.
Это тяжкое, гнетущее душевное состояние, всеми нами, случайно встретившимися в вагоне людьми, вывезенное из столицы (точно так же, скажу кстати, и привозимое нами в столицу из деревень), было до такой степени тягостно всем нам, что мы употребляли всевозможные умственные усилия для того, чтобы почти мимически выражаемое отчаяние перевести на реальную почву и разговаривать, придравшись к какому-нибудь тягостному для нас жизненному факту. Но каких бы фактов мы ни касались, все они как-то были ничтожны перед огромностью тяготы «вообче», терялись в этой огромности и как-то даже утрачивали свою отдельную, маленькую возмутительность.
Прежде всех и больше всех из запутанной массы впечатлений, сливавшихся «вообче» во что-то удивительно неожиданное и нехорошее, старался выбраться на дорогу к какому-нибудь реальному факту упомянутый, выше хозяйственный крестьянин. Он не бывал в Петербурге лет восемь; занимался хлебопашеством; но у него в Петербурге было много знакомых односельчан, торговавших дровами, сеном, камнем, занимавших места дворников, трактирных буфетчиков и хозяев разных дровяных, сенных и извозчичьих дворов; в прежнее время, когда еще не подросли его ребята, он также хаживал на заработки в Питер и возил туда и сено, и дрова, поставлял и камень, и кирпич. И никогда ни он не получал, посещая своих односельчан в столице по делам, таких не подходящих ни к чему впечатлений, какие вывез из столицы теперь, ни односельчане таких впечатлений не внушали ему: все они просто-напросто «делали дела», продавали привезенное, копили полученные деньги, думали о деревне, а окончив дела, заходили в трактир, слушали машину, пили чай и разъезжались по дворам и по домам. Ни в делах, ни в мыслях, ни в поступках не было заметно у них ничего такого, что бы было непонятно, необъяснимо, чего-нибудь такого, что было бы и удивительно, и ни к селу ни к городу, и в то же время страшно. А теперь вот есть, и есть в такой степени, что, повидавшись с этими же самыми дровяниками, сенниками, буфетчиками и трактирщиками, односельчанин их едет домой и понять не может: что такое творится? что сделалось с народом?
– Ну уж Петербург! – качая головой, бормотал хозяйственный мужик, хлопая руками о полы романовского полушубка и в недоумении качая головою. – Уж точно… да!.. Уж чисто, кажется, ума решивши. Перед истинным богом!.. Ай-ай-ай!
– Да что же такое, в чем дело?
– Да тут порассказать, так, перед богом, и слов таких не подберешь. То есть перед истинным Христом сказать ежели… так что это такое с народом?!.. так даже невозможно и сказать этого! Вот перед истинным богом говорю: чистое расстройство в уме пошло… ей-ей!
– Да все-таки в чем же собственно беда-то?
– То есть так спутавши народ, так сбивши в мыслях, даже… Да как же, позвольте вам сказать: человек, мой земляк – шестьдесят пять лет ему от роду – почтенный человек: семейство, дом собственный на Лиговке, – подгулял, например, и при всех, при жене и при дочерях – ведь невесты, перед истинным богом, невесты, взрослые девицы! – «поедем, говорит, Михайло (мне говорит; ей-ей не лгу вам), поедем в такое-то место!» – При детях и при жене, шестьдесят пять лет от роду человеку! Да это что! Это нельзя сказать всего, что с мозгами поделалось. «Поедем, говорит, погуляем!» И хошь бы что… постыдиться или что, или например… Ничуть, а чисто на отделку, при детях! Да что!
Говоря это и всячески желая выяснить подробности того удивительного «вообче», которое так поразило его наблюдательность в Петербурге, крестьянин, очевидно, чувствовал, что все это не то, что он ощущает, и выражение лица его то вдруг делалось смеющимся, то серьезным, то просто испуганным, и вообще отражало крайнюю спутанность и сложность полученного впечатления. Все, что он видел у знакомых односельчан относительно их «делов», все было то же, что и прежде: дровяники торговали дровами; сенники – сеном, содержатели извозчичьих дворов занимались извозом, – все было по-старому; но к этому старому делуприсоединилась какая-то новая, незнакомая ему черта душевной, нравственной нескладицы, нелепицы, чего-то совершенно недостойного уважения, словом, какой-то огромный нравственный изъян, схватить который метким словом он никак не мог, и вот почему он то жестами рук, то движениями головы, то выражением лица, быстро менявшегося и глуповато переходившего из серьезного в смешливое, хотел подсобить своей речи, но речь продолжала быть нескладной и продолжала касаться фактов, только частью дававших возможность понять то, что собственно его огорчило.
– Да что я вам скажу-то, господа почтенные! Вот богом побожиться, не вру, а истинную говорю правду. Эта самая дочь, девица, сейчас оделась, надела шляпку – марш! А я тут у ворот на извозчика сажусь! «Куда, мол?» А мне к Синему мосту. «Ах, говорит, и мне к Синему мосту, в Немецкий клуб. Довезите меня до клуба». И какой-такой клуб, не знаю. «Ну садись!» Поехали. «Что такое за клуб?» – «А, говорит, танцы, театры». – «А мать-то, я говорю, что ж, дозволяет?» – «Да что же мать? Мать – старуха. Нельзя мне с ней целый век сидеть». – «А женихи-то есть?» – «Сватают там каких-то, говорит, полотеров, либо ломовиков; только я, говорит, несогласна. Никакого, говорит, с ломовиком мне нет удовольствия. У меня, говорит, в клубе очень много хороших мужчин знакомых, угощают меня и уважают. Я ежели не найду хорошего жениха, так я согласна жить тут с одним женатым (ей-ей, истинный Христос, правда!). Я с женатыми лучше согласна, говорит, чем с холостыми. Потому – женатый жены боится и с нашей сестрой должен обращаться вежливо». Вот перед самым Христом богом говорю, как есть эти самые слова сказала! Да что еще! То есть… Да тут, боже милосердный!.. Одним словом…
И опять на помощь плохо выраженному словами впечатлению крестьянин пустил в ход и мимику лица, и жесты рук, то хлопавших в ужасе о полы полушубка, то творивших крестное знамение в удостоверение справедлив вости рассказываемого.
И хотя все мы, не исключая и самого рассказчика, чувствовали и знали, что то, что он рассказывает, только частица, того «вообче», которое нас всех напугало, но все-таки благодаря и этой частице мы имели возможность заговорить о каком-нибудь факте, о какой-нибудь ясной, общезнакомой нам частице, тысячной доле того, что угнетало нас вообще.
«Падение нравов» сделалось, таким образом, предметом довольно оживленного разговора. Оказалось, что у всех нас было накоплено по этой части множество материалов, почерпнутых нами в случайных разговорах в театральных и клубных залах, в массах всевозможных «собраний» мужской и женской толпы, которых теперь такое множество в наших городах, – материалов, касавшихся всех слоев общества и всех возрастов, начиная от гимназиста и до почтенного старца, члена свято-петровского филантропического братства, пекущегося о распространении идей религиозно-нравственного направления среди невежественных масс. Нехорошая, жуткая картина вырисовалась, пред нами, но меткое и умное слово нашей спутницы, пожилой дамы, рассеяло в нас впечатление срамоты и гнусности, к которому приводил нас в таком обилии, накопленный материал, касавшийся «падения нравов», – и то, что нам начинало казаться только срамотою, вдруг получило значительный и серьезный интерес.
2
Пожилая дама, о которой идет речь, женщина, впрочем, еще совершенно бодрая, живая, оказалась обладающею массой наблюдений по части всевозможных нравственных настроений, пережитых русским обществом за довольно значительный период времени. Она была постоянная обитательница города N, но также имела и постоянные связи с Петербургом ипреимущественно с педагогическим миром Петербурга. Ее дед, отец и покойный муж испокон веку были педагогами, содержа в г. N хороший частный мужской пансион, приготовлявший в высшие учебные заведения. В течение более чем пятидесяти лет пансион этот выпустил на свет массу молодежи, из которой иные давно уж старики, в чинах и в орденах, да и дети этих детей также прошли через ту же школу, где учились их деды и отцы. Из числа воспитанников этого пансиона вышло впоследствии много известных людей, имена которых и громки, и славны. Почтенная дама, с которой нам пришлось познакомиться, как оказалось, только недавно, и то по случаю смерти мужа, прекратила свое старинное родовое дело; но долгое и постоянное пребывание ее в кругу молодежи, среди которой она взросла и интересами которой жила ее семья, оставило на всей ее фигуре, на ее манерах и на всем складе ее мыслей какой-то неизгладимый след юношеской бодрости и молодой впечатлительности. Живость ее объяснялась еще и ее происхождением: дед ее был француз, оставшийся в России после двенадцатого года, а русская жизнь и работящая среда, в которой она жила всю жизнь, прибавили к живости ее природы какую-то серьезную простоту обращения; влиянием русской жизни среди молодежи можно объяснить и ту внешнюю особенность ее, которая у нас считается еще несомненным признаком нигилистки: седые, но густые и сильные волосы почтенной старушки были подстрижены «в скобку», как у мужиков и «студенток».








